Повесть
Опубликовано в журнале Знамя, номер 4, 2020
Об авторе | Эльза Гильдина окончила ВГИК им. С.А. Герасимова (мастерская документального и научно-популярного кино). Участник и победитель различных российских кинофестивалей.
Публикации прозы в журналах «Сибирские огни», «Октябрь», «Кольцо А», «Юность». Лауреат премии журнала «Сибирские огни» в номинации «Новые имена».
«…А ваше письмо (если только есть письмо) гуляет теперь,
не знаю где и придет ко мне, когда Богу будет угодно».
А.С. Пушкин в письме Н.Н. Гончаровой
1.
Ян Гали писал стихи. И прозу тоже. Стихи еще не печатали. И прозу нигде не показывал, об этом даже речи не шло. Страшно показывать. Как в пропасть шагнуть. Расплющит на дне собственного уныния. Долго матери с братом придется соскребать, чтоб до школы добраться — аттестат получать. Ведь с аттестатом еще поступать. И поступать не куда-нибудь, а непременно в Бауманку. На счастье, в аттестате оценки под стать этой мечте, бескрылой и хрустальной. И характеристика от классного руководителя Ольги Сергеевны подходящая: «…нес общественную нагрузку, оказывал шефскую помощь детдому в Вербилках, летом помогал при строительстве спортзала школы…». Иначе никак, школа и педагоги непростые. Ольга Сергеевна, например, на построении всегда строгая и розовощекая, гордилась тем, что ее бабушка когда-то была в ссылке с Лениным. И школа образцовая, с математическим уклоном и барельефами писателей по фасаду. Типовая постройка довоенных тридцатых годов и, значит, двойного назначения: в случае войны школа становилась госпиталем, ее классы с высокими потолками — палатами для раненых, а учительская — ординаторской. Но пока здесь из обычных детей насильно делали отличников.
У обычного Ян Гали все необычное, вплоть до имени. Но, кроме имени, ничего другого не замечают. Говорят, дескать, скрытный, себе на уме, все норовит оторваться от коллектива. Ян Гали и рад не отрываться, да его не особо принимают. Примерно с шестого класса начал отставать от сверстников. Какие-то они неугомонные, циничные, бойкие стали, всей толпой ринулись вперед, а он так и остался растерянно топтаться на месте. Пробовал было увязаться за ними, ведь Ян Гали не такой уж дичок, но застенчивость, врожденная деликатность, не подкрепленная природным обаянием, не в чести среди тех, кто уже не ребенок, но еще не взрослый.
Татарской фамилии своей «Ибрагимов» стеснялся (когда произносили, втягивал голову в плечи), а по имени «Янгали» рубанул однажды в отчаянии. Собрал кусочки-слоги, хорошенько прислушался, взвесил все за и против. В отдельности друг от друга понравились. Так показалось звучнее, на манер вечных поэтов Рудаки, Фирдоуси… В то же время, кроме древнего восточного, был жутким поклонником всего модернового польского. Но нечем было выразить свою тайную преданность западной культуре: ни тебе шмоток заграничных, ни тебе «Иностранки». Исключение: рижский приемник VEF, подарок от служившего в ГДР дяди, одного из многочисленных маминых братьев. Сама же мама не разделяла любви сына ко всему иностранному:
— …мы их в войну спасли от биологического уничтожения, из них бы мыло делали, а они там у себя еще огрызаются нам! Танков туда запустить, чтоб неповадно было…
Во время войны она со своей молодежной комсомольской бригадой на заводе АТЭ-1 собирала на конвейере автоматы, а именно, ставила защелки на автоматы ППШ. А еще участвовала в параде на Красной площади и в составе колонны физкультурников проходила мимо трибуны, на которой стоял любимый товарищ Сталин.
Мама была нищей и преданной. Ян Гали же был мнительным и гордым. И он не мог позволить себе ходить в старье. Слишком щепетильный к своему внешнему виду. Когда живешь в постоянной нужде и безденежье, выглядеть сносно и особо не выделяться среди таких же малообеспеченных граждан шестидесятых не требует особых усилий. Зауженные темные брюки, светлая рубашка, белый пуловер с тонкой черной полоской, прикрывающий острые ключицы, добротные кеды, которые тоже носятся очень бережно. Осенью: кепка «в елочку» и тканевая курточка с поясом из широкой резинки. Зимой: кроличья шапка и серое полупальто в рубчик с косыми прорезными карманами, в них удобно греть руки, ведь перчаток нет, а варежки носить стеснялся. Пиджаки по причине все той же физической нескладности и щуплости висели на нем, как на вешалке.
После выпускных экзаменов стал зачесывать льняные волосы назад. Втихаря от матери смазывал их подсолнечным маслом. С соседом Ванькой Гаручниковым, недавно мобилизовавшимся, махнулся на армейский комсомольский значок на закрутке. Взамен отдал прехороший перочинный ножичек. Ян Гали страдал по отцовскому ножичку, но все же был неумолим по отношению к себе. Думал, что эти манипуляции определят наконец его самого в собственной жизни, пододвинут к взрослости, а значит, и к счастью.
Но счастье не приближалось, не показывалось из-за гор. Вместо него ручьем били и стекали с горы стихи. Как тать в ночи, занимался этим сомнительным неблагодарным делом. Незаметно доставал из-под чемодана в шкафу тетрадку в коричневом коленкоровом переплете, пока младший брат Тимур не видит. Тот за выполнением домашнего задания в очередной раз от скуки-лени зазевается на своих желтых канареек и золотых рыбок, а Ян Гали черкнет несколько строк — и снова в шкаф!
Тексты у него в основном удавались ну очень легко. Это и смущало. Даже Толстой говорил о бесполезности и губительности занятия стихами. И Смирнов все на прозу подбивал. Толстой и Смирнов зря врать не станут. Один — великий писатель. Второй — великий наставник. И даже друг. Правда, Смирнов советовал начать с рассказов. Но Ян Гали не любил ждать и терпеть. Все свои семнадцать лет только и делал, что ждал и терпел. А в голове его маленькой в это время роились значительные замыслы, которые не умещались, вырывались невидимыми потоками. Ян Гали, чтобы удержаться на ногах, принялся-таки за роман…
Но с прозой, тем более крупной, тем более с фантастикой, обстояло сложнее. От стихов же сплошное удовольствие, в них автор ничем не ограничен, нет необходимости думать о размере, ритме, рифме (еще бы научиться пользоваться этими средствами). В прозе же рифма и ритм ввиду своего отсутствия или неявного, своеобразного присутствия не помогут следующей строке, не подстегнут, не выдоят новую мысль. Рождение каждой фразы дается с неимоверным трудом, через силу. На очередь подозрениям, что он заурядный рифмоплет подобно какому-нибудь жизнерадостному балде, приходят новые страдания: Ян Гали тугодум, не умеющий связать и пары слов. Какой уж тут фантастический роман о машине времени и кремлевском чиновнике? Тут бы себя поберечь. А ведь находятся такие, которым удается и то, и другое, и пятое-десятое… Например, тот же Смирнов.
Смирнов теперь почти медик. А из медицины в прозу много хороших прибыло.
2.
Школьные будни, ничем не примечательные, похожие друг на друга, складывались в одну общую блеклую смазанную картину жизни. Но один из дней запомнился навсегда. Им на большой перемене представили нового вожатого. С умным серьезным взглядом, ровной спиной и чувством достоинства, без желания понравиться.
Этот человек никогда его не обидит и другим не даст в обиду. Он сохранит и поддержит во всех начинаниях. В нем нет жлобского врожденного желания подавить, превысить, толкнуть, отнять. Он равен себе, и весь мир равен ему.
Смирнов ходил с папкой и, заходя в класс, с вальяжностью швырял ее на парту. И все мальчики стали ходить с папкой и швырять ее на парты. Особенно двоечники.
Окончив медицинское училище при двадцать девятой Бауманской больнице, Смирнов как военнообязанный пошел вставать на учет. В военкомате от госпиталя Бурденко лежал запрос на фельдшера-лаборанта, на него выписали индивидуальный наряд. Ян Гали, изнывая от скуки по нему, срывался, садился в сорок шестой трамвай, добирался до Госпитальной площади. Там задирал голову и подолгу, переминаясь с ноги на ногу, с надеждой всматривался в окна второго этажа. Не покажется ли умная светлая головушка? Эх, Смирнов, как же тебе служится в советской армии с такими-то идеалами? Когда-то у тебя были честные прямые ответы на все его детские прямые вопросы. Интересно, в армии остались эти ответы?
Ян Гали и раньше ездил к нему в Сокольники засиживаться допоздна. Когда-то он и сам жил в Сокольниках. Старший Ибрагимов привел молодую жену к родителям и быстро пожалел о том. Днем и ночью в большой татарской семье шум, гам… Но потом повезло: отцу от «Красного богатыря», куда поступил работать, дали целых две угловые комнаты в бывшем доходном деревянном доме на улице Хромова, тесном уголке, затененном деревьями.
К отцу, непьющему татарину, местные мужики с самого начала решили относиться как к «чужаку», с подозрением.
И родители собственные назад не принимали. Невзлюбили невестку. Она как знала. Когда сына в роддоме впервые принесли, ее под локотки приподняли, и увидела она бледное хилое тельце:
— Урус! — закричала и отвернулась к стене, закусив губу, — унесите его. На всю улицу стыд. Скажут, нагуляла от русского.
Долго сокрушалась. Отказывалась кормить. Однако отец, как только взял Ян Гали на руки, сразу почуял в нем родную кровь.
Мать потом тоже устроилась на «Красный богатырь», на сборочный конвейер обуви. Отец же работал в железнодорожном цеху. На заводе была своя разветвленная сеть узкоколейных путей. Ян Гали однажды привели сюда. Он был удивлен тем, что обувь, оказывается, собирается и шьется. Еще больше его поразили обязанности отца.
От станции Белокаменная тепловоз тащил по ветке несколько вагонов с черной и белой сажей. Товарняк заходил на территорию завода, где за глухой кирпичной стеной из стальных конструкций в прибывший вагон подавался гибкий рукав, и насосом начинали откачку сажи. После разгрузки в порожний вагон нырял отец в защитной одежде, противогазе и с помощью кувалды, скребков сбивал со стенок остатки сажи. Смена его длилась от четырех до шести часов. Поэтому чаще всего из детсада забирал именно он, неизменно припорошенный сажей.
Чем старше становился Ян Гали, тем больше скапливалась сажа в бронхах отца. В сорок пять лет должен был выйти на пенсию, до которой так и не дожил.
Больше всего Ян Гали нравилось навещать отца в профилактории Лосиного Острова. Во-первых, не оставлял надежды встретить в лесу оленя или лося, покормить их с руки хлебом. Но вместо оленя или лося попалась ему на зимней тропинке однажды пьяная, налопавшаяся забродивших ягод свиристель… Во-вторых, по пути в этот огромный парк он любопытства ради норовил пройти по Миллионной мимо дома номер пятнадцать, где родился «черный паук» Лев Яшин. Ян Гали футболом не увлекался. Но, когда был жив отец, ходили вместе на стадион «Динамо». Теперь отца, страстного болельщика, нет, а смотреть без него футбол — снова и снова испытывать чувство утраты.
Когда отец умер, все это разом стало не важно. Воспоминания, как сажа, от которой в кашле заходился отец, оседали и не проясняли картину прошлого. В памяти только один отцовский жест: как вынимает из нагрудного кармана футлярчик с расческой, проводит по волосам, резко и шумно продувает гребень и стремительным движением кладет обратно. Когда Ян Гали видел других взрослых мужчин, все как один выполняющих это общее усвоенное движение, сердце сжималось.
Со Смирновым сердце, как недоверчивый кулак, потихоньку разжималось.
В его квартире смотрел из окна на Кедровскую церковь небесного цвета, вокруг которой по земле и в воздухе расстилалась, разливалась Благодать!
Слушал «записи на ребрах» и кухонные разговоры его замечательных родителей, институтских преподавателей, и таинственное гудение газовой колонки с голубым глазком — пламенем. Брал с этажерки толстые журналы.
Обожал «Иностранку», особенно одиннадцатый номер шестидесятого года. Перелистывание доставляло почти физическое удовольствие, настолько бумага была хороша! Не то что другие, у которых листы по краям в обрезе, как неправильно приготовленное безе, чуть ли не из папиросной бумаги. Такое же удовольствие ему доставляло крутить в ванной белые фарфоровые краны.
Сидел за его письменным столом. В двух тумбочках хранились заброшенные черновики с очень неплохими стихами. Смирнов, как в старину купчик подгулявший, будто ассигнациями, сорит ими, бросает на ветер, не знает им цены, хоть и кровно заработаны. А Ян Гали, которому что ни грош, все алтын, хочет подобрать. Каждый раз, приходя сюда, боролся с соблазном умыкнуть, присвоить себе хоть один его лист, хоть один его день.
В квартире Смирнова он впервые узнал, что книги можно не только читать, но и пробовать писать самому. Тот предложил завести поэтический блокнот, куда в столбик можно записывать найденные рифмы и интересные обороты. Это, со слов Смирнова, должно было помочь в развитии авторского мышления. И действительно, со временем Ян Гали заметил за собой, как вслушивается в чужие слова и неосознанно придумывает к ним рифмы. Пока подбирал строку, в голову иногда приходили удивительные вещи, до которых в обычной жизни не додумался бы.
Именно здесь впервые услышал о великом романе, который должны вот-вот напечатать в «Москве», но до которого Ян Гали своими ручонками ни в жизнь не добраться. Зато некоторые подробности сюжета, опять же через Смирнова, вернее, через его родителей, дошли до него. И теперь перед сном любил размышлять: каким образом пересекаются в том удивительном тексте сюжетные линии древнего сатаны и несчастного пациента советской психлечебницы? И каким же подобным способом соединить свою собственную незавидную судьбу и судьбу недоступного чиновника самого высокого кремлевского ранга? Где изыскать такую фантазию, чтобы все чудесно и в то же время правдоподобно совпало? Что может объединять их, кроме общей планеты, общего города, общего воздуха, пролетающих птиц?.. Птицы! Городские вороны!
Ян Гали обожал и одновременно стыдился этой своей истории о машине времени и путешествующем на ней кремлевском чиновнике. Когда думал о ней, одолевало невероятное возбуждение. Но при мысли признаться появлялось ощущение, будто на него ушат воды опрокидывали. Был уверен, что нужна эта вещь будет только ему. Наверно, то же самое переживает юноша, который влюбился в дурнушку. Он стесняется показывать ее успешным друзьям, а у самого голова кружится от внезапно нахлынувшего «козлиного» чувства. Или подобное мог испытывать какой-нибудь лондонский Джек Потрошитель, который находил приятным для себя вырезать чужие дамские внутренности и аккуратненько раскладывать их перед собой.
Ян Гали ничьих внутренностей не трогал, но и свои выкладывать первому встречному, «неподготовленному читателю» не торопился. Кроме Смирнова, которому однажды нечаянно проговорился через собственную стеснительную просьбу:
— А можно как-то через твоих родителей попасть в Ленинку?
Смирнов присвистнул, отвлекаясь от своих тетрадей и поворачиваясь к нему.
— Да понимаешь, пишу кое-что, — объяснил Ян Гали, отходя от окна, в котором как всегда его любимый небесно-голубой храм, и подсаживаясь к другу, — понадобятся письма жены к Пушкину. Нигде не найду ничего. Может, там что-то есть?
— И не найдешь! — уверенно откинулся тот на спинку стула. — Она же их уничтожила. Или их выкрали из Румянцевского музея. Вполне возможно, что сейчас они за границей в частном семейном архиве.
— За границей? Ты уверен? — расстроился Ян Гали.
— Русские документы появляются там, где появляется русский эмигрант. А русскому эмигранту всегда нужны деньги. Ты знаешь, как впервые опубликовали «Записки Екатерины II»? Их выкрали из России и перевезли в Лондон. В свое время много шума наделали. А письма Гончаровой никому не нужны, кроме ее семьи.
— Это почему же? — невольно оскорбился Ян Гали.
— Письма Пушкина интересны не только авторством Пушкина, а тем, что написаны замечательно. А как написаны женские письма к Пушкину — никто не знает. А тебе зачем?
И Ян Гали, чуть сомневаясь, все же поделился своим замыслом.
3.
…Сначала у Михаила Андреевича с рабочего стола украли наручные часы. Отлучился в уборную, а ворона шасть в приоткрытое окно — и умыкнула «Ракету».
Жаль часы. Хорошие были. Долго носил. Надобно организовать соколиный дозор. Вороны царапают позолоту на куполах, гадят на машины членов Политбюро и скамейки в Александровском саду. Теперь вот до часов добрались!
— Над нами летают пятилетние дети, — как мог, утешал его помощник Воронцов, складывая перед ним аккуратной стопкой входящие бумаги, — городские вороны по уровню сообразительности приближаются к малым детям.
— Вернуть бы время — не оставил бы, — сокрушался Михаил Андреевич, глядя в окно.
— Еще при жизни Пушкина был известен принцип работы электродвигателя. Фарадей уже открыл закон электромагнитной индукции. Современный двигатель работает по этому же принципу. Человечество уже созрело для того, чтобы понять, создать и освоить принцип работы машины времени…
— Было бы замечательно придумать такую машину! Возвращаемся назад и переделываем как надо, — произнес Михаил Андреевич, с чувством утраты ощупывая запястье, — того же Пушкина, например, отвести от беды.
Он снял очки и взялся за голову. Самочувствие сегодня неважное. Попросил приглушить телевизор, по которому транслировали хоккей. В мутном черно-белом изображении работала «красная машина». Раньше тот же Хозяин, вернее, партийная дисциплина, выкованная за долгие годы в госаппарате, не позволяла помногу болеть. Но теперь хозяина нет, но и здоровья прежнего нет, с каждым годом все хуже.
Встал из-за стола, прошел в соседнюю комнату, привычно сунул ноги в стоявшие под вешалкой калоши. С помощью Воронцова накинул пальто, застегнулся на все пуговицы, зябко укутался в шарф и глубоко нахлобучил шляпу.
Прежде чем он спустился на персональном лифте, Воронцов поинтересовался вдогонку:
— А как бы вы Пушкина спасли?
— Очень просто, — невозмутимо отвечал Михаил Андреевич, — поехал бы к царю и там поставил бы вопрос ребром! Или партбилет на стол.
Михаил Андреевич не любил шутить. Воронцову как никому было это известно, однако не удержался от улыбки:
— У царя не было партбилета, — предупредил на всякий случай.
Но Михаила Андреевича трудно сбить с толку:
— У всех он имеется, пусть и метафизический, — поднял вверх указательный палец, а лифт пошел вниз.
У подъезда внутреннего двора ожидал черный ЗИЛ. Михаил Андреевич, словно переломившись, нырнул в лимузин.
— Поехали! Только не гони, — предупредил с заднего дивана и чуть тронул клавишу подъема стекла, чтобы ненадолго вздремнуть. Толстое стекло бесшумно встало в пазы, отгородив его от водителя и всего остального мира.
И вдруг заложило уши, как если бы находился в самолете, и из-за резкого набора высоты давление не успело выровняться. Вместо призрачного шума турбин зацокали по гранитной брусчатке копыта. Михаилу Андреевичу сделалось тесно в собственной одежде, и воздух показался чистым, влажным и тем сильнее опасным. Михаил Андреевич поежился. В окне вместо Кутузовского проспекта проносился Невский. Вместо привычного водителя — кучер, который с высоких козел, щелкая длинным хлыстом по потным лошадиным крупам, во все горло кричал встречным экипажам и праздно гулявшим прохожим: «Пади!» Клочья пены падали с губ разгоряченных лошадей…
Михаил Андреевич оглядел себя: вместо пальто — парадный генеральский мундир, расшитый золотом, вместо шляпы — треуголка, вместо калош — лакированные ботиночки. В руке же конверт с сургучными печатями, а в конверте письмо. Содержание известно, потому что доставлено фельдъегерем нарочно: «Явиться безотлагательно!»
И тайный советник Российской империи Михаил Андреевич уверенно откинулся на атласные красные подушки, больше ничему не удивляясь, потому что сам всего пожелал. И летел в черной блестящей карете в Зимний дворец с внутренним спокойствием, заранее полагая, как все пройдет. Государь обязан принять. А он обязан явиться…
Сосредоточенный, погруженный в историю Смирнов, забравшись с ногами на диван, задумчиво отпив остывший чай, после внушительной паузы вдруг засыпал его вопросами:
— С какой стати именно Суслова понесло в XIX век? Он взвалил на себя огромный объем работы, но в самый ответственный момент бросит страну на произвол судьбы? Это не военный, это не Юрий Гагарин, который давал присягу и обязан выполнять приказы. С какой стати ему рисковать жизнью, прыгать в твою выдуманную машину времени и за здорово живешь кидаться спасать Пушкина, который, конечно, национальная гордость и все прочее, но у них нет общих человеческих точек соприкосновения. Тогда уж и декабристов. Помочь разбудить умы, создать тайные общества, предупредить о предателях… Тогда, может, и Пушкина спасли бы.
— Во-первых, всю Сенатскую не спасешь, — принялся горячо защищать свою идею Ян Гали, — а во-вторых, каждый человек по природе своей порочен. Как и всякая власть. Но каждый человек имеет право на прощение. Как и власть. Говорят, что патриотизм — последнее прибежище негодяев. Так вот, для моего Михаила Андреевича жизнь Пушкина, который перед смертью взял на себя все грехи высшего общества, станет таким прибежищем. Испытывать боль от смерти Пушкина — признак принадлежности к русской культуре. Спасти того, кто спас всех! Это рецепт человеческого всепрощения после политического долголетия, — Ян Гали на всякий случай прикрыл дверь и понизил голос, — ведь им кажется, что они тоже, как поэты, будут жить вечно. Они не уйдут добровольно. Но их в лучшем случае забудут, а в худшем — станут поминать неприличным словом, обидным анекдотом. Михаил Андреевич неглупый, он все это понимает. Он содержит учение Маркса в чистоте. Он рыцарь буквы, догматик. Он раскрывает серую холщовую тень бытия. Нам все всем кажется, у партии есть какое-то тайное знание жизни, — окончательно перешел на шепот, — но у меня впечатление, что все обоснование нашего уклада умещается в картотеку одного серого человека с цитатами на любой случай жизни. И на всех встречах он ловко жонглирует этими цитатами. И все его умение заключается лишь в этом. Но никто не догадывается об этом (или делают вид). Кроме него самого. Он-то знает! И такая тоска берет его за душу! Доклады его вряд ли станут читать спустя двести–триста лет, брошюры едва ли разойдутся, им цена тридцать копеек в базарный день. Они не вызовут интереса даже у специалистов: идеологических работников и преподавателей общественных дисциплин… А вот Пушкина, которого спасет, будут читать.
— А где Суслов будет жить, спать, есть и, прости господи, все остальное? — не унимался Смирнов.
— Во-первых, Михаил Андреевич неприхотлив в быту. Может не хватать городского отопления и электрического освещения, но для этого придется вспомнить непростое детство. Во-вторых, Михаил Андреевич — это бестелесный дух. Вся его энергия направлена на достижение профессионального совершенства. И только вытесненная душа путешествует во времени. Поэтому в другой эпохе воздействовать физически на других не может. Не имеет права прикасаться к их материальному миру: писать письма, делать кадровые перестановки и т.д. Он может воздействовать словом: совестить и навевать ужас. Даже на царя…
Когда наступает скорбное, смутное время, и на пороге, как примета такого времени, вдруг покажется посланец, агент, гость из будущего, как угодно, то текущий правитель, заранее уведомленный о таком прибытии, без лишних вопросов вынужден предоставить ему аудиенцию и наделить соответствующими полномочиями. Посланец же подчиняется текущим правилам и заведенным порядкам, соглашается с условиями, в которых будет работать, какими бы архаичными они ни оказались. Обывателей ни в коем случае не пугать, не раскрывать им своего лица и цели визита! В общем, не выделяться ничем: ни словом в разговоре, ни предметом одежды, ни общим поведением. С этих самых пор они поступают друг другу в полное распоряжение. Оба, под единым началом, выполняя общую задачу, должны соблюсти принцип историзма.
— А дальше что? Спасет он Пушкина? Поднимется на заседании и влепит всем: «Хватит зубрить научный коммунизм! Ибо все в этом мире про любовь»? Не обижайся, просто я не понимаю твое неистребимое желание придать тому событию значение рока. Дуэль — это воронка, а из воронки выбраться нельзя. Воронка — это судьба, а в судьбу Пушкин верил. Скажи на милость, зачем тогда спасать самоубийцу? Да, бился в тисках нужды и цензуры. Расходы на квартиру, лошадей, гардероб жены… Огромные долги, потеря читательской популярности. И вообще откуда ты знаешь, что «светило, в полдень угасшее» не исписалось?
— Это все завистники вроде Булгарина, — отнекивался Ян Гали.
— И Белинский завистник?
— Один только Жуковский догадался, что Пушкин, как художник, шел в гору, — спорить с начитанным Смирновым трудно, но кое-какие аргументы все же имелись.
— Ты теперь все будешь переписывать через Жуковского? Ты уже загнал себя в угол. Либо все герои станут говорить и действовать, как им полагается в ложноклассических трагедиях, а не как в действительности. Либо будешь обращаться с ними запанибрата, искажать слова и поступки, тем самым оскорблять их память. И все это только потому, чтобы они еще чуть-чуть пожили в твоем псевдоисторическом романе. Но погибшим героям не стоит цепляться за жизнь. А нынешние правители не нуждаются в нашем прощении. Пожалуйста, я сколько угодно могу елей на душу лить, но ведь тебе не это нужно? А нужен адекватный отзыв, взвешенное мнение! Просто поражает откровенная смелость замысла и такая непродуманность воплощения! На елку натаскал разных игрушек и предлагаешь любоваться ею, — пригвоздил его окончательно.
Да уж, Смирнов теперь не книжный мальчик. Заматерел, посуровел. Мир, в котором раньше было много затаенных надежд, теперь у него под сильным подозрением. И перестал соваться со своими вопросами.
Смирнов пожалел, что погорячился, а Ян Гали — что доверился. Чтобы помириться, Смирнов тоже смущенно поделился сокровенным:
— Знаешь, а меня напечатали, — и бережно вытащил из ящика номер журнала.
— Где? — поразился Ян Гали, судорожно ища нужную страницу и одновременно разглядывая обложку: в нижней части знакомый белый шрифт по синему фону, а в верхней части мальчик с девочкой рисуют.
Ох, все на свете отдать за такой же авторский экземпляр!
— Отец по фронту знаком с Полевым, — объяснил Смирнов, — в прошлом году на слете фронтовиков встретились, разговорились. Батя обмолвился, что я тоже пишу, а Борис Николаевич сам предложил: прочитаем. И если интересно — опубликуем. И вот, — в смущении развел руками, — из целой подборки всего ничего выбрали.
— Здорово! А что сказали-то?
— Что очень сильная техника, но есть ощущение чрезмерной взрослости стихов. Что есть юношеская словоохотливость по любому поводу, какие-то отсылки, в этом пока мало подлинности, в каждой строке ожидается от читателя подтверждениея слов, но слова эти все же стоят на своих местах.
4.
Все были уверены, что Ян Гали не поступит. Оценки — не показатель. Характером не вышел. Опять же только Смирнов поддержал его, но это было давно, в рамках общественной нагрузки, в интересах школьной успеваемости.
Ян Гали, в свою очередь, было странно, что сверстники не мечтают, как он, о чем-то особенном. Все заранее и как-то очень буднично определились с выбором будущей профессии, будто от нее ничего не зависит: на повара, швею, шофера, токаря… Кто поблатнее — в торговлю или Плешку. Некоторые, правда, в кинематографию или театральный. И лишь избранные — в МАИ, МАТИ, МХТИ, МВТУ… Ян Гали и сам в детстве мечтал стать шофером. Но как же можно мечтать о том, что находится на расстоянии вытянутой руки? Тем более в век НТР?
Мог ли, к примеру, представить подобное его прадед, описанный Гиляровским татарин-извозчик, дешевый деревенский «ванек», «в армяке, подпоясанном обрывками вылинявшей вожжи, в рыжей, овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли (…) Сбруя и вожжи веревочные. За подпояской кнут»? Мог ли он смело нафантазировать себе такого дерзкого мальчишку? Амбициозного, жаждущего в мирных целях разрабатывать чистый ядерный заряд, выступать со стихами, публиковаться в столичных журналах, ужинать в ЦДЛ, играть на саксе, сниматься по большой дружбе у Зархи, Ромма и Хуциева, покорять лучших женщин Москвы и Ленинграда (ну, еще и Ялты, пожалуй). Ни о чем подобном прадедушка Ибрагимов не помышляет. И слов-то таких не знает. В будущее не заглядывает. Мечтать не приучен. Читать, писать не умеет. Просит недорого, работает много. Лошадка взята у хозяина в аренду. Стоит без почину с этой самой лошаденкой, запряженной в низкие лубочные санки, торгуется с королем репортеров за гривенник и далее везет седока по Немецкой, нынешней Бауманской, в центр. На проезжей Лубянке, самой зловонной от стоянки лошадей площади, куда Ян Гали через полвека будет ездить в «Детский мир», прадед Ибрагимов поит за копейку лошадку, черпая воду грязным ведром из бронзового фонтана Витали.
После начала экзаменационных штормов пришло время пожинать первую бурю. После экзамена по физике нужно идти выяснять текущие проходные баллы. Ни следа от прежней уверенности! Взращенную беззаботность как рукой сняло. То, на что уповал последние месяцы тяжелейшей подготовки, вмиг стало проклятием. Раньше Ян Гали только и жил этим согревающим ожиданием, потому что сил брать больше неоткуда. Теперь скорей бы покончить со всем, что держит его, не дает покоя, пожирает последние душевные силы!
Нарочно проснулся ближе к обеду (как раз списки обещали после полудня). Кажется, в целом доме один. Только радио. Все соседи занятые — на работе, в школах и детсадах. «Как знать, придут вечером, и придется им всем скопом снимать с петли горе-абитуриента, заказывать венки», — мрачно пошутил про себя Ян Гали и нехотя выбрался из-под согретого одеяла. Ополоснул со сна разгоряченное лицо. Наскоро пообедав, опасливо поглядел в летнее окно. За макушками деревьев, как по рельсам или лебедкой, будто за рожки, ровно катятся белеющие барашки-облака. И горизонты светлые, но все это отнюдь не озаряется добрыми предчувствиями! Как только какая-нибудь тучка, размером с носовой платок, появляется на небе, Ян Гали всего скручивает, прижимает к земле, запросто обещает расплющить. А тут целую скотобазу по небу пригнали!
На углу как всегда бочка на колесах со спасительной надписью на крутом охряном боку «Пиво». Да, закон равновесия никто не отменял. Если по небу тянут кучевые облака, которые как заноза для человеческой головы, то Вселенная позаботится о том, чтобы поправить самочувствие этой самой человеческой головы. В любое время года, в жару и стужу, с раннего утра до темноты, перед торчащим из чрева бочки краном с деревянной рукояткой поджидает бедолаг тетя Маша. Колоритная продавщица необъятных размеров на коротеньких тонких ножках, отчего у всех ее покупателей вид, будто сором выпали из кармана ее халата. Этот халат она умудрялась натягивать даже зимой поверх телогрейки. Под откидным поддоном пузатые кружки, а на старых газетах мешок ароматной воблы. Вокруг гоношатся мужики, в кустах спрятаны их спецовки. Глядя на их мятые физиономии, понимаешь, что каждый глоток обладает живительной силой, приносит невероятное облегчение. Судя по общему виду (с оглядкой и шепотком), обсуждают политику. Среди них сплетник и злостный прогульщик дядя Петя, отец Ваньки Гаручникова. Забавно выглядит в его руке (с черным сатиновым нарукавником вагоновожатого) толстая кружка. Он заметил Ян Гали:
— Эй, малайка, свежее привезли, только что от ЗИСа отцепили! — стал зазывать его.
Тот промямлил что-то про экзамены, но сосед не дослушал: презрительно скривился, махнул на него рукой с тем самым черным нарукавником, мол, что с тебя взять, чинарик, проходи мимо и не задерживай! А вслух мужикам добавил:
— На ядерную физику собрался, или куда там… на ракетостроение… Да какая, на хер, разница! Его туда на пушечный выстрел. Десять лет будет поступать. Видали такого!
Дядя Петя терпеть не мог домашних мальчиков. У него-то сын Ванька — непутевый. После армии, как отец, начал пить да таскаться. Много с ним хлопот было, однако втайне дядя Петя всегда гордился его «подвигами».
Дядя Петя известный в округе сплетник и провокатор. Вроде взрослый мужик, а ничего путного не говорит, только треплется зазря. Сначала расщедрится, сам напросится и угостит, душа нараспашку, а потом протрезвеет и за ту же милую душу, которая была нараспашку, обо всем доложит матери Ян Гали. Сколько раз такое было! Что, например, Ян Гали в сарае покуривает. Только Ян Гали ничему такому в сарае не учился, он хранил там старые игрушки и велосипед.
Но больше всего Ян Гали не выносил, как тот дразнится. Дядя Петя услышал как-то, что слово «мальчик» на татарском звучит «малай». И теперь обязал себя обращаться к Ян Гали только таким бесцеремонным способом.
Когда отец умер, дядя Петя суетился с похоронами, навязывался с утешениями к матери. Но не заладилось: мать пресекла ухаживания, пожаловалась его жене, тогда еще живой, и дядя Петя перестал здороваться. Проходя мимо, демонстративно поджимал губу или цедил сквозь зубы: «Понаехало татаро-монгольское иго! Пригрели на груди неблагодарную змею. Дать бы вам всем пинка со всей дури!»
Ян Гали успел забежать в сорок шестой трамвай. На Семеновской заторопился в прохладный красно-гранитный вестибюль, с усилием оттянув массивную дверь. Но поздно! Навалилась дурнота: от погоды, от дяди Пети, от паники. В голове бесполезно и запоздало закрутилось прошлое задание, с которым вроде справился, но сама формулировка до сих пор не оставляла в покое: «шарик скользит по гладкой горизонтальной поверхности… шарик сталкивается… сталкивается с неподвижным шариком. Удар!.. удар… удар центральный, упругий. Шарик… шарик движется назад… шарик движется с кинетической энергией в 9 раз меньшей его начальной кинетической энергии… Найти… найти отношение масс шариков… найти отношение скорости второго шарика к начальной скорости первого шарика…»
По пути к платформе отвлекался на спасительные узнаваемые предметы, но ощущение, будто и гранитный пол, и мраморные колонны, и танки, и самолеты, и лопасти — все на сводах закрасили тяжелой масляной краской. Все смешалось, и замутило окончательно. Из нарастающего обморока помог выплыть женский вскрик. Чувство реальности вмиг вернулось, и Ян Гали обнаружил себя нависающим над рельсами у края платформы. От страха тут же выровнялся на ватных ногах.
— Пьяный, что ли? — зашушукались за его спиной, — совсем ведь молоденький.
— Средь бела дня! Совсем уже расшатались! Страна горбатится на них.
Ян Гали не обернулся, чтобы не привлекать лишнее внимание. Боялся шевельнуться, чтобы вновь не потерять равновесие и не «кануть в бездну».
— Студент! Перезанимался, — миролюбиво предположил мужской голос.
— Мальчик, у тебя все хорошо?
Ян Гали не удосужился откликнуться на слово «мальчик». Еле кивнул, преодолевая остатки странного приступа.
— Выучили на свою голову, — возмущались тетки.
«Пусть это будет самое яркое событие в вашей жизни, — огрызался в рассеянных мыслях Ян Гали, — наверно, винтовка Токарева, — разглядывал перед собой на стене один из любимых чеканных бронзовых щитов с изображением образцов советского оружия, чтобы окончательно вынырнуть из бесчувствия, — но, наверно, не она… Снайперские прицелы в войну на винтовку не ставили. Для этого были трехлинейки с загнутым стеблем затвора, — со знанием дела бормотал он, пока не задул в висок приятный ветерок и не послышался грохот колес. Из-за малых интервалов никогда не удавалось как следует рассмотреть этот барельеф! Подкатил полупустой вагон, распахнулись заветные створы, он шагнул и прямиком на свободный диван, мягко проседающий под попой.
Карета остановилась во внутреннем дворе Зимнего дворца. Лакей поспешно опустил подножку. Михаил Андреевич поднялся по широкой беломраморной лестнице. Караул преображенцев у кабинета замер. Дежурный генерал-адъютант распахнул массивную дверь. Михаил Андреевич, придерживая шпагу, вошел внутрь.
Все здесь будто знакомо. Михаил Андреевич зябко повел плечами, оценивая комнату. Большой письменный стол и несколько столов поменьше; на стенах, обитых в зеленый цвет, изображения всадников в небольших рамках; в углу за дверью сложена походная солдатская кровать… Просторный кабинет обставлен довольно просто, по-деловому, всем видом напоминает казенное присутствие. Несмотря на полную мощь работы дворцовых печей, по-прежнему очень холодно. Михаилу Андреевичу в целом привычно в такой обстановке, он мысленно одобрил аскетические привычки хозяина кабинета. Царь не выносил излишней роскоши. Не то что теперешние министры, секретари обкомов, республиканские руководители… В кремлевских сейфах Михаила Андреевича целый ворох докладных записок о материальных злоупотреблениях партийных соратников. Интересно, много таких бумаг в царских шкафах? И дает ли государь им ход?
Сам Николай в накинутой на плечи серой шинели в глубокой задумчивости глядел из высокого окна на свой свинцовый город. Михаил Андреевич, опасаясь нарушить тишину, стоял навытяжку позади него. К нему вернулся забытый жуткий трепет перед истинным хозяином одной шестой части суши, которого однажды уже пережил. Впрочем, и этого переживет. Их разделяет более сотни лет. Царь останется в своем веке, а Михаил Андреевич вернется к себе. Но сначала, будучи дисциплинированным исполнителем, достигнет поставленной цели.
— Ваше Императорское Величество, по высочайшему приказу действительный тайный советник Суслов прибыл! — доложил и переломился в поклоне.
Николай повернулся по-военному, подошел и даже сухо пожал руку, при этом неприязненно рассматривая его выпуклыми водянистыми глазами. Царей, уверенных, что поймали бога за бороду, трудно чем-либо поразить. К тому же тщеславному самодержцу лестно оказаться в малочисленном узком кругу посвященных в некую тайну, по сравнению с которой забавы вольных каменщиков — детский лепет. Возможно, он первый и последний в ряду венценосных особ, к кому пожаловал такой любопытнейший посланец. И Михаил Андреевич старался держаться независимо, не выдавать волнения.
— Центральный Комитет поручил судьбу камер-юнкера Александра Пушкина…
Государь властно перебил:
— Вы враги монархического принципа и европейской аристократии! С вашим появлением о таких обстоятельствах узнаю: о судьбе моего государства, о моих потомках! Но вместо этого я должен обеспокоиться лишь об одном, пусть и очень даровитом, чиновнике. Очевидно, дуэль? Какая по счету? Тридцатая? А ведь он даже не ученый и не философ, а только стихотворец, которого преимущественно ценят дамы и которого, признаться, я и так окружил полной заботой, осыпал милостями…
— Поверьте на слово, один этот мелкий чиновник через столетье затмит все громкие имена. Площадь у Тверских ворот в Москве знаете? Будет именоваться Пушкинской, и будет стоять памятник.
— Скажите, как все относительно! — снова отошел к окну государь, — если в вашей… республике так пекутся о Пушкине, значит, все мои труды пошли прахом. Не сумел уберечь от вольнодумства.
— По правде сказать, после ссылки до самой смерти он отошел от этих настроений и был исполнен самых верноподданнических чувств.
— Вот видите? — самонадеянно отозвался царь. — Вы сами признаете покровительство, которым я хотел остепенить Пушкина и в то же время дать его гению полное развитие. Щедрости мои безграничны. Я открыл ему архивы, назначил оклад, дал чин. Что еще от меня требуется?
«Эдак с ним каши не сваришь! Будет ходить вокруг да около. Надобно поднажать», — решил Михаил Андреевич.
— Одними архивами сыт не будешь, зарплата мизерная, должность пустячная, — и стал на память цитировать Жуковского, — «Из своего покровительства сделали надзор, который всегда притеснителен, сколь бы, впрочем, ни был кроток и благороден».
— Я освободил его от цензуры, — неуверенно сказал Николай.
— Взамен предложили собственную, — все более наседал Михаил Андреевич, — вы не Пушкина, вы записки подлого Булгарина читать изволите: «Пушкина надо беречь, как дитя. Он поэт, живой воображением, и его легко увлечь». Или Бенкендорфа: «Но он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и речи, то это будет выгодно».
Теперь государю впору ужасаться: даже мелкие донесения не уйдут от посторонних, и весь он как на ладони перед Будущим в лице его представителя, этого худощавого человека с удлиненным лицом и глухим голосом. Посланец без стеснения и должного пиетета пронизывал его белыми глазами, будто скользкими щупальцами заползающими в его душу и уже горячими клещами, вытаскивающими оттуда всю царскую подноготную. Царь вынужден уступить необъяснимой силе, а вместе с ним неведомой тайне грядущих веков! Соперничать с носителем этой тайны — все равно что гимназисту младшей ступени равняться на того, кто выдержал университетский экзамен на исторический факультет.
— Но если поднадзорный и неблагонадежный художник длительное время уравновешенного поведения, — продолжил Михаил Андреевич, будто отчитывал, поучал царя, — то власть, в конце концов, может положиться на него. У вас же малейшие поступки вызывали подозрения и недоброжелательства. Пушкин до сих пор невыездной, а мы вот Ахматову выпустили.
— Что такое «невыездной»? — повернулся царь. — Это касается свободы проживания?
— «Отпрашивался по каждому пустячному поводу, что не соответствовало Вашей милости. Ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждения видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить и по России».
«А, собственно, что здесь особенного?» — признался себе Михаил Андреевич, вспомнив о тех литераторах, кому невольно симпатизировал, но помочь не смел.
Проницательный государь словно прочитал его мысли:
— Ахматова, говорите… Барышня и, верно, из татарских. Но я знаю старые русские поговорки: в чужом глазу соринку вижу, в своем бревна не замечаю. Если у вас кого-то выпустили, и вы с таким значением об этом говорите, значит, его долго не выпускали. Видимо, тоже, как и Пушкин, крепко ваша Ахматова усвоила, что «за строку глупого письма» можно запросто оказаться в ссылке или на каторге. Вы, простите, какого звания, какую должность у себя занимаете?
— У меня их превеликое множество, — отвечал Михаил Андреевич, его будто с поличным поймали.
— Определенно отвечаете за цензуру, — угадал государь, — но это вам не ко мне, любезный. Это вам впору обратиться к «подлому» Булгарину и прочесть его записку «О цензуре в России и книгопечатании вообще».
— Достойнейший текст, я ознакомился, — вполне серьезно рассудил Михаил Андреевич, — особенно что касается творческих союзов. К сути! Если вы откажетесь помогать Пушкину, то ничего страшного не произойдет. Все уйдет, страсти улягутся. Останется лишь до нашей поры ощущение некоторой несправедливости, неловкости за этот непоправимый удар. А ответственным за него будете вы! Признайтесь, ведь вы не любите Пушкина? — решил подойти к царской особе с другой стороны.
Николай в этот раз предпочел не отвечать на новую провокацию. Чем больше оправдывался, тем морально крепчал собеседник, беря инициативу в свои руки.
— И ведь ему в тягость ваша дружба, — наугад предположил Михаил Андреевич, — Хотите заслужить его прощение? Это деловое предложение.
Царь по-прежнему хранил упрямое молчание, будто не к нему обращались, разглядывал свои холеные руки с отточенными, отполированными ногтями.
— А я тоже их не люблю, — запросто признался Михаил Андреевич, который в отличие от царя мог временно позволить себе честность, — за ними ухаживаешь, им покровительствуешь, перед ними заискиваешь, а они все в лес норовят убежать. Это всегда политические противники, это враги нашего дела! Они призваны писать оды, гимны, героические поэмы, придавать блеск эпохе, возвеличивать и увековечивать образы и деяния вождей и народа, а они вместо этого высмеивают нас.
— Да-да, чудовищная неблагодарность! — закивал государь, чуть смягчившись.
— Но открытое противоборство недопустимо, потому что они со своей бунтарской природой не обязаны вмещаться в нашу с вами нелюбовь. Ненавидеть их следует разумно. Продолжайте быть ласковы и милостивы…
5.
Помимо всех дарований, которые Ян Гали скромно себе приписывал, не отказывался и от шестого чувства. Всегда предсказывал удивительно хорошее и плохое. Но сейчас интуиция из-за нехорошего самочувствия сбилась.
Долго протискивался в толпе, еще дольше выискивал в конкурсных списках свою, ставшую вдруг заветной фамилию. На всякий случай заранее сокрушался и стенал. Очень долго изучал свой балл, как винтовку на Семеновской…
И как только свыкся с неожиданно отличной новостью, стал хозяйским взглядом шарить по другим фамилиям. Сразу привлекли внимание идущие следом две, единственно женские из всего списка и тоже с хорошими баллами.
Одна — татарская Калимулина Н.Н. Вторая — смешная Лютикова П.И.
Ян Гали огляделся. Теперь надо искать сто тринадцатую аудиторию, где должна пройти консультация перед следующим экзаменом. Пока выбирался из толчеи, кажется, в глаз что-то попало. Чтобы избавиться от соринки, стал часто моргать и жмуриться. Повернулся к свету. На фоне слепого окна вдруг вырисовался тонкий силуэт. Такой обычно выстраивают в черно-белом кино, слишком правильный, чтобы сразу поверить. А рядом еще что-то мутнеет, мешает разглядеть четкие линии и идеальные формы. Но это, оказывается, уже не соринка в глазу. Это вторая девушка, похожая больше на Пятно, она поправляет чулок. Потянуло в то же время тяжелым сладким запахом, похожим на олеандр, который рос в учительской. Так пахнут строгие завучи, почетные работники просвещения, а не юные девушки. Ян Гали догадался, кто из этих двух сильно надушился мамиными духами. Та, которая приглянулась. Та, которая в контражуре. Та, которая, видимо, от волнения забыла еще об одном предмете женского гардероба, потому вместо лифа, вполне ей по возрасту полагающегося, призывно торчали два «гвоздика». Вряд ли вчерашняя школьница сделала это сознательно, например, после просмотра «Фантомаса». Иначе не скрещивала бы стеснительно на груди свои плавные руки. Личико чистенькое, с правильными чертами и лукавыми глазками, есть в них что-то нездешнее. Наверно, она и есть Калимулина.
Ян Гали, закусив губу, загляделся на нее украдкой. Она вся подобна песочным часам, не только по выраженности талии, равнозначности груди и бедер, а по сыпучему их содержанию. За коридорным гулом шагов отчетливо слышал, как по стенкам сосудов, соединенных узким перешейком, перемещается тонким порошком ее душа, сотканная из неведомого тонкого вещества. В общем, эфемерная вещь, легкая прелесть мира, хрупкая суть вынутого из Адама ребра, которая захотела стать самостоятельной, чтобы не быть больше чьим-то ребром. Или она, как засушенный цветочек, выпавший из страниц затасканных романов. А все же лестно знакомиться с героиней чужих вымыслов! Войны достойна!
Вторую, которая чулок поправляет, не разглядел. Внешность — сплошное размытое пятно с белесой жиденькой косичкой. Сложно взглядом за что-либо уцепиться, разве что за жиденькую косичку. Пятно, одним словом.
У Ян Гали было много девушек:
Тех, кто ему не нравился, и он к ним не подходил.
Тех, кто ему нравился, но он к ним не подходил.
Девушка в контражуре ему понравилась, и он решился к ней подойти. Все совпало сегодня! И дурнота отступила. Он окрылен, опьянен успехами, хоть и промежуточными. Все недоразумения в прошлом. Пора выправляться, менять дурные привычки, смело загадывать в будущее, свободно дышать! Будущее близко как никогда! И Ян Гали прямо сейчас себе это докажет. Так, ни в коем случае не волноваться. Вести себя непринужденно. Не стараться понравиться. Не дать себе проколоться в мелочах. А то расколют, как белки орех! Как по краю, как по тонкому льду, как по минному полю пробираться. Нет права на ошибку. Задержать дыхание, зажмуриться и, ни о чем больше не думая, в омут с головой. Оттолкнуться одной ногой, а вторая сама шагнет. Приоткрыть рот, поглядеть прямо в глаза, чуть улыбнуться, и язык сам развяжется. А что говорить? Мели, что придется. Не расстреляют же! Да, но потом учиться с ней пять лет! Ты поступи еще, балда! Заранее стыдясь, с дрожью в коленках, предвкушая нечто особенное, пошел на приступ:
— Я гляжу, вас тоже можно поздравить? — примостился рядом на подоконнике.
Еще до того, как открыл рот, понял — все кончено. Не успел взлететь и почувствовать силу крыла, как промахнулся задницей и сел слишком близко. И «я гляжу» прозвучало неряшливо. Какая самонадеянность! Такая оголтелая и нелепая, присущая лишь неудачникам. А вот и расплата за эту самую самонадеянность:
— Тоже можно, — едва удостоили взглядом что одна, что вторая.
Чулок поправлен, и девочки, взявшись за руки, поскакали по коридору дальше.
Ян Гали с тоской глянул на портрет Йогеля, одинаково равнодушного к его успехам и неуспехам в любви и учебе.
С потухшим настроением навалился на дверь и, с трудом преодолев сопротивление скрипящей пружины, вышел. Возле «ноги» Баумана снова эти важные! Все Фиры и Веры дуры без меры! Снова у Пятна случилась оплошность, уже со вторым чулком.
Погода отличная — теперь на небе ни облачка. «Может, ввернуть комплимент про девчонок, не просто красивых, а которые еще и в Бауманку успешно поступают? Но это банальщина! Меня бы самого на их месте вывернуло. Не умеешь — не берись! Давно бы дома сидел в шерстяных носках, как дед плешивый. Туда тебе и дорога! Эх, определенно импровизация — не наш конек! За последний год от всей этой бесконечной подготовки к экзаменам мозги мои, изначально неповоротливые, еще больше отяжелели. Для кадрежа нужны не мозги, а язык пустомельный, как у Даньки Тесемкина». Позориться до конца! Преодолевая внутреннее сопротивление, совершил жалкую попытку № 2:
— А вы не в курсе дела, учетную карточку тоже со всеми документами нужно сдавать? Или еще можно повременить?
Девочки недоуменно переглянулись, мол, чего этот назойливый опять привязался?
— Желательно в один день все документы сдавать. Лучше спросите в деканате, — все же принялась участливо объяснять Пятно, сжалившись над его потугами.
Ян Гали того и надо. Уж теперь свое не упустит:
— Да, мне они что-то такое говорили, но я, признаться, в тот день не способен был адекватно воспринимать существующую действительность, — залепетал, обращаясь преимущественно ко второй девушке, которая красавица, — накануне мы с товарищами…
— Избавишь от подробностей? — с хорошо отработанной сухостью отшила его красавица.
От диковинного аромата олеандра лоб покрылся испариной. Когда самостоятельно не справляешься, а деваться некуда, на помощь, хотя бы номинально, призываешь других:
— Да нет, я не напиваюсь так чтобы, — вытаскивал себя, тонущего, за волосы, — это Булат Шалвович…
«Что я несу! — ужасался Ян Гали. — Хлестаковщина чистой воды. Что ты вытворяешь?
Однако цель достигнута, известное имя произвело впечатление: ушки навострили:
— Тот самый? — переспросила красавица, недоверчиво заломив бровь. — Какие занимательные ребята сюда поступают! Если уж пить, то с именитым.
— Пить с именитым некрасиво, — перефразировала Пятно.
— Я с ним не пил, — честно признался Ян Гали, мучаясь угрызениями совести, — мне не наливают. Скажем так, надо мною взяли шефство.
«Ну а что? Правды они все равно не узнают. Нет, по-честному с этими падлами невозможно. Пыль в глаза. Бисер перед свиньями… Что там еще? Ох, сегодня сплошь цитирую, на ум приходят пословицы и поговорки.
— Стихи пишешь? Настоящие? — восхитилась красавица.
— Раз подшефный, значит, настоящие, — подтвердила Пятно.
— Что тогда здесь делаешь, подшефный? Тебе в литинститут надо, — серьезно посоветовала красавица.
— А кто же от ядерного дождя ядерный зонт создавать будет? — отшутился Ян Гали.
Уголки ее рта чуть приподнялись в долгожданной улыбке:
— Когда мы все поступим, ты нас позовешь на свой поэтический вечер. И ты нам что-нибудь такое почитаешь, да? Как это, наверно, трудно — из обыденных слов, в правильном порядке все расположив, выразить свои чувства.
— А вот Толстой говорил, что примешивать к слову соображения о размере, ритме и рифме неразумно. Это, значит, жертвовать ясностью и простотой, — сумничала Пятно.
— Но сам при этом недурно писал:
Когда же, когда наконец перестану
Без цели и страсти свой век проводить
И в сердце глубокую чувствовать рану,
И средства не знать, как ее заживить.
— Наи′ля, — благосклонно протянула руку красавица, — можно Нелли. Это Полли.
— Полина, — поправила Пятно.
— Меня зовут Ян, — представился он, дуя себе на взопревший лоб.
Полдела сделано! Быстро понял, что гораздо начитаннее новых знакомых, а они, в свою очередь, вполне приветливые, незаносчивые, поэтому освоился и принялся за комплименты (удачные или неудачные, потом разберется). Главное, оглушить, убаюкать и затащить в нору. Но куда? Не к себе же домой. И не на работу. Да еще это прилипчивое Пятно… Придумал! Нелли нужно вести к Дане Тесемкину. Там ее отмыть, отделить от этого досадливого Пятна, у которой даже имя как приставшая пленка, как неразорвавшийся плодный пузырь. Нелли похожа на чистое зеркало, а с подружкой своей будто засиженная мухами.
— Кстати, о Толстом. Интересные у вас стрелочки на глазах, — и под предлогом стрелочек неотрывно уставился на Нелли, — как у актрисы из «Войны и мира». Я недавно перед сеансом в «Киножурнале» отрывок, как снимают, видел.
Нелли и не подумала отводить взгляд. Сама кого хочешь вгонит в краску.
— Во времена Толстого, наверно, не было стрелочек, — предположила она.
— А это не его времена. Это 1805–1812 годы.
— Там тоже не было, — хмыкнула Пятно.
— Я не про героиню говорю, а про актрису. Можно сходить, кстати, на что-нибудь, — предложил неожиданно для себя. Как все ловко получается, когда люди друг другу нравятся! Но Пятно странно усмехнулась, а Нелли промолчала.
— Мы бы с радостью, — извиняющимся голосом произнесла наконец Нелли,— но скоро ужин, а мы даже пообедать сегодня не успели.
И все же Нелли он тоже понравился. Не может принять приглашение, но щадит его самолюбие, подбирает слова, придумывает отговорки. Теперь или никогда!
— У меня брат двоюродный рядом живет на Бауманской. Можем заскочить ненадолго и поужинать. Он тоже пишет, — опять соврал, — а после — в кино.
— В понедельник математика — готовиться надо. От нас вообще мало толку. Мы, знаешь ли, в поэзии мало разбираемся. Я не гуманитарий, видишь ли. Что-то из Пушкина с Лермонтовым, что-то из Блока с Маяковским — все наши познания.
Нелли говорила за двоих, будто подруга пришита к ней намертво. Но, судя по оскорбленному лицу Пятна, с последним замечанием она не могла согласиться. И Ян Гали заметил бы это, если бы из вежливости один раз, пусть мельком, взглянул на нее. Но взглядом был прикован лишь к Нелли.
— А этого вполне достаточно, — похвалил он, — иногда смотришь на человека, с которым только что познакомился, и кажется, что знаешь о нем все. Вернее, чувствуешь его очень хорошо. Вроде бы это общие слова, которые ничего не значат. Но я почти Вольф Мессинг. И могу доказать!
— На спор? Мишку прятать не будем. И целоваться тоже, — хихикнула Нелли.
— А я и без поцелуев и телепатических способностей все про вас знаю, — и страшно закатил глаза, изобразил погружение в гипнотический транс, — знаю наверняка, что у вас шрамик на указательном пальце.
Нелли чуть задумалась, припоминая что-то, и еще глубже запрятала ладони в подмышки. Пятно на всякий случай тоже проверила свои пальцы. Ставки повысились, и приободренный Ян Гали пошел ва-банк. Никогда еще так весело не дурачился:
— А еще у тебя на левой коленке белое пятнышко.
— Ну, это тоже несложно, — Нелли спрятала ноги, — на лестнице мог подсмотреть.
— Не имею привычки заглядывать под юбки, — со сдержанным достоинством отвечал Ян Гали, с самого начала отметив ее классические греческие ноги.
— Идем дальше: у тебя прекрасно вздернутая правая бровь, а вот левую вряд ли сможешь поднять отдельно от другой.
Нелли попыталась, и действительно: либо правая, либо сразу обе. Ян Гали мысленно путешествовал по ее телу дальше:
— А возле подмышек у тебя есть еще одно родимое пятно.
— Это какой-то фокус? — поразилась она. — Ты видел меня где-нибудь на пляже?
Это не фокус. Почти все, думая, что особенные, рождаются с одинаковым набором пигментных пятен, отметок, зарубок.
— Если бы у меня было время ходить на пляжи, да я бы тебя непременно запомнил.
Крепость пала. Он ее поразил. Изначально недоступная, а теперь глубоко польщенная, залилась краской!
…По пути Нелли успела немного рассказать о себе. Они с Полей одноклассницы, обе генеральские дочки, их отцы — сослуживцы, живут в одном дворе на Патриарших, и дачи по Ильинскому шоссе находятся тоже рядом. Вот и поступать решили вместе. Нелли с детства загружена рисованием, музыкой, спортом. Но победили точные предметы. И как она все успевает? Пока щебетала без умолку, у Ян Гали появилась возможность сконцентрироваться, набраться сил и наскрести по сусекам шуток-прибауток, которыми в случае чего можно заполнять неловкие паузы. В общении с людьми жутко стеснялся общего молчания. Молчание — вечный спутник одиночества, синоним однообразия. Поэтому часто кидался из крайности в крайность: как горный козлик, суетливо перескакивал с одной темы на другую. Надолго ли его хватит? Ему бы до Бауманской добраться, а там уж Данька дровишек подкинет, прикроет если что.
Даня Тесемкин, как Смирнов когда-то, таскал его всюду за собой. Но бывший вожатый помогал «по долгу службы», в рамках общественной нагрузки, а Даня — по-родственному и скорее от скуки, забавы ради. После смерти Даниной матери его отец (дядя Коля) женился на Сонечке Ибрагимовой, тетке Ян Гали. Так и «породнились». Отец и дед Ян Гали были против ее брака с русским, у которого к тому же подросший ребятенок. А на чужих детей влиять сложнее, чем на родных. Так и вышло. Даня оказался из тех, кто в детстве «совесть меняет на ластик», а приходя в гости к Ян Гали, ломает его игрушки. Существо совершенно бездумное и легкомысленное, он раньше всех вступил в эту неведомую пору, когда девчонки воспринимаются не как вредные пищалки, странные существа с нелепыми интересами. С ними уже выстраиваются другие отношения. Для Ян Гали все это было по-прежнему непостижимо и… стыдно, что ли.
Как назло постоянно останавливались из-за Пятна, у которой с чулками все не слава богу. Ян Гали все более закипал от досады и в какой-то момент готов был снять их и выбросить в Яузу. Вместе с Пятном. А она будто нарочно изводила. Но дальше — легче. На Немецком рынке в одном из павильонов угостил девочек халвой и узбекской черешней. А для латания тех самых дыр, которые в беседе все более нарастали, грозясь смазать первое благоприятное впечатление, на помощь пришла уцелевшая архитектура Немецкой слободы. Ян Гали имел склонность к изучению ушедшей старины, любопытство к тому, чего уж нет.
Они двигались вдоль обшарпанных стен, от которых тянуло вечной сыростью, а под ногами хрустела осыпавшаяся штукатурка. По-хорошему, вычистить бы эти дома с их темными запутанными дворами, пропитанными кошачьей мочой; крышами и чердаками, пропитанными голубиным или крысиным пометом; длинными коридорами; большой общей кухней; нарезанными комнатами-пеналами, в которых канцелярский стол и «сталинская» лампа… Ян Гали впервые все это увидел в средних классах, когда ездил к репетиторше Арминэ Сердаковне, старой деве с прокуренным голосом, грошовой пенсией учительницы и медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну».
— …какие рыцари на барельефах! На гербах латинские буквы! Так трогательно вспоминали о своей родине немецкие ремесленники.
— Никогда не гуляла в этом районе. Очень похоже на Калининград. Правда, Полли?
Пятно пожала плечами и демонстративно зевнула.
— …пока есть такая возможность для прогулок. Говорят, эти дома пойдут под снос. В Ленинграде известный академик обещал костьми лечь поперек известного проспекта, но не дать его перестроить. Но Немецкая слобода не Невский проспект. И академика у нас такого нет. Проще выломать и расселить. Правда, выломают неумело, как сельский фельдшер — здоровые зубы.
Если свернуть с Ладожской на Энгельса, то можно наткнуться на душевые павильоны. Они с отцом раньше ходили сюда, когда отключали горячую воду. Но об этом вспоминать не стоит. Зато вот что интересно:
— Сейчас идем по пушкинским местам, — как заправский экскурсовод вещал Ян Гали, когда вышли на Бауманскую. У него даже осанка выпрямилась, — на месте триста сорок пятой школы стоял дом, в котором он якобы родился. Такая городская легенда. Дальше Елоховская церковь, где его крестили…
— А я знаю-знаю, — захлопала в ладоши Нелли, — это наша подшефная школа. А дом не сохранился — сгорел в восемьсот двенадцатом году.
— Его сломали в двадцатые–тридцатые. А дом, где он действительно родился по Госпитальному переулку между шестым и восьмым домами, действительно сгорел. Могу предположить, что дом напротив, — показал на тридцать девятый дом, — один в один похож на тот, который выломали.
— Пушкин родился на Молчановке, — подала голос Пятно, — он сам об этом говорил.
— Он ошибся.
— Ну да, Пушкин ошибся, а ты — нет, — съязвила она.
Ян Гали растерялся. Нелли тоже не нашлась что сказать. Наступила та самая пауза, которой так остерегался.
— Ладно, я пошла, — буркнула Пятно, которой надоело плестись за ними без дела. Малоприятное открытие — вдруг осознать себя мебелью! — к экзаменам готовиться надо.
Нелли просительно заголосила:
— Я одна не пойду! Мы же обещали.
— Не иди, — резонно отвечала та.
А вот этого Ян Гали как раз не учел. Какой бы Нелли ни казалась смелой, одна к незнакомым ребятам пойти не решится. Только теперь понял ошибку. Завистливая некрасивая подруга всегда сыграет с чужим кавалером белыми. А после шаха и мата еще и нож в спину всадит!
Но знала бы Пятно, каких сил стоила ему эта незатейливая экскурсия! Он как вошь на гребешке! Кроме того, Пятно напомнила Ян Гали его самого. А на себя он смотреть не любил.
— А ведь мы почти пришли, — схватился за соломинку, — вон там живет Даня, — и показал рукой на дом напротив.
Наверняка до Революции тут поэтажно сдавались квартиры. Теперь же коммуналки, а на первом этаже «Хрусталь». Здесь отец на юбилей супружеской жизни приобрел матери столовый сервиз, а Ян Гали на первую зарплату чашку с блюдцем ЛФЗ.
— Мы буквально на полчасика, а потом провожу, — продолжал Ян Гали и очень внушительно, как заправский соблазнитель, глянул на Пятно.
Пятно вдруг стаяло и превратилось в трогательную легковерную девчонку, которой что-то пообещали. И он снова со стыдом обнаружил в ней себя. Лицо такое же вечно унылое, как бы ни старалась изменить выражение, и какое-то мелкое, птичье, не успевшее принять должные черты взрослого. Робко выглядывает из-за челки, заранее стесняясь своей непритязательности, боясь не угодить взыскательному вкусу. Такие особенно мечтают о чем-то значительном. Болезненный ребенок, который крайне не уверен в себе, но в качестве компенсации втайне надеется на свою исключительность.
Нелли и Ян Гали, не дав ей опомниться, подхватили с обеих сторон под руки и, перебежав улицу, нырнули в высокую подъездную арку, в которой перекатывалось эхо от их беспечного смеха.
6.
Дверь квартиры распахнута, будто выбегал кто-то впопыхах и забыл за собой притворить. Дальше сумрачный коридор, стены которого увешаны лыжами и оцинкованными корытами. А жильцов словно и не было никогда. Тишина. Только из Даниной комнаты доносится музыка, кажется, Мондрус. Странно, Даня плюется от Мондрус. Неужели дома его родители? Катастрофа!
Нелли вдруг жалобно заскулила, схватившись за коленку. Пока в потемках пробирались к Даниной двери, нечаянно ударилась об угол сундука чьей-то бабушки, видимо, выписанной взрослыми детьми из деревни.
Ян Гали постучался. Никто не отозвался, а музыка не утихла. В приоткрытую дверь соседней комнаты высунулось небритое, отечное лицо, воровато осмотрелось и тут же скрылось. На ребят успело пахнуть перегарным духом.
В комнате Дани дым висел коромыслом. Родители разрешали ему курить в комнате. На первый взгляд никого. Под колеблющимся абажуром на столе нетронутый песочный торт, крупно порубленная чайная колбаса, початый крымский портвейн, оставленный дядей Колей со Дня Победы. А еще облепленные мухами кагор и лимонад.
С пластинки и вправду Мондрус надрывалась. Но ее никто не слушал. У закрытого окна за тумбой, накрывшись одеялами, несколько согнутых спин. Ян Гали стало неловко перед Нелли — обещал приличную компанию.
— Все ушли на фронт? — попытался перекричать пластинку.
Тут же всполошились, повылезали из-под одеял: двое ребят с красными ушами и взъерошенным волосами. Только Даня невозмутимо, как ни в чем не бывало выключил трофейный «Шауб», убавил звук на проигрывателе и просто закурил.
— Незваный гость хуже татарина, — мрачно приветствовал Даня.
— Закрываться надо в таких случаях. Что вещают из Мюнхена? — неосторожно пошутил Ян Гали.
— Много будешь знать, мало запомнишь, — проворчал Даня, косясь на его оробевших спутниц, — мне-то, скажем, плевать. И времена уже не те, чтоб за это «винтить». Но мой фазер в МИДе работает, — со значением сказал он.
Ян Гали представил гостей.
— А наши девушки нас побросали и убежали, — пожаловался Даня, — уже и приобнять никого нельзя. А все хорошо начиналось! Суббота, короткий день, и вся проклятущая фатера поехала на свои садовые участки. Туда им и дорога. Начнем все заново! — и в предвкушении вечера радостно потер руки, — так даже лучше! Булкин, — распорядился он, обратившись к одному из друзей, — чайник поставь! — затем усадил девчонок за стол, стал нарезать торт, поставил новую пластинку.
Нелли явно пришлась Дане по вкусу, и он распушил перед ней хвост. Незаметно подмигнул Ян Гали и оттопырил вверх большой палец, мол, на большой!
Надо, улучив момент, предупредить его, чтобы зря губу не раскатывал. Пусть вторую берет! Еще больше заволновался, заметив, как гостьи с пылающим румянцем принимают эти ухаживания. Летом Даня гостил у бабушки в Керчи и возвращался оттуда с совершенно завораживающим блатняцким южным говорком. Теперь он включил его, чтобы расширить собой зону поражения. Будто мало ему того, что и так всеми любим.
Ян Гали сам невольно загляделся на него. Чистый вампиреныш! Выпьет всю кровь, высосет весь дух из человека и не подавится! Бледный, самодовольный, с брезгливой складкой возле ярких плотных губ. В соксах, таких же красных, как заграничные сигаретные пачки, которые собирал. Да, дядя Коля действительно работал в МИДе мелким чиновником, и это никак не сказывалось на их статусе, благосостоянии, зато Даню все же собирался пристроить в МИИТ. Или в любой другой институт, в какой получится, только бы с военной кафедрой. Даня не хотел служить. И к учебе особого рвения не проявлял. Зато от них обоих, от Дани и дяди Коли, пахло одеколоном и хорошим табаком.
— …Булкин, но, если наткнешься на этого «командировочного», — вдогонку предупредил Даня, — забегай обратно. У нас тут у соседа с неделю вдруг родственник подозрительный образовался, а сам сосед усвистал куда-то. Цельными днями сивуху у себя вонючую глушит. А когда взрослых нет, притиснет тебя в углу с нездоровыми разговорами. Все вынюхивает и в душу немытыми руками норовит залезть. Мой фазер предупредил, чтоб не трепался с ним.
— Или просто дурачок, — предположил Ян Гали.
— Ты, Ян, со всеми доверчивый. И даже на попов батрачишь, картинки их золотой краской подкрашиваешь. А попы у нас первые стукачи. Это они вид делают, будто ни до чего дела нет, сидят себе за монастырской стеной, хлеб да коврижки пекут. А им только волю дай, съедят тебя без этого самого плохо пропеченного хлеба.
— На каких таких попов? — не поняла Нелли.
Ян Гали внутри сжался…
Мать Ян Гали после смерти мужа ушла с «Красного богатыря». Что-то там не заладилось с начальником. Устроилась дворничихой. И еще подрабатывала на территории бывшего Никольского единоверческого монастыря. Огромная площадь (кажется, даже больше Рогожской заставы), расщепленная по кусочкам: стоянка для милицейских автомобилей; по краям за кустами и заборами какие-то домики с запертыми калитками; ну и сам Преображенский рынок, поглотивший большую часть.
В общем церковном здании молятся через стенку обновленцы и поморцы. Молятся через стенку, молятся по-разному, но дворничиха-татарка на всех одна.
Когда мать не поспевала со снегом, на ее место заступал Ян Гали, чего стыдился и что держалось от школы в строжайшем секрете. Поэтому особенно ненавидел метели. А любил спокойный устоявшийся мороз. Искрится на солнце и скрипит под ногами вычищенная гладкая тропинка. И весь съеживался в нехорошем предчувствии, когда за окном рвалась на ветру белая занавесь. Значит, после работы еле живая мать, греясь у печки, кивнет ему на вешалку, собирайся, мол. И Ян Гали, смиренный сын, заранее обессиленный, оставит учебник, нехотя натянет на глаза лыжную шапочку, чтоб никто по дороге не узнал, долго будет возиться с ботинками из кирзы (пока мать не прикрикнет), накинет старую телогрейку и окольными путями побредет на свою голгофу.
Путь тяжел, но цель прекрасна. За монастырской стеной все приходит в равновесие. Прийти сюда, будто в бесплатном музее бывать, будто в прошлое убежать на своей выдуманной машине времени. Наверху угловые башни, которые, как люди, непонятно на чем держатся, но на всю жизнь схвачены обручем. На их шпилях вместо крестов флюгеры-флажки.
Самая главная тут почерневшая, с провалившейся крышей, но живая и настоящая «Преображенская свеча», готическая сорокаметровая колокольня, без яркого креста и больших колоколов, но с мозаичной иконой Николая Чудотворца. Правда, проход закрыт, внутри всякий хлам: дворницкие инструменты, ветошь, песок для посыпания. Напротив нее бывшая богадельня с бывшими иконописными мастерскими.
Староверов Ян Гали воспринимал какими-то вынырнувшими из игрушечной старины. Все как один подпоясанные, только что родившиеся и отмытые для праведной жизни. Претерпевшие со своей боярыней Морозовой и протопопом Аввакумом, закаленные невзгодами, суровые, непримиримые, прячущиеся, недоверчивые, казались они честнее и чище, нежели рыхлые и послушные никониане-реформисты. Хотя и тем и другим, потом одинаково досталось.
Он шел туда за редкой возможностью побыть в одиночестве, чтоб никто над душой не стоял. Под разные звуки лопаты, метлы и лома, за механикой собственных действий, скалывая скребком лед до асфальта, будто усердно молился. Тело приобретало объем, становилось легким, и видел себя уже как бы со стороны. При ясном сознании тело исчезало.
Но Даня в чем-то прав: и староверы, и обновленцы гнули их с матерью одинаково. Что с того, что Ян Гали после нескольких часов на морозе сплошь обледенелый, сосулька в человеческий рост, снеговик живой, и руки-ветки вот-вот отвалятся, и чаю горячего хочется? Дело делай и не ропщи! Нет на земле правды, свободы и справедливости. Везде свои начальники: гражданские или церковные. Везде невежество, черствость души. Даже в этой обители. Отсталый консервативный мир, сколько бы лбом о землю ни бились, сколько бы крестом себя ни осеняли, сколько бы ни славили КПСС… Так зачем же, скажите на милость, сдалась эта Бауманка, после которой, в случае поступления и успешного окончания, лихо закрутят в какое-нибудь секретное КБ? Не будет литературы. Но будет наука. А с такими вещами все нипочем.
— …а что, Ян не рассказывал? — деланно удивился Даня. — Он с матерью на служителей культа батрачит: снег им кидает, воду святую заряжает, «картинки» золотой краской подкрашивает. И это будущее нашей ядерной физики, — распекал он весело.
Нелли ничего на это не сказала, но в сторону Ян Гали больше не глядела. Чтобы восстановиться в ее глазах, Ян Гали, между прочим, в отчаянии прихвастнул:
— Моего Смирнова напечатали!
— Кто такой Смирнов? — тут же заинтересовалась Нелли.
— Отставной козы барабанщик! — выдал Даня, который Смирнова терпеть не мог. Тот всегда придирался к неряшливому Тесемкину. Это теперь Даня манерничает в шузах на толстом каучуковом ходу. А раньше пионерский галстук вечно не заправлен, концы торчат в разные стороны, один короче другого. Потом и вовсе стал носить его в кармане, а на общем построении, чтобы не портить образцовую картину, стоял во втором ряду и небрежно козырял вместо «чести». Даня был второгодник. И этим все сказано. Вся судьба наперед прописана. Человек преступил условности и перестал бояться правил.
— Пролез. Умеют же люди, — присвистнул Даня с завистью, — у кого фазер пьет с главредом, того и печатают. Они вместе отправляли свою вязанку стихов в журнал, — поделился с ребятами, снисходительно кивая на Ян Гали, — но «Юность» выбрала другого.
— У меня стихи неважные, — оправдывался Ян Гали.
— Как самокритично!
— Не думаю, что так уж и критично, — пробовала заступиться Нелли. — Ян, ты же нам обещал почитать?
Обещал… Разве мог тогда предположить, что квартира Тесемкиных — не самое подходящее для триумфа место. Ян Гали привык к тому, что Даня с самой любезной улыбкой, глядя прямо в глаза, способен ранить откровенными гадостями. Но при этом никогда не переходил дорогу. Потому что делить было особо нечего.
Теперь же, когда Даня вполне оценил тоненькую талию и широкую юбку Нелли, между ребятами выросла стена. А наивный Ян Гали так рассчитывал на помощь: подшлифуют неумелые ухаживания, подскажут, ободрят, замолвят перед ней словечко, а если сильно повезет, то и кровать за шкафом уступят.
И друзья Дани под стать ему, такие же неуправляемые: Федич и Гарик Булкин. Как на подбор. Никогда не воспринимали Ян Гали всерьез, будто Данин младший брат, некстати и недостойно затесавшийся в их «взрослую» компанию, хотя все они ровесники. Шатко балансировали между откровенным хамством и вынужденной вежливостью. Если Даня был в ударе и давал команду «фас!», то спасения от них не было. При его молчаливом попустительстве и ленивом участии на голову Ян Гали обрушивался град насмешек. Обычно Ян Гали отмалчивался и пропускал мимо ушей (иногда даже искательно подхихикивал), чтобы сгладить все резкости. Но не в этот раз! В присутствии Нелли, которую привел себе на погибель, не даст втоптать себя в грязь. Еще надеялся вернуть пошатнувшееся расположение Нелли своим лучшим, по собственному мнению, текстом. И заткнуть недоброжелателям прокуренные ненасытные глотки! Но он ошибся. Нелли действительно в стихах не разбиралась. Разбиралась Пятно, но на ее мнение всем плевать.
— Есть у меня небольшое, чтоб не утомлять, — откашлялся Ян Гали.
— Да уж, пожалуйста, покороче! — требовал народ.
— Валяй свою «Балладу о гангрене», — разрешил Даня.
…После прочтения будто лимона кислого объелись. И Нелли глаза опустила, ждала, что скажут другие. Другие, Федич и Булкин, принялись наперебой корчить рожи:
— Ян, ты, как зяблик, про одно и то же.
— Однако соблазн писать белыми стихами. Может, тоже податься в поэты?
— А может, он, как слуга Чичикова, наслаждается процессом как таковым?
— Ага, буквы складываются в слова, а слова в предложения.
Даня некоторое время отмалчивался, наслаждаясь моментом, а потом пригвоздил:
— А я понял, почему Смирнова взяли, а тебя спустили в унитаз редакторской уборной. У тебя тексты будто без опоры, бестелесные, ни на чем не держатся, не за что уцепиться, ни к чему не привяжешь и не подвесишь, понимаешь? Короче, ни про что!
— Ага, — поддержали остальные, — будто через марлю написал.
Какая марля? Собралась профессура кислых щей! Как называется чувство, когда дилетанты говорят о предмете, который ты хорошо знаешь, но тебя не спрашивают?
Выйдя из-за стола, Даня подошел к проигрывателю и, сняв лапку, положил на Мондрус один из рентгеновских снимков. Бойко заиграли «Жучки». У Дани даже была их переснятая фотокарточка, на которую сильно дышал и чуть ли не молился. Пока друзья Дани развлекали за столом девчонок, Ян Гали тихонько подошел к нему:
— Даня, зачем ты это делаешь? — спросил напрямую.
Даня никогда не отвечал на прямо заданные вопросы. Не отпирался, но вместо ответа провоцировал сильнее или предлагал что-нибудь на спор. Или кого-нибудь:
— Скажешь прилюдно, что Смирнов — дерьмо, отдам тебе твою Наилечку.
Даня, кажется, совсем напился. Ему много не надо. Вместо притупившегося чувства самосохранения возникло желание острых ощущений. Кажется, учительница биологии сравнивала его с ужасным токсичным цветком, каким-нибудь крестовником, с бьющимся сердцем потенциального подлеца, чью невинную душу занюхали, рано развратили, всыпав туда гадость.
— Что тебе еще сказать? Что Пушкин — дерьмо?
— Нет, Пушкина обидеть — не страшно. Пушкин тебе никто. Пушкину плевать на тебя из глубины веков. Давай так, ты еще скажешь, что современная советская литература — унылое дерьмо, помимо ее выкормыша Смирнова. Туда, — кивнул на окно, — можно негромко, но так, чтобы в комнате все слышали. Тогда я отменяю право первой ночи и отдаю тебе твою Наилечку со всеми потрохами, и даже уступлю мою кровать за шкафом.
— Какая именно?
— Что значит «какая»? Литература или есть, или ее нет. Так вот, советской литературы не существует. И ты это просто подтвердишь. Скажи, как есть. Или боишься, что потом в журнале не напечатают?
— Нельзя так в целом. Есть разные методы. Есть много того, чего мы не знаем.
— Зубы не заговаривай. Я ж тебе не Партию с моего подоконника предлагаю ругать. Призывы к свержению в этой квартире не разрешу. Меня потом папка заругает.
— Спасибо и на этом.
Даня, недолго думая, подошел к окну, приоткрыл форточку и, повернувшись к Ян Гали, выжидающе посмотрел на него.
— Что случилось? — заволновались девочки.
— Ян говорит, сил нет. Из форточки, говорит, хочу выброситься. Ну, так что?
И в спокойном ожидании, вальяжно откинувшись на стульях, все уставились на него. Ян Гали казалось, что все гады мира наползли, навалились, сдавили и облепили его со всех сторон. Стало трудно дышать раскаленным вражеским воздухом. Держись!
Он упрямо стоял на месте, лицо при этом пошло красным, подбородок затрясся, губы судорожно задергались. Ну что ж ты не удержался! Надоело пыжиться и пытаться сохранить лицо. Что нужно сказать или сделать, чтобы Даня отстал, чтобы все прекратить? Послать его? Подыграть? И то и другое глупо.
— Мальчики, перестаньте! — пыталась образумить их Нелли. Но Дане и того мало:
— А теперь я наглядно продемонстрирую, что нельзя на тебя положиться, Ян. Кого больше любишь: Достоевского или Толстого?
Наступила еще одна тягостная пауза. Нельзя отвечать однозначно. В чем подвох?
— Обоих одинаково люблю, — голос у него сорвался.
— Вот в этом и проблема. Ты очень страшный человек! Наилечка, а вы не бойтесь! Я вас спасу — закружу, — выдернул девушку из-за стола и тут же принялся разучивать с ней какой-то замысловатый танец, официальным заученным голосом комментируя, — темп умеренный. Исполняется в коллективном линейном построении, с синхронными движениями, регулируемыми командами распорядителя…
Пунцовая, разомлевшая после кагора Нелли поначалу отнекивалась, но через минуту вошла во вкус. Еще через минуту заливалась колокольчиком. Смотри-ка, и про экзамен забыла… Все-то Даня знает! Всему-то обучен! Ни выстраданные тексты, ни публикация в солидном журнале — ничто не работает против копеечного незатейливого человека, если у него смазливая харя и море отрицательного обаяния. Мелкое зло, которому хочется сначала подыграть, чтобы сделать его своим, а потом подчиниться.
7.
Обвел всех растерзанным взглядом и, стиснув зубы от стыда, незаметно вышел. Даня, сам того не ведая, отомстил за обидное игнорирование Пятна. Наблюдая чужие унижения, Пятно ликовала. Она сияла, а зеленые глаза горели адским пламенем!
В коридоре услышал, как из темной кухни доносится зловещее шипение оставленного на плите чайника. Собирались есть торт. Теперь уже без Ян Гали. Пусть дважды подавятся! Надо выключить газ, а то подгулявшая компания, забывшись в своих модных танцах, рискует угореть. Пока слушают «Немецкую волну» и «жучков», окна открывать больше не станут. Не сильно душно бывает в таких домах с высокими потолками.
Слегка потянуло газом. Все же вода из-под крышки залила пламя. Ян Гали, не зажигая свет, вошел на кухню и по памяти на ощупь отключил конфорку. Теперь почти тишина, если не считать из постылой комнаты раскаты хохота, среди них украденный Нелин смех. Судя по интонациям и громкости, все друг другом довольны. И, наверняка, по инерции перемывают ему косточки. Рядом гремит пузатый ЗИЛ. Ян Гали на всякий случай проверил ручку холодильника — заперто.
Почему не уходишь, Ян Гали? Решил испить чашу до дна? Ну да, они ведь даже выпить не предложили. Станешь внушать чувство вины, а им лишний повод позубоскалить. Если есть в Нелли толика того, что ты разглядел, то ей будет стыдно за тебя. А если ошибся, то она уже тебя забыла. Она ничего не обещала. Вместе с ее интересом угасло уважение к себе. Еще с утра Нелли не существовало, а теперь он с трудом свыкался с мыслью жить без нее. А он так мечтал ей почитать «На даче спят. В саду до пят…»
С трудом подавил стон, уронил голову на руки и стал потирать лицо. Так, соберись! Нельзя раскисать — в понедельник экзамен! Все, что ни делается, к лучшему. В понедельник на экзамене будет проще, можно затеряться в толпе в огромной аудитории. А вдруг мы оба поступим? Как же будем учиться? Через силу здороваться, когда та будет горделиво проходить мимо, полная уверенности в собственной неотразимости, одаривая жалостливым взглядом. С Данькой проще: через день как миленький прискачет, станет ластиться…
— …Воля ваша, — согласился государь, — соблаговолите сообщить подробности дела: причину вызова, противника (впрочем, после августовских балов на Елагином я догадываюсь), где и когда? Я тотчас распоряжусь! Противника под арест!
— Я мог бы прийти к вам с материалами будущего военно-судного дела, но все это пустое. Не вздумайте ничего предпринимать! — в приказном тоне предупредил Михаил Андреевич, от чего царь опешил. — Вы все погубите. Здесь главное, ни во что явно не вмешиваться. Одно должно вытекать из другого. Это не марионетки, это живые люди со свободой волеизъявления, с правом личного выбора, слышали о таком?
— Пушкину я сделаю очередное внушение, — не унимался государь, — он послушает меня, он верит мне.
— Зато ему верить нельзя. Будто вы не знаете, что это за человек. Он усыпит вашу бдительность, а сам под пулю! Он и сам смерти ищет. И надобно ему помочь. Вы постараетесь замять дело, а здесь нужно пустить кровь.
— Чью? — почти вскричал царь. — Я отказываюсь вас понимать. Под видом спасения Пушкина вы различными намеками даете мне понять противное…
И Михаил Андреевич наконец поделился собственным планом спасения:
— Несколько лет назад у нас проводили эксперимент: по манекену, облаченному в мундир противника, делали специальные выстрелы с той же позиции, в двадцать шагов, в которой находился Пушкин. Хотели доказать предположение Вересаева, что не пуговица спасла жизнь противнику, а нательная кольчуга. Якобы попала в преграду больших размеров и плотности, способную противостоять ударной силе. Согласно баллистическим вычислениям пуля должна была хотя бы деформировать пуговицу и вдавить ее в тело…
— У нас нет таких панцирей, о каких вы говорите, способных выдержать выстрел такой силы и с такого расстояния! Противник будет поражен не только пулей, но и разбитыми кольцами этой самой кольчуги. И невозможно с той же точностью зафиксировать позы Пушкина и его… противника. Это не под силу даже самим дуэлянтам, случись повторить то же самое. Показания секундантов, я полагаю, дают лишь общее представление об этих позах. Любое принижение противника, упрощение обстоятельств поединка означает и принижение самого Пушкина.
— Согласен, все эти ухищрения не достойны его памяти, — заторопился Михаил Андреевич, — но это и навело меня на мысль. Отклонись пистолет Пушкина или положение тела Д’Антеса на один сантиметр, то неизбежно изменится траектория полета пули, характер соприкосновения пули с телом.
— Стало быть, противник — молодой барон? — поймали его на слове.
— Да, обласканный вами легитимист с кучей взысканий. Хорошенький остроумный французик, от которого все без ума, — досадливо признался Михаил Андреевич, — а если, положим, поменять Черную речку на Парголовскую дорогу, как было изначально запланировано. И стреляться не на двадцати, а на десяти шагах! «Чем кровавее, тем лучше». И двадцать седьмое января 1837 года на двадцать первое ноября 1836 года! То есть, в отличие от Жуковского, нужно пытаться не отдалить возможную гибель, а наоборот! Если невозможно повторить в точности положения тел и направление пули, значит, исход может быть любым. Тем более если изменить место и время встречи, условия поединка… Понимаете, невозможно войти в одну реку дважды, — государь, давно разучившийся в масштабах огромной империи ценить конкретную человеческую жизнь, и то был поражен цинизмом Михаила Андреевича, — в мире нет ничего одинакового и постоянного, и одно событие в разное время происходит по-разному. Любой из физических объектов состоит из атомов и молекул, их объем и комбинация в каждом объекте уникальны, а потому даже при самом тщательном воссоздании неизбежны неточности и ошибки, отклонения от образца, и любая копия отличается от оригинала. Нельзя в мире найти двух абсолютно идентичных людей или явлений. Не существует двух одинаковых снежинок, осенних листьев, отпечатков пальцев, двух сторон человеческого лица, «одинаковых близнецов»… Даже если два явления в точности подобны друг другу, то сам факт, что их «два», разделяет эти явления, поскольку они занимают разные места в пространстве и во времени. Конечно, по теории вероятности, возможны повторы, но встретиться они могут на расстоянии множества световых лет, в другой галактике и в другом измерении. Не могу посвятить вас во все детали, мне нужна полная свобода действий. Только избавьтесь от Жуковского, отошлите его на это время из столицы или уговорите не вмешиваться, он нам все дело загубит, мне с ним не сладить. А секунданта Соллогуба возьму на себя. С женой смысла нет говорить. Она своими мозгами только на том же птичьем разумеет говорить. Проворонила мужа…
— Откуда такое предубеждение? Вам нужно хоть раз увидеть ее. Жаль, что не вчера появились. Вчера в Аничковом состоялся первый бал зимнего сезона.
Михаил Андреевич, похолодевший от ужаса, отчаянно запротестовал:
— Бал ваш должен состояться пятнадцатого. Отлично помню, я же готовился.
— Помилуйте, сегодня уже шестнадцатое.
— Как же у вас шестнадцатое, когда у нас шестнадцатое? А у вас по старому стилю третье число. А послезавтра, утром пятого ноября, письмо с вызовом будет у Д’Антеса, вернее, у его папаши.
— По какому такому старому стилю? — не понял Николай.
— По Юлианскому! — взялся тот за голову. — После декрета!
— После какого декрета? У вас шестнадцатое, и у нас шестнадцатое. Если вам затруднительно, явитесь на две недели раньше, скажем, седьмого или восьмого ноября.
— Раньше я не могу. У нас годовщина!
— Поздравляю, — совсем уж растерялся тот.
— Обойдемся. Вы понимаете, что это конец?
Но государь отказывался понимать. Признаться, он давно потерял нить беседы и только вовремя кивал, чтобы случайно не разозлить странного гостя, внешне сухаря со скрипучим голосом, но, кажется, впервые потерявшего самообладание, и теперь тот все более горячился, рассуждал вслух, почти заговаривался:
— …старик Геккерн уже наврал с три короба Жуковскому о любви сына к Катиньке. Он даже к Загряжской сунулся. На ее квартире Геккерн встречался с Пушкиным и даже вынудил отказаться от дуэли. Но ничего, шансы сохраняются! Д’Антеса не устроит мотивировка отказа, он потребует изменить ее, думая, что это только формальности. Он еще не понял, с кем связался… Что там дальше? Сегодня Пушкин у Карамзиной накажет Соллогубу снова условиться насчет материальной стороны дуэли. Шансы сохраняются! Шарик движется, шарик движется…
Надо выбираться отсюда. И только подумал об этом, вдруг ощутил чье-то присутствие. В нише задвигалось нечто объемное и бесформенное. Ян Гали сразу забыл обо всех горестях! Сначала решил, что кто-то из Данькиных ребят, притаившись, подслушивает, беззвучно хихикает в ожидании его сдавленных рыданий.
Но, отделившись от стены, из укрытия на него выплыло нечто. Ян Гали в ужасе отступил и больно наткнулся на ручку отгремевшего холодильника. Озноб продрал по спине, Ян Гали уже собрался голосить что есть мочи, но привидение вдруг заговорило вполне себе будничным голосом:
— А я соснул маленько, — поведало оно, потирая глаза и почесывая всклокоченные рыжие вихры, будто и вправду спросонья,— стоя, как боевая лошадь, представляешь? А слышу, скулит кто-то…
Ян Гали будто поймали на месте преступления. Он незаметно смахнул пару тихих слезинок. Не хватало еще лишних разговоров! Видимо, тот самый бесцеремонный жилец, чье лицо мелькнуло тогда в дверях и о котором предупреждали. Ян Гали оглядел его: обрюзгший тип в мятой грязной майке, кажется, прожженной в одном месте, с бессмысленным насмешливым взглядом и упитанными, покрытыми щетиной щеками.
— Я не слышал, — отрезал он, — наверно, чайник шипел.
— Приснилось, — согласился тот примирительно. И как ни в чем не бывало плеснул себе в кружку из чужого чайника, — сначала думал, опять Данька какую-нибудь скребет… Неделю уже торчу тут без смысла и дела,— продолжил несвежий толстяк, громко отхлебнув, — а они каждый вечер на нервы действуют. Мы ведь тоже в свое время с миру по нитке на стол собирали, приглашали девочек, пластинки слушали. Мы ведь скромнее жили, чем вы. У вас теперь все есть. Данька этот бестолочь и бездельник, много всякой заразы стиляжной водит, только родители за дверь. Изо дня в день одно и то же, одни и те же. Но бывает, что новые приходят. Ты ведь новый? — и подошел якобы к окну, на самом деле ближе к Ян Гали, чтобы разглядеть его, — одноклассник или так?
— Или так, — нехотя отвечал Ян Гали, чуть отстраняясь от него и зажимая нос. Как при газовой атаке на Ипре! Что, у командировочных нет мыла и своего кипятильника?
Эх, надобно, домой все же. Нечего мне изливать душу, у самого душа — сплошная рана. Пусть отваливает в нору с чужим кипятком и там зализывает кислые раны.
— Я почему спрашиваю, — пробовал тот «жертву» на глаз, подлаживался, как бы подступиться, — я вообще спал, вы не подумайте, через заколоченную в стене дверь хорошо все слышно, — долго подбирался к сути, — это вы что-то такое читали, да? Просто оттуда, кроме заокеанских голосов и музыки, ничего порядочного не услышишь. Я уж молчу про другие непотребства. За последнюю неделю, которая, признаться, тяжело далась, впервые услышал что-то стоящее. Нормальную гражданскую речь про хороший понятный смысл. Крепкие такие стихи! Как сколоченная лестница с вырубленными ступенями. И главное, не шатается! Вроде топчется на месте, но пружинисто, захватывает сразу и ведет. И ритм, и смысл!
Толстяк думал, что похвалил, но Ян Гали окатила волна унижения. Вот как выглядят его тексты: «нормальная гражданская речь про хороший понятный смысл». А он, наивный, полагал, что стихи его как хруст сочного зеленого яблока, а не сухая струганая доска. Изо всех сил зажмурился, выжимая из себя остатки слез.
— Это у вас какое-то лито? — доставал его толстяк. — Мне плохо было слышно. Это вы какого-то неизвестного поэта читали? Из неизученного, да?
Жуткий тип! Ян Гали выпрямился, посмотрел на него, как он того заслуживает, и с видом оскорбленной добродетели сразу предупредил:
— Ничего запрещенного мы не читаем и не слушаем, тем более вслух, — и собрался уходить.
А тот нисколько не смутился, наоборот, прыснул неожиданно, и брызги слюны попали на Ян Гали:
— Да вы не поняли! — не унимался толстяк. — Я не это имел в виду. Может, вы из творческой среды. Может, вы где-то учитесь или где-то работаете, и знаете такие имена, которые не то чтобы запрещенные, а до которых у литературоведов еще руки не дошли.
— Это мои стихи, и они, как вы правильно заметили, совершенно обычные.
И слово «поэт» тут же показалось надуманным и бесполезным. Все эти вкривь и вкось зарифмованные выспренние тексты, которые на самом деле не имеют ни малейшего притязания на художественность. А толстяк со своей застылой подлой улыбочкой почти угадал его мысли:
— Значит, богема будущая, — сделал он собственные выводы, — так и думал. Бедовый вы народ, богема. Сотрясение воздуха! Рифму-то изначально придумали, чтоб лучше запоминать тексты. Прикладной характер, так сказать.
— Автомобиль тоже изначально создавали как средство передвижения.
— Вот-вот, и большинство населения вполне обходится… без ваших стихов.
— А с чего вы взяли, что нам так важно мнение большинства? — с вызовом обратился к нему Ян Гали, окончательно разозлившись. — На то они и стихи, чтобы только самые-самые испытывали потрясение, воскрешали в голове прошлое, попадали под обаяние чужих мыслей, разыгрывали воображение… Это называется эстетическое удовольствие!
— Ты меня не понял! Если поэт перестанет писать, актер — учить роль, а балерина — махать ногами, ничего ведь ровным счетом не изменится. Мир будет стоять на том же месте… Шахтеру с Донбасса и сельскому труженику, поднимающему казахскую целину в песчаных бурях, не холодно и не жарко от ваших внутренних процессов. А вот если крушение поезда… Или авария на подстанции, вы ж в дерьмо изойдетесь, интеллигенция! Какая доблесть говорить куплетами! Даже вот ваш главный… Застрелили, и что? Зато была у него баба, нарожала ему кучу таких же красивых здоровых детей. Все потомки за бугром… А нашим детям от него головная боль, которая стихами все зовется.
— Пожалуйтесь в роно. Только невозможно отменить температуру, страсти и сны.
— Самое хорошее стихотворение замешано на утонченных и скрытых страстях, пропитано искусом. Служить дьяволу изволите, — заговорщически подмигнул толстяк.
Не ожидал от него таких слов! Казалось, он, как попугай или кукла наследника Тутти, безответственно и механически, не вкладывая собственного смысла, удачно воспроизводит случайно услышанные по радио или в трамвае обрывки фраз от разных людей. И вовремя переключает регистры, меняет лексический набор в зависимости от заданной направленности, будто изощренно глумится над собеседником.
— Вряд ли дьявол подозревает о моем существовании, если только существует, — с каким-то даже сожалением заметил Ян Гали.
— Слушай, раз ты поэт, может, выпьем? — воодушевился толстяк. — Вы же, поэты и артисты, жрете как лошади. Причем одинаково, что на радостях, что с горя. Я в ЦДЛ и Доме Кино видел вашего брата. На бровях выползают. Есть у них там один официантик Гена, шустрый такой, угодливый. Сгибается в три погибели, потирает ручонки с полотенцем наперевес, мол, чего изволите? А потом, когда отгулявшая компания щедро расплачивается и отъезжает, Гена шасть к телефону! И дежуривший за углом патруль выжимает из творческих карманов остатки гонораров. Это, естественно, тоже напополам.
А почему бы, собственно, не выпить? Там же не налили. Вроде бы отталкивающий, не располагающий на первый взгляд, но забавный и безобидный ряха, которому дай волю потрепаться. И к запахам его почти привык, почти не чувствуется. И гнев давно сточился.
— Еня, — протянул толстяк большую и влажную лапу.
Ян Гали нехотя притронулся к ней, но сам не представился. А тот, кажется, не обратил внимания и, взяв его бережно под локоток, повел по коридору. Сделал приглашающий жест и по-хозяйски пропустил в комнату, заперев за собой дверь.
Сразу видно, что обитает холостяк. Комната-пенал почти необжитая: окно на всю стену; панцирная койка с засаленным матрацем, без простыни и подушки; лампочка в конусе из газеты; на стуле командировочный фибровый чемодан; на спинке стула пиджак; а на полу множество пустых бутылок. Общая с Даниной комнатой дверь забита гвоздями и завешана ковром.
Ян Гали зачарованно уставился на широкий подоконник, на котором, помимо горы окурков в заполненной консервной банке, поблескивают гранями янтарные бутылки с белой лошадью на темно-синем фоне этикетки. Еня засуетился, стал прибираться:
— Извини за бардак, — закатывал он под кровать со звоном выпитые бутылки.
— Да что я баба, что ли, — проворчал Ян Гали, притулившись на край подоконника.
— Сам понимаешь, такую посуду так просто не сдашь и не выбросишь.
— И так просто не купишь, — заметил Ян Гали, — по спецзаказу? Или в «Березке»?
— В Елисеевском с черного хода, — беззаботно выбалтывал тот, торопливо накидывая и застегивая рубашку с пятнами в подмышках. В осколке зеркала сосисочными пальцами пригладил рыжие вихры и зачем-то схватился за электробритву, но потом передумал.
— И что же вы не закусываете? — иронически скривил губы Ян Гали. — Судя по количеству выжратого в одну глотку, этот виски у вас из ушей скоро польется.
— Такие вещи не закусывают. Это тебе, брат, не водка, — сворачивал Еня головку прижатой к груди бутылки, — одно кощунство то, что пробовать такие вещи приходится из граненого стакана. А если закусывать, то закусывать устрицами. А где их взять, спрашивается? Бычки в томате не годятся.
Он долго не решался опрокинуть в себя, но Еня вдруг взял его за подбородок и насильно влил в рот заграничное пойло, отчего Ян Гали скорчился весь, попытался вырваться и, как результат, расплескал половину. Уж лучше водку пить мелкими глотками и заедать дешевыми консервами.
— Самогон и барахло! — оправдывался Ян Гали, еле откашлявшись.
— Русский мужик не приучен.
— Я татарин.
— Бывает, — махнул рукой Еня. Он вовсе не обиделся. Предложил курево и поднес ко рту Ян Гали красивую импортную зажигалку.
За стенкой забубосила Пьеха. Потом Миансарова. Значит, снова слушают на короткой волне «голоса».
— Сильно достают? — в знак признательности посочувствовал Ян Гали.
— А мне не мешает.
— Ну да, я забыл, вы ж ценитель поэзии через стенку.
— Между прочим, именно в таком положении, приложившись ухом к стакану, можно услышать лучшее в своей жизни, — неожиданно признался тот.
Во, дает! Ян Гали снова всего пробрало от него. Занятный все же тип! Чем же занимается? Но вслух интересоваться было лень. Зато Еня все любопытствовал:
— А чего они? Выгнали тебя?
— Я сам ушел, — признался Ян Гали, незаметно для себя отпивая из протянутого стакана и зябко ведя плечами. И чуть погодя продолжил, хотелось выговориться постороннему: — Одна актриса, где-то вычитал, призналась в интервью, что всегда чувствовала, что ее не существует, а единственная возможность для нее быть кем-то — это, наверно, быть кем-то другим. Поэтому захотела стать актрисой. А мне всегда хотелось стать писателем. У меня ощущение, что я когда-то разошелся сам с собой, а из-за чего — никак не вспомню. Во что бы то ни стало напечататься, ходить в это самое лито, работать с расчетом на успех. Все это не мое. У меня ничего нет. Мне нечего предложить. Я устал. Все, что чувствую и собираюсь делать, сплошная гниль. Маюсь в бессильной злобе. И это плавно перетекает из моих занятий в обычную жизнь.
Ян Гали затушил бычок, так и не затянувшись ни разу, и будто сам превратился в обугленную головешку. Совсем недавно сигареты служили пропуском во взрослую самостоятельную жизнь со свободой и правом выбора. Теперь ощущения не радовали, не приносили ничего, кроме горьковатого привкуса, продирающего горло.
Болтун Еня оказался неплохим слушателем: не прерывал, не кивал, не поддакивал, не утешал, не советовал под руку. Подложив под раскормленную щеку кулачок, внимал каждому его слову, и только в конце резюмировал, выхватив самую суть:
— Что, достается, брат, от людей? А ты не ведись, — и в знак наметившегося приятельства похлопал по плечу, — я стихов не пишу, но у меня, дружок, тоже какой-никакой талант имеется. Я ведь все достать могу. Что пожелаешь, что душе угодно, на что денег и совести хватит. Ты обращайся, если что. Шустро подгоню нужный дефицит, любую протекцию устрою. Что у вас нынче в цене? Контрамарочку хоть на «Таганку», хоть в Большой. И в театрах, и музеях, гастрономах, ресторанах много наколок. И везде я свой. Свой среди чужих. Меня пол-Москвы знает. Даже из-за границы обращаются. Вот ты думаешь, откуда самые ходовые иконы?
— Очевидно, из сельской местности.
— Нет, брат, это «бедные» иконы. У крестьян отродясь приличных икон не было. А если и были, то большевики хорошо подчистили. Все порядочные иконы увезли в семнадцатом. Но теперь откат идет оттуда. Эмигрантская поросль обратно распродает стариковское добро. Все возвращается на круги своя — на историческую родину. Даже вещи. Предметы думать не умеют, за них люди решают. И благодарят. Только вот связался с одним на свою беду… Старый знакомец, никак не отвяжется, больно прилипчивый, таскается за мной, житья не дает, — расстроился вдруг, вспомнив о чем-то.
Затем отставил стакан, открыл ключом чемодан и бережно достал оттуда шкатулку. При свете луны оказалось походное бюро, какими пользовались в старину. Какой-нибудь Чичиков в таком перевозил списки мертвых душ. Ян Гали видел похожие на барахолках. Верно, из карельской березы или красного дерева (в темноте непонятно), с медными вставками. Внутри же несколько отделений для гусиных перьев, песочницы, лунка для пузырька с чернилами, а под крышкой на пересохших от старости кожаных ремнях закреплен небольшой пакет в серой бумаге, перевязанный крест-накрест бечевкой. Еня бережно вытащил пакет, оттянул Ян Гали левый борт пиджака и вложил во внутренний карман.
— Чувствуешь?
Ян Гали не понимал, что должен почувствовать, но на всякий случай кивнул.
— Чувствуешь, как жар пробирает? — допытывался толстяк.
Да, Енины дыхание и руки определенно горячие.
— Здесь собрана вся забота жены о муже. Говорят, она его не любила, изменила. Но если это нелюбовь, то скажи мне, где взять такую же нелюбовь, чтоб так же грела…
Однако здорово Енька набрался! Заговариваться начал, совсем его повело. Начал за здравие… Ян Гали тоже осоловело таращился на его мохнатую ручищу и клевал носом. Ничего не понимал: кто «она»? кого не любила? кому изменила? От Ениных слов стало еще тоскливее. Сердце сжималось сильнее… Погоди, это не тоска сжимает сердце. Это Еня через пакет надавливает на его грудную клетку.
Вместо обещанного жара ощутил внутри противный тошный холод от собственной догадки. Разом вышибло хмель. Да разве бывает такое? Он слышал о таких. Разумеется, бывают и хуже: прирожденные садисты, фашисты и психопаты. Но их тоже давно извели. Их женщины больше не рожают. Не искоренили лишь замаскированных мещан, это раньше всех заметил кумир Маяковский, чья фотография висит над кроватью Ян Гали.
— Отпустите, — произнес Ян Гали не своим голосом.
Но Еня уже нашептывал ему какие-то усмиряющие слова, от которых стало еще гаже. Угораздило же вляпаться! Ян Гали с отвращением отбросил от себя его мясистую пятерню. А тот, в свою очередь, зажал его в тесном кольце своих лапищ и попытался повалить на грязный матрац. Из вялого случайного собутыльника Еня превратился в настырное животное, которое тупо моргает, шумно дышит через раздутые ноздри, не понимает человеческую речь и тормошит его ремешок. Ян Гали вытошнило на толстяка. Это на время остудило пыл, но не хватку. Ян Гали из последних сил вырвался из душных объятий. Тот за ним следом, но тут же поскользнулся на блевотине.
Ян Гали бешено заколотил в запертую дверь, позвал на помощь. Но Миансарову в отличие от Пьехи трудно перекричать. Его панический вопль перекрыл общий гомон из Даниной комнаты.
Еня к этому времени поднялся и стал угрожающе надвигаться. Тогда Ян Гали в два шага метнулся на кровать, чтобы начать стучать в стену, за которой Даня наверняка уже устроился с Нелли на той самой кровати за шкафом. Судорожные выдохи, порывистые движения, чмокающие звуки, просьбы шепотом, смиренное ожидание на пылающем лице, изгиб подмышечной впадинки при отведенной руке… Все то, о чем сам мечтал с Нелли!
Ян Гали забился в угол и перепуганной зверушкой уставился на мучителя.
— Что же ты не лупишь в стены? — оскалился Еня. — Боишься, что товарищи твои не услышат «Немецкую волну»?
— Откуда вы… С чего вы… — не верил своим ушам Ян Гали. В два шага перекинулся с кровати на подоконник. Под ним закружилась Бауманская, пустая и темная. Кто-то ногтем задвинул луну за тучи. Днем улица многолюдная. Теперь лишь фонари на протянутых между домами проводах тускло покачиваются. Да шофер-экспедитор «Живой рыбы» выбрался из кабины и вошел в их подъезд. Ян Гали хотел было крикнуть ему, но в соседнем окне вдруг увидел профиль Нелли, витиеватыми клубами выдыхающей табачный дым. Это ее Данька успел научить!
— Не подходи, гад! Я выброшусь, — тихонько пообещал он Еньке, отпрянув от окна.
— Не выбросишься, — поняли его хитрость, — сказать легче, чем сделать. У тебя послезавтра экзамен, сам же говорил, — неужели, говорил? — А потом вся жизнь впереди. Не глупи, спускайся, — подкрадывался все ближе. Сейчас стянет за ноги и пиши пропало!
— Какая тут может быть жизнь после такой мрази, как ты! — вскричал Ян Гали, но тут же пожалел, боясь, что Нелли услышит. Он вытащил из внутреннего кармана Енин серый пакет и, держа за бечевку, выставил в окно.
Енька перепугался не на шутку. Замахал руками:
— Не трожь. Не трожь! Отдай, отдай! Не смей! Сколько они за бугром стоят!
Ого, какие, оказывается, интересные бумаги!
— Я предупредил! Не только извращенец, еще и шпион! — разоблачил его Ян Гали.
— Я ни то ни другое, — заплакал Еня, закрывши лицо руками, — я несчастный человек. Я думал, что ты тоже несчастный. Я пожалеть тебя хотел, дурень.
Крокодиловы слезки, еще и обижается:
— В гробу я видал такую жалость. Вот выпущу на волю, полетят твои бумажки на Лубянку, а там разговор обстоятельный будет. И еще на Петровку за мужеложство.
— Я человек! — бил себя в грудь. — У меня душа! Болит! Тоже!
— Очко у тебя болит. Лечиться тебе, дурак, надо! Открывай давай!
— Сам дурак, — пробурчал тот, щелкнув ключом, — ничего-то не понял. Вали на …!
Ян Гали спрыгнул с подоконника.
— Отдай письма! — затребовал Еня, прежде чем выпустить из комнаты.
— Сначала выпусти! — отрезал Ян Гали, пятясь от него спиной к двери.
В эту же секунду в квартиру позвонили. Два раза. Не к Даньке. К соседу. Еще один содомит пожаловал?
— Ты в окно, когда выглядывал, видел кого? — быстро осведомился Енька.
— Никого. Только «Живую рыбу».
Енька неудержимо затрясся всем телом и, позабыв обо всем на свете, бросился отпирать. Ян Гали, почуяв неладное, выглянул с опаской в коридор и, непроизвольно поддавшись смутному, безотчетному инстинкту, предусмотрительно спрятался в уборной. Что это за «Живая рыба», раз даже Енька от нее в ужасе?
8.
Судя по шагам, Еня с вечерним посетителем прошел на кухню. Надо срочно выбираться! Чтобы наметить пути отступления, Ян Гали осторожно поднялся на широкий край чугунной ванны, одну ногу поставив на смеситель. Дотянулся до рамы окна между ванной и кухней и, держась за него, высунул лицо. Сложно что-то увидеть через мутное со следами старой побелки стекло. Однако разглядел внизу стоявшего к нему спиной человека. Несмотря на малый рост и худобу создавалось ощущение, будто нависал над Енькой, сурово отчитывал его за что-то. А тот, чуть всхлипывая, с вынужденной готовностью внимал ему. И как уж на сковороде, то и дело изворачивался, заикался, путано и бестолково оправдывался.
Наконец терпение у гостя лопнуло, и он повысил тон:
— …хайло свое завали, пока кадык не вырвал! Целый год я тогда кормил тебя, ломал с тобой хлеб, как с порядочным арестантом. Ведь у тебя, Енька, за душой ни гроша, ни нитки! А ты мне, сука, отплатил! Ныкаешься от меня по всей Москве!
— Герка, ну что же ты такое говоришь? Меня уже дворник срисовал. Откуда, мол? Стук-перестук. Не сегодня, завтра шепнет участковому. Я ж тебя искал в Сокольниках, в пивной. Через Гагару от меня маляву получил или нет?
— Получил-получил. Да такую затейливую, что обыскался тебя не на Бауманской, а на Бакунинской!
— Гера, я перепутал, перепутал, — залепетал тот, закрываясь руками от очередного тычка, — я всегда путаю эти улицы. Они обе на «Б».
— Сам ты на «Б». Надумал для себя приберечь? Где письма, падла?
— Герочка, с ними все в порядке.
— Тьфу ты, не называй меня Герочкой! Тошнит от твоих пидорских замашек. Я тебя на куски порежу, если ты мне их не отдашь.
— А когда отдам, тем более порежешь. Но учти: в квартире свидетелей целый выводок. Слышишь их? Они сюда млядей таскают и стихи им читают, — покрутил у виска.
Герка некоторое время молчал, раздумывал:
— С другой стороны, ты же не ждал меня, не рассчитывал, что я тебя разыщу. Значит, и письма не прятал.
Еня попытался сорваться в свою комнату, но опрокинул табурет, оступился на нем, а тот, схватив табурет, со всей дури обрушил ему на голову. Но Еньке хоть бы что. Только взвизгнул, как баба, и со злобным оскалом вдруг накинулся на гостя. Некоторое время Ян Гали наблюдал в сосредоточенной тишине спутанный человеческий клубок с выбрасываемыми кулаками, дрыгающими ногами, редкой бранью и хрипами. Их молчаливую возню с перекошенными лицами, выпученными глазами и разинутыми ртами изредка нарушали раскаты хохота из Даниной комнаты. Наконец Герка достал из кармана длинное, остро заточенное шило и воткнул в толстяка. Тот сначала дернулся, но, издав неразборчивый звук, сразу обмяк и завалился назад.
Ян Гали в ужасе отпрянул от окна. И не удержал равновесие. Ударился затылком. От боли мутно, но сквозь эту муть, обволакивающую сознание, понял, что при падении схватился за водопроводную трубу и ободрал пальцы, сорвал кран…
Когда очнулся, в ванную настойчиво ломились. Внутренняя задвижка была слабой. С минуты на минуту она сорвется. Ян Гали в панике огляделся, чем бы стал обороняться на случай, если дверь все же поддастся…
Наконец дверь распахнулась, и Ян Гали выплеснул на незнакомца таз горячей воды. Для верности огрел оторванной при падении трубкой от душа. Откуда только силы взялись? Герка, схватившись за ошпаренное лицо, страшно заорал и сполз по стенке. Этих нескольких секунд хватило, чтобы броситься наутек. Кажется, из Данькиной комнаты тоже высыпались на дикие звуки. Вот и хорошо, поднимется невообразимая паника, страшная суета, но все это уже не важно…
Ян Гали едва поспевал за собственными ногами, наперед строчившими по ступеням. Потом вдруг передумал и рванул наверх. И вовремя, потому что выскочивший за ним преследователь полетел вниз, надеясь догнать. Ян Гали видел сверху, как на перилах каждого этажа мелькает его рука…
Но на одном из последних этажей руки вдруг не оказалось. И прекратилась беготня. В гулкой зловещей тишине спящего подъезда чуть погодя вызвали лифт. Ян Гали вжался в холодную стену. Каким-то неучтенным чувством понял, что кабина остановится именно на его этаже. Есть еще время забежать к Даньке, закрыться изнутри, все рассказать, вместе вызвать милицию, ведь на кухне труп! Но Ян Гали с места не тронулся. Смотрел с угла лестничной площадки и, с хлюпаньем втягивая носом кровь, мучительно ожидал развязки. Когда лифт остановился, зажмурился. Будь что будет!
Стальную решетчатую дверь распахнули, из кабины вышла пожилая пара:
— …вот вечно ты копаешься… Подскажите, квартира двадцать пять, Зайцевых, где находится? Мы только с вокзала, первый раз к сватам приехали.
Ян Гали не знал, где живут Зайцевы, но уверенно ответил:
— Не в этом подъезде.
— А как же вот у нас подробно расписано…
— Зайцевы в следующем живут, — уверил Ян Гали, — давайте я вас провожу и покажу, только выйдем из подъезда вместе.
Пожилая пара принялась горячо благодарить его и позволила войти с ними в лифт.
— Какой любезный молодой человек. Только мокрый, — пошутил муж.
— Вы не простудитесь?
— Хулиганы из окна окатили, — объяснил Ян Гали, прижимая ладонью разболтанные капризные дверцы кабины. На костяшках свежие ссадины.
— Вот уж безобразие!
— Ужасный дом! Цепь разомкнута. Видимо, механик не следит.
Проезжая один из этажей, Ян Гали выхватил взглядом в полутьме худое ошпаренное Геркино лицо, выдувавшее в решетку лифтовой шахты табачный дым и рассыпая от пахитоски каскад летящих искр. Лицо неотрывно в мстительной злобе взирало на него, как на жалкого кутенка, посмевшего от страха его тяпнуть. Мороз пошел по коже, и холодный пот выступил на лбу. Едва соображая, Ян Гали выбежал из подъезда, схватил горлом огромный глоток сырой улицы и дал стрекоча за угол.
Надо было на сорок пятый садиться! Но обуявший страх погнал дальше, заставил перебежать Бауманскую и инстинктивно нырнуть во дворы. И теперь рвался к Богоявленскому собору, а не назад к метро. Шарик движется, шарик движется… С четверть часа Ян Гали не мог освоиться в знакомом районе, натыкался на углы домов, на кусты. Как нарочно все кругом загудело, переполнилось дождем. Он исподлобья щурился от барабанящих капель, сквозь дождевую дымку искал дорогу. Ливень так и хлестал его, неприятно щекотал, стекал за шиворот. Нет, домой не поедет. Лучше сразу на работу, а здесь близко… Сначала хотел добраться теми же дворами через Спартаковскую площадь и Русаковскую эстакаду. Как ориентир, уцелевшая колокольня бывшей Екатерининской церкви. Но дальше эти самые дворы, спрятавшие его, стали пугать. Везде мерещилась «Живая рыба». Тогда рванулся по Нижней Красносельской, мимо фабрики елочных игрушек, бывшего Покровского храма. Здесь заканчивалась Немецкая слобода. Железнодорожные пути напоминали посверкивающую в сентябре паутинку или стекающие со стороны Комсомольской весенние ручейки.
Впереди на Краснопрудной замаячил дом, где жил Утесов. Через заднюю дверь забежал впопыхах в трамвайную красно-желтую коробочку. Салон почти пустой, кроме двух бдительных старушек, делающих вид, будто мирно спят. И чего им дома не спится? Но с ними надежнее. Вместо трех копеек для отвода глаз бросил медную двушку. Покрутил колесо, оторвал билет и сел поближе к вагоновожатому. И все затравленно озирался, не покажется ли та самая «Живая рыба». Но дремлющие старушки, плавный трамвайный ход и желтые потолочные плафоны постепенно успокоили его. Вот только во внутреннем кармане пиджака постоянно что-то оттягивало…
На окладе в двенадцать рублей Ян Гали после школы работал хлеборезом в небольшой булочной, а ночью там же принимал горячий хлеб. Сегодня не его смена, а Никодилыча, который и помог сюда устроиться. До Революции Никодилыч служил дьяконом в Преображенском храме. Но злоупотреблял кагором, перед службой тихонечко отливал себе из чаши. Отлитое дополнял подкрашенной водицей. Теперь же Никодилыч не безобразничал, а с тихим звоном стаканов доживал свой век.
Ян Гали несколько раз надавил на черную кнопку звонка. Через закрытое окно приема хлеба раздался знакомый кашель:
— Кто там еще?
— Никодилыч, это я.
— Ты откуда такой взмыленный? Дождь, что ли, шел? А ты все собак гоняешь!
Ян Гали за шумом сбившегося неровного дыхания и бьющейся в висках крови едва различал, что ему говорят. Он взбудораженно кричал тому прямо в лицо:
— Никодилыч, давай я сегодня за тебя отработаю просто так. Понимаешь, в понедельник экзамен, готовиться надо, а дома условий никаких.
Никодилыча долго уговаривать не пришлось. Вникать не стал, махнул рукой. Все равно где пить.
Оставшись один, Ян Гали глянул в зеркало и не узнал себя: бескровное задавленное лицо со сжатыми запекшимися губами. Перед глазами мельтешили мушки, сливающиеся в хаос красной пляски. Просто скотски устал. Хотелось прислониться к чему-нибудь, откинуть голову, поразмыслить или просто подремать.
Чтобы как-то утешиться, вспомнил, что со вчерашней смены оставил здесь пахучее крошево заварки, кулек кускового серого сахара и банку с салатом, красивую такую, всю в акварельных помидорно-огурцовых, золотистых подрагивающих масляных пятнах и тонких луковых перышках…
Но Никодилыч, видимо, в качестве закуски, сожрал все подчистую. Ничего не поделаешь, пришлось довольствоваться забытым с вечера чаем, горьким и отдающим привкусом металла, и в кабинете директорши тети Кати укладываться под теплым пледом на продавленном диване. Раньше он при этом включал негромко здоровенную «Беларусь», настраивался на заокеанскую волну джазовой музыки, чтобы, обнимая собственные коленки, обнимать весь мир и слышать шорохи шин Манхэттена…
Снял пиджак, и будто током пробило! Дрожащей рукой вытащил из внутреннего кармана чуть намокший серый пакет. Только теперь дошел до него весь ужас собственного незавидного положения. Еще больше накрыло страхом. Срочно избавиться, выбросить! Или подкинуть обратно? Нет, в ту квартиру больше не сунется… Или в милицию! Что за бумаги такие, от которых люди калечат друг друга и гоняются друг за другом по всей Москве? Надо бы выяснить, прежде чем нести. А то ведь вникать не станут — мигом пришьют шпионаж. Или наградят? Отправят через Институт иностранных языков в школу КГБ. Вот ведь Данька от зависти помрет! И Нелли пожалеет. Даже Смирнову нечего будет сказать.
Сел за конторский стол, за которым обычно, смахнув хлебные крошки и мурлыча под нос, раскладывал конспекты и учебники. К примеру, надо было решить неравенство:
![]()
или осуществить цепочку превращений:
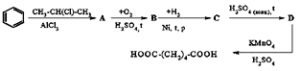
Теперь же перед ним другая задача! Дрожащими пальцами развязал бечевку, развернул серую бумагу… Ничего особенного: ни чертежей, ни схем, а только старые письма разного размера: половинки, четвертушки, осьмушки. Но одного почерка: мелкого, что называется, бисерного, но вполне разборчивого, с изящными хвостиками… Судя по всему, раньше с ними обходились чудовищно. Так обращаются в капстранах с редкими декоративными животными при перевозке контрабандой.
Несмотря на старую орфографию, Ян Гали, за некоторым исключением, неплохо вник в содержание писем. По мере того как все более погружался в текст, постепенно доходило: пишет женщина своему мужу, пишет женщина из чужого века… Но самое интересное было то, что задавала она адресату такие вопросы, ответы на которые Ян Гали откуда-то уже знал. И наоборот, отвечала на заранее известные вопросы. Нет, не догадывался, а действительно где-то читал и что-то помнил.
«Муж мой, не знаю, где догонит тебя это письмо, но я отправляю его в Москву. Спасибо тебе за поздравления. Мой день рождения отпраздновали тихо. Приехала тетушка Катерина Ивановна, уже после полудня. Она дежурила во дворце. И подарила мне шелку и муслину на платье. Чудо, какие цвета! Прелесть! Получила поздравления от маменьки, от сестриц и братьев.
Машка капризничает, наверное, режется зубок. Сашка здоров, пускает пузыри. Кормилица наша, баба крепкая, не одно дитя может с легкостью выкормить. Отпишу Дмитрию, буду просить его, чтобы присылал тебе регулярно стопы бумаги, как ты и просил, в счет долга.
Увидишь Булгакова, его жене-имениннице поклон от меня.
Ты пишешь, что Москва пуста. Все московское общество в эту пору по обыкновению своему еще на дачах, в загородных имениях.
Князя Долгорукова увижу — поздравлю с наследством.
Вот еще, не стоит в клобы ходить. Ты теперь человек женатый, глава семейства, а там как всегда шум, гам, игра…
Тетушка презентовала мне 500 рублей, сказала — как бы без отдачи. Горничная Параша попросила 40 рублей — жалование за два прошлых месяца. Извозчику — 20, повару — 30, аптекарю — 15, за дрова — еще 30. Вот мой денежный отчет.
Смирдин как всегда извиняется, клянется, божится, что денег за книги пока нет.
Мои нарывы проходят. Доктор Спасский часто заходит к нам, осматривает меня и детей. Нынешней зимой будет весело в столице. Уже составляется в свете расписание балов в этот сезон. Ждем приезда Двора из Царского. Император с императрицей как всегда будут открывать сезон первым балом. Приедут сестры. Надо их начинать показывать. Тетушка им обещает свое покровительство при Дворе. Она шлет тебе свой поклон. В Петербурге будет весело не в пример купеческой сонной Москве. Отпишу Дмитрию, за ним долг на мое содержание. Попрошу увеличить, так как семейство растет, а с ним и расходы.
«Кончаю письмо, нежно тебя целуя. Я намереваюсь написать тебе побольше при первой возможности».
P.S. На почтовых станциях в карты не играй — только впустую деньги тратить».
Твоя Таша*
На исходе четвертого часа наконец спала завеса! Может ли быть такое? Действительно, ощущения такие, будто вскрыл бортовой самописец давно потерпевшего аварию самолета и по фрагментам воссоздал магнитную ленту. И зазвучали голоса.
В этот момент дверной звонок вместе с внезапной догадкой пронзили его! Пришел хлебный фургон. Ян Гали торопливо прикрыл письма газетой, распахнул окно, надел холщовые рукавицы и стал подхватывать из рук шофера-экспедитора горячие подрумяненные батоны в деревянных лотках. После приемки расписался за количество, попрощался, собрался было уже закрывать окно на шпингалет, но тут увидел в глубине улицы машину. Он попытался ее разглядеть, щурясь и прикрываясь ладонью от бьющего по глазам света фар. Свет потух, и он, очумело заморгав, различил надпись «Живая рыба», которая тут же ледяной сосущей тоской отозвалась в его и без того беспокойном сердце. Ян Гали обомлел, не в силах отвести от рыбовоза глаз. А шофер для острастки снова посигналил фарами из темноты. И снова погасло сиянье, и «Живая рыба» окончательно нырнула в черноту, обратившись в невидимую тень.
Не успела карета подъехать к дому, как из ворот вышли двое господ, которых признал издали и тут же отвернулся. Вместо привычной пешей прогулки, от которой Пушкин в любую погоду никогда не отказывался, они с Соллогубом поймали экипаж. «Вот ведь не может усидеть на месте, — подумал Михаил Андреевич, — как пружина взведенного курка». До его чуткого слуха донеслось:
— Трогай, да поскорее! На Сенную, — дотронулись тростью до спины возницы.
— Зачем на Сенную? — спросил Соллогуб, — там грязь, толпа, запачкаем платья. Изволь потом сапоги чистить от навоза.
— С утра маковой росинки во рту не было, выпил лишь чашку горячего молока. Возьмем пирога, уж больно вкусен там пирог-то!
Голос самый обычный: мягкий легкий баритон, при этом звучный, глубокий, чуть с хрипотцой. Да уж, заслушаешься им, кабы в комнатной обстановке, а не на улице.
Михаил Андреевич поначалу боялся привлечь внимание, и после Красного моста с перилами из чугунной решетки, повторяющей рисунок ограждения набережной, карета его заметно отстала. Забеспокоился, что окончательно упустит их:
— Гони, гони за ними! — затребовал но, хотя не являлся любителем быстрой езды.
Кучер щелкнул длинным кнутом, и карета снова понеслась.
— Ишь, несемся как! Не ровен час, въедем в столб какой-нибудь, товарищ Суслов, — предупредил его лихач, — или наедем на кого-нибудь. Вона карета едет. Гороховый прешпект не то, что Невский, больно узок, — и что есть мочи зарычал на извозчика, натягивая вожжи, когда столкновение с преследуемыми оказалось неминуемым, — в сторону давай, посторонись, куда прешь!
Экипаж тот наклонился, двумя колесами въехав на тротуар, пропуская черную карету с гербами. При этом один из седоков неловко выронил трость. Она угодила в спицы переднего колеса.
«Лишь бы не повредилась, — подумал Михаил Андреевич, пряча от Пушкина лицо, — жаль будет вещь, хорошая у него коллекция.
Обогнали и раньше добрались до Сенной площади. А здесь воздух особенно сырой, наполненный всеми запахами сразу: навоза, тяжелого пота, сена… Здесь в базарный день происходила мелкооптовая продажа фуража для лошадей. Михаил Андреевич, в детстве переболев туберкулезом, нехотя сошел с подножки и осмотрелся. Вокруг, кроме церкви и гауптвахты, лабазы, склады… Туда-сюда в сутолоке сновали извозчики и барские кучера. Нищие гнусаво просили милостыню, мешались под ногами бродячие псы. Суетились мальчишки-разносчики, на их лотках посыпанные мукой крендельки да калачи. Со всех сторон зазывали торговки, сидящие на больших, укутанных в ватные одеяла бадьях:
— Отведайте рыбки…
— Супчику с потрошками…
Завидев прибывших господ, Михаил Андреевич поспешил затеряться в толпе, чтобы постоянно находиться чуть поодаль и не упускать их из виду. На расстоянии чутко прислушивался к ним и с большим интересом оценивал пушкинскую «тренировочную» трость из оружейного ствола, с серебряным набалдашником, которой тот легко и привычно поигрывал, тренируя руку. Пушкин прямиком двинулся к бабе, закутанной в несколько платков и зазывавшей пронзительнее всех:
— Пироги с ливером да жареным луком!
— Страх как хочется пирога с требушинкой! — протягивали ей копейку, зажав трость в подмышке.
Михаил Андреевич успел отметить длинные ухоженные пальцы, на мизинце мелькнул золотой наперсток. Торговка мигом сняла крышку с тряпьем, тут же из плетеного короба пахнуло. От горячего румяного куска пирога исходил удивительный аромат и горячий пар. И Михаил Андреевич, глядя на Пушкина в профиль, редеющий затылок с проседью, крошки от пирога на его шейном галстуке, вдруг отчетливо, с фотографической, а не портретной наглядностью, ощутил человеческое, физическое присутствие обожествленного поэта, до этого постоянно ускользавшего от его жадного восприятия. Оказалось, для этого необязательно глядеть Пушкину в исхудавшее и постаревшее лицо, постоянно попадаться на глаза. Кумир, всего пару лет не доживший до фотовспышки, всегда на почтительном расстоянии, всегда в абрисе. Любая попытка взглянуть ему в лицо — искажение иконного лика. Дымка тут же растает, контуры расплывутся, исчезнет вековая намоленность вокруг него. Это почти как с амурским тигром, к которому ни в коем случае нельзя приближаться, иначе он перестанет бояться человека. Тигр в лесной чаще, а выставочный Пушкин за толщей века, как за витринным стеклом, за которым вроде бы неплохо видно, но блики постоянно мешают.
— Д’Антес подлец, — как-то буднично, с аппетитом уминая пирог, продолжил поэт начатую в экипаже беседу, — вчера на рауте я сказал ему, что плюю на него. В обществе говорят, что Д’Антес ухаживает за моей женой. Иные говорят, что он ей нравится, другие, что нет. Все равно я не хочу, чтобы их имена были вместе. Пойдите снова к д’Аршиаку и в этот раз все ему скажите. Во сколько вы условились?
— В три часа в голландском посольстве. Я уже говорил, но только Д’Антес не желает называть мадемуазель Катрин в связи с этим делом.
— Как! — взбеленился Пушкин, — а для чего же это все? А если вы не хотите быть моим секундантом, то я наконец возьму другого…
Михаил Андреевич завел глаза. Невозможно с этим Пушкиным. Невозможно Его спасти. Невозможно помочь тому, на кого боишься взглянуть. Невозможно взглянуть на того, кого уже нет. Он достаточно успел понаблюдать за ним в эти дни: не мог складно поддержать беседу, письма распечатывал со страхом, раздражал смех собственных детей, вздрагивал, когда со стола падала ложка… А поединок — попытка вырваться из гнетущих мелочей. Пушкин хотел исхода, добивался его с такой легкостью! Правильно подметил Даль: очень суеверный, постоянное ожидание беды, как накануне боя, перед которым нарушил все обереги: и кольцо с бирюзой от насильственной смерти специально не надел, и нарочно вернулся за шубой, не прося дядьку Никиту вынести ее на крыльцо, чтоб самому в дом не заходить.
Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем,
у каждой эпохи свои подрастают леса…
9.
— …у пострадавшего недоброжелатели имеются?
— Да кто же его знает, я за его жизнью не слежу. Я его с рабочей стороны только знаю, — дрожала тетя Катя, вернее, ее фирменная синяя беретка, заколотая на высокой прическе, — он хлеборез у нас, а ночью сторож, и хлеб принимал.
— Окно приема хлеба до вашего прихода открыто было? Значит, удар по голове мог прийтись как раз в момент приема хлеба…
— А это кто?
— Это сменщик его — Ибрагимов. Это его смена должна была быть.
— То есть сегодня ночью ты должен был работать? — уставился следователь на Ян Гали, который все это время жался в углу вместе с перепуганными продавщицами кондитерского и хлебного отделов.
Следователь теперь у него стал выяснять про личных недругов. Ян Гали никого не вспомнил. Тетя Катя, пряча его за своей широкой спиной, поддержала, заявив, что такие птенцы еще не успели нажить врагов, способных запросто проломить человеку череп.
— Очень странно. Что у вас воровать? Лотки да ножи? Деньги вы сдаете. Товар не тронули, — размышлял вслух следователь, оглядывая булочную. На чисто подметенной и вытертой от хлебных крошек поверхности прилавка в столешницу встроен здоровенный нож с длинной дубовой потемневшей ручкой. Его лезвие напоминало больше инструмент для садистских пыток, нежели нож для мирной нарезки хлеба (на половинки и четвертинки), — или результат антиобщественного образа жизни пострадавшего. Пострадавший — любитель спиртного? — скосился на разлитую водку и откусанный пупырчатый соленый огурец.
— Это да, но вроде сюда никого не водил. У нас с этим строго!
— Придешь сегодня в отделение в пять часов, — обратился следователь к Ян Гали, — потолкуем с тобой. Совершеннолетний?
Ян Гали сначала по привычке отрицательно покачал головой, но потом вспомнил и подтвердил. Трудно привыкнуть к долгожданному совершеннолетию.
— Так да или нет?
— Теперь уже да. Недавно день рождения был, — ответила за него тетя Катя.
— Тем лучше, тогда без родителей приходи.
Выяснив, где живет пострадавший, следователь поехал с оперативником на адрес. Никодилыча с проломленной головой повезли в Русаковскую больницу, а тетя Катя отправила Ян Гали домой:
— Сегодня мы уже не откроемся.
— А ночью? — испугался Ян Гали, обходя лужу крови Никодилыча, больше похожую на кагор, употребляемый им всю жизнь.
— Приходи завтра утром. Тебе же теперь никуда поступать не надо? В день теперь выходи. Могу подкинуть за фасовку сахарного песка. Тринадцать рублей выйдет. А если грузчиком на каждый день, то рублей сто двадцать, — предлагала она бойко, уже позабыв о несчастном Никодилыче.
Ян Гали на всякий случай кивнул и позволил себе надломить еще не остывший батон хлеба, чтобы по дороге уплетать его и запивать остатками молока. Сел в тридцать седьмой трамвай. Проезжая Бауманскую, отвернулся. С той злополучной ночи все дома на этой улице, будто мелькающие картины оставленной впопыхах судьбы, за которую тогда ухватились грубые чужие ручищи. По ощущениям судьбы этой осталось чуток. А когда доберется до дома, останется лишь петля. Страшно подумать, для чего…
Эту улицу и раньше сравнивал со своей жизнью, а вон тот пряничный розовый домик под номером тридцать шесть, как нечаянная радость, неожиданно возникающая на серой улице жизни.
Раньше Ян Гали часто приезжал в Лефортово. Не только ради Бауманки и Смирнова. В Лефортово было все! Недалеко от кинотеатра «Спутник», куда в увольнение бегали госпитальные солдатики, в фирменном магазине «Молоко» покупал свою любимую (по десять пачек за раз) ацидофильную пасту, нежную, сладкую, как крем. В других местах продавалась кислятина.
Потом возвращался на Госпитальную улицу, пересекал набережную, от которой вдоль Госпитального переулка тянулся заброшенный графский парк. Где-то здесь, между шестым и восьмым домами, родился Пушкин. Он не знал, являлся ли сей факт секретом для остальных, но приучил себя к мысли, что это большая тайна, чтобы хоть чем-то выделяться. Каждый раз зримо представлял, как во дворец графа Бутурлина вбегает мальчишка с родителями. С бантом на шее, в бархатной курточке, коротких штанишках и светлых чулочках. Легкий, трепетный сорванец с неправильным смуглым лицом: тяжелыми полными губами, выдвинутой челюстью и огромными прозрачными глазами. Улыбался свойственной лишь ему той самой взрослой улыбкой, сочетающей насмешку и добродушие. И махал Ян Гали на прощанье…
Довольный собой и собственной тайной, Ян Гали возвращался через мост к Госпитальной улице и заворачивал в парк МВО. Доходил до грота Растрелли, откуда через старинные пруды открывался вид на единственную его мечту. Над старинными прудами и Яузой высилась циркульная двенадцатиэтажная часть главного учебного корпуса МВТУ с групповой скульптурой «непьющих бауманцев» над парадным входом! Некоторое время смаковал глазами открывшуюся перспективу, покачиваясь с носка на пятку, словно разминаясь перед прыжком вниз. Но в пруду, в той летней мраморной застылой зеленой ряске утопиться не дано. Только вымочиться и замерзнуть на ближайшей скамейке. Бр-р! Тянет сыростью, в нос ударил перегной листьев, моховой запах… Такая пора пришла в парк Лефортово, что впору греться коньяком и от нечего делать, от тоски греметь, опрокидывать мусорные баки, чтобы эхом заполнить замершее пространство и опустевшую душу.
В очередной раз пообещал себе не приходить сюда больше и не смущать просительным взглядом Бауманку, которой и дела до него нет. Институт принимает и переваривает в своем уютном чреве козерожек-первокурсников. Да, занимайте мое заслуженное место! Учитесь, живите и радуйтесь вместо меня. Ни у кого ничего не крал, хоть и не спал ночами: готовился, голову забивал… Но вот насмешка судьбы: срезался на сочинении. Наверняка подвели ложные вводные. Да и тема выбрана неудачно: «Актуальность русской литературы XIX века для современности (на примере творчества нескольких авторов на выбор)».
В их классе поступили все. Не все, куда хотели. Но Ян Гали на компромиссы не шел. Только Бауманка! Мать к Бауманке изначально отнеслась с нескрываемым подозрением. Такая же блажь, как и стихи. После сыновнего провала стала еще более равнодушная, гневливая, громогласная, сварливая. Голос резче, глядит реже. Горячится уже не через раз, а по каждому поводу. Оно и понятно. Втайне надеялась, что сын выбьется в люди. Не всем же улицы мести. Кому-то и ракеты строить (или куда он там собирался?) Посоветовала обратиться к дяде-часовщику, пойти к нему в ученики. Все же денежная специальность. Хотя тот в последнее время поддавать стал много. Да и зрение на такой мелкой работе быстро портится.
Ванька Гаручников, сын дяди Пети, предлагал на «Москожкомбинат». Оттуда раз в год, в Чистый четверг, приносил красную подкладку для галош и опускал в кипящую воду. Яйца после такой варки получались нежно-розового цвета. На этом положительные качества данного места заканчивались. Ян Гали всегда содрогался, видя, как ранним утром в зеленые адовы ворота этого комбината въезжает ЗИЛ с полуприцепом, доверху наполненным свиными, коровьими шкурами. Кожа на комбинат приходила со скотобоен и мясоперерабатывающих заводов. Из-под черного, пропитанного кровью брезента смотрели пустыми глазницами коровьи морды и свиные рыла. С хвостов стекала мутная вонючая жидкость, образуя лужицы, на которые сейчас же садились мухи. Все это зловонное сырье сортировалось, очищалось от мездры (кусочков кожи и сала с внутренней стороны шкуры) и поступало на переработку, чтобы в конце своего пути превратиться в ботинки для офицеров, летчиков, моряков и просто советских граждан. Со стороны Яузы стояли подземные камеры-отстойники, куда сливалась дрянь от выделки шкур. Вакуумные машины все это откачивали и куда-то увозили. А раньше на Яузе жили бобры. Раньше бобры на Яузе строили плотину. Раньше Яуза была судоходной. Раньше у Ян Гали был отец…
Раньше отец баюкал его и приговаривал:
— Спи давай. Пушкин за тебя спать будет? Сейчас он с Тверской за тобой придет.
Ян Гали всегда удивлялся, почему именно Пушкин, и живо представлял, засыпая, как проснувшийся памятник спускается со своего постамента и, большими шагами отмеряя расстояние, грохочет в сторону Богородского…
Справа, за беседкой царя Петра (где он только не отдыхал) сачкует Пятно. Подложив под попу портфель, глушит в одиночку коньяк из горла. И взрослеет на глазах. Единственная, кого допустили в царствие небесное… Нелли после того вечера не явилась на экзамен. Вот так и пропадают хорошие девочки, генеральские дочки с безупречным аттестатом и характеристикой. Учатся-учатся, вся образцовая жизнь под это дело брошена, а потом приходят в гости к какому-нибудь Дане Тесемкину, которому грош цена в базарный день, наслушаются в коммуналке «жучков», напьются как не в себя — и привет!
Даня после той поножовщины в их квартире тоже пролетел с поступлением. Теперь он по большому блату ученик мясника. Ходит в нейлоновой рубашке и синтетическом галстуке. С прилавка продает мясо с костями по первой категории. А домой в пухлом портфеле, какой носят директора овощных баз и бухгалтера, таскает завернутые в газеты сочные вырезки мяса (по высшей категории).
Пятно помахала ему. Ян Гали демонстративно отвернулся и пошел к другому выходу. Она с досады плюнула в его сторону и пьяно навзрыд заплакала, размывая по щекам тушь. Полина влюблялась во всех, кто влюблялся в ее подругу, теперь бывшую.
Быть Ян Гали теперь во втором сборном пункте на Угрешке, городской пересылке, невольничьем рынке, где за высоким бетонным забором с колючей проволокой московские новобранцы сутками кантуются на длинных скамьях, прежде чем за ними приедут «купцы» со всего Союза. Покантуются с неделю и станут кому-то нужными.
На выходе из парка об этой самой Угрешке напомнил пронесшийся по Красноказарменной сорок третий трамвай. Да и все на этой улице напоминало о неизбежной участи. Даже обелиск «Кадетского плаца», тайный памятник белогвардейцам.
Ян Гали ничего не знал об армии. Знал только, что в первые полгода там будет непросто. Тягостное мучительное ожидание армии, как ожидание смертной казни, конца мира. Он уже побывал в родном военкомате. Дважды. Приходил в шестнадцать лет, чтобы получить заветную бумажку с фотокарточкой — приписное свидетельство и встать на учет. Приходил в восемнадцать лет. Председатель ВВК «обрадовал» полуголого Ян Гали — годен! Иди домой и жди повестку. В такое-то время явишься на сборный пункт, с собой возьмешь трехдневный запас еды и теплые вещи. Желательно старье. Новое — отнимут, старое — не жалко. Все равно как в песне поется: «Пройдет всего два года, изменится лишь мода».
Он все кружил по Лефортово, а когда снова выбрался на Госпитальную площадь, из центрального входа Бурденко вышел Смирнов. Редкая удача! Ян Гали от нечаянной радости бросился к нему навстречу. Скрипнули тормоза, и водитель проезжавшей иашины, до упора вдавив педаль, что есть мочи выругался на него.
— Ты чего под колеса бросаешься? — перепугался Смирнов.
— Да мне самое время в петлю лезть. Я в такую переделку попал…
— Не расстраивайся, у тебя все впереди, — устало утешал Смирнов, заправляя гимнастерку под ремень, — институт с военной кафедрой — было бы для тебя идеально, но все, что ни делается, все к лучшему. Через два года себя не узнаешь, — и похлопал по плечу, — после присяги наконец понял, что теперь я казенный человек. Чувствую, какой-то груз висит, и за меня думают. Ничего не пишется. У меня теперь в голове пустота, одни команды: Подъем! Направо! Вперед! В казарме стараюсь не ночевать. В баклаборатории на кушетке.
— Почему?
— А что там делать? Водку пить? Над салагами измываться?
— Какие-то тюремные порядки, — расстроился Ян Гали, — так не должно быть.
— Конечно, не должно. Когда обижают, должна быть возможность ответить. Но вместо этого ты должен сержанта Захарчука, у которого восемь классов образования, называть на «вы» и считать своим товарищем. Как Пушкин, «принужден существовать в жизненной среде, которую он должен был презирать и все же быть прикованным к ней, как к единственной, в которой он мог действовать», — и чуть слышно добавил: — Это тебе не царская армия. Остатки былой дисциплины держатся на сержантах и прапорах.
— Что же делать с этой «червоточиной»? — переживал Ян Гали.
— Убрать двухъярусные кровати.
Ян Гали деланно засмеялся, но, оказалось, Смирнов не шутил:
— Это сразу уравняет всех. Наверху «духи». Внизу привилегированный класс.
На трамвайной остановке, переминаясь с ноги на ногу, дожидалась девушка. На сорок шестом Смирнов доедет с ней до «Спутника», а там огромные афиши «Войны и Мира». Эта девушка сама будто вышагнула из плакатов: с такими же глазами и прической. Если бы у Ян Гали была такая девушка, он тоже ни на что не отвлекался бы.
— Вот и я так подумал, но спорить не стал, куда уж мне, — еще больше помрачнел Смирнов, — старик, ты не очень-то вовремя. Наверняка все твои проблемы решаются, не выходя из комнаты. А ты хочешь решить ее, выпрыгнув из окна. Только потому, что кто-то кашлянул за стенкой. Лист осенний упал, а ты думаешь, небо рушится.
Смирнов теперь другой. Вернее, как все. Говорит, как все: как положено, лишь бы отвязаться. Когда старшие ребята возвращаются из армии, им напрочь отшибает память о прошлой жизни. Им уже неинтересно с теми, с кем гоняли во дворе мяч. Будто гонять мяч — это ничего, это так, ерунда какая-то. Уходят дальше в свою взрослую жизнь, к девчонкам, во взрослых компаниях их угощают водкой. Субординация, понимаешь!
10.
Домой пришел ближе к обеду. Мать на работе. В пять часов нужно ехать к следователю, но до этого есть еще время обдумать! О чем толковать с ним собрался? Может, признаться во всем? Как на духу… А в чем? Эх, кабы знать, во что это все станет? Нет, по головке точно не погладят. Надо было тогда сразу идти с повинной.
Хотел помыться, да в ванне карп плещется. Сегодня у многих получка. Карп проживет в ванне несколько дней. Ян Гали с матерью тоже иногда покупали карпа. Но мать не любила живую рыбу и просила продавца тюкать ее по голове.
Из школы вернулся младший брат, забросил портфель в угол и тут же побежал во двор. Такой же, как его канарейки! С трудом решал простейшие задачки по математике. Ян Гали пробовал было с ним заниматься, а тот все норовил в окно пялиться и в носу ковырять. В чужих книгах не так интересно, как в окне или в собственному носу! Ян Гали, плюнув, наскоро решал все его уроки, и тот на радостях срывался на улицу. И Ян Гали спокойно наслаждался привычным одиночеством и его молчаливыми канарейками, которые никогда не пели. Неправильных канареек ему подсунули на Птичьем рынке. То ли дело у староверов: рассадили в разных концах трапезной, вот они и перекликаются друг с другом все дни напролет.
Он закрылся в комнате, разобрал постель и с наслаждением зарылся в одеяло. Долго крутился и все ж не выдержал! Вытащил из комода мамины осенние перчатки. У него такая же тонкая рука. Из шкафа — походное бюро, за червонец купленное на барахолке. Поначалу позволял себе прикасаться к письмам раз в месяц. Боялся лишний раз потревожить их. Потом раз в неделю. А дальше, как заправский морфинист, и дня без них прожить не мог. Впал в зависимость, почти физическую, но бороться с этим не смел. Полностью уходил в них, забросив собственную писанину, лишь бы ничего не отвлекало от однажды навеянного и преследовавшего теперь повсюду образа. В выходные с липкими белыми хлопьями на губах и кислыми подмышками лежал на неубранной постели. Засыпал с желанием скорее проснуться, чтобы снова подумать об этих письмах. Мысль о них, обладание ими приносило невероятное облегчение. А просыпаясь, снова мечтал о том, что, переделав все дела, вечером снова засядет с ними.
«Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я…»
Дивился нравам той поры, которую, сама того не ведая, воссоздала далекая дама, переписываясь с мужем, пересказывая ему светские сплетни об уже несуществующих людях. Целые тома крупных авторов не стоят одной ее короткой житейской строки о мужниных карточных долгах и болезнях детей. Как это совпало и одновременно не совпало с тем, что раньше читал о ней!
По ее письмам создавал новую личность, но уже без светского романтизма. Сначала без жизненного опыта, а затем с прибавлением практического ума, помогающего в ведении хозяйства, в воспитании детей, в выполнении литературных поручений мужа. Она разбиралась с цензурным комитетом, помогала доставать бумагу для печатания журнала…
В блаженной дреме отплывал в какой-то особый мир, недоступный для окружающих. Проступал чистый дивный мир, где нет ни войн, ни яростной пропаганды, ни ненависти, ни нищеты. Нет собственной писанины, песочной фигурки Нелли, ее живого смеха, дробного стука каблучков… Лишь шелест истлевших бальных платьев, выветренные ароматы дамских флаконов, скрип гусиного пера, сопенье маленьких деток, которые давно превратились в стариков и умерли, и их дети давно превратились в стариков и умерли… Любовался вечными морозными узорами на чужом окне или, наоборот, стынущей белой ночью… Постепенно дама из прошлого сама обрастала плотью. Она кусала губы, подносила к ним сложенный веер и чуть улыбалась, склонялась над ним, баюкала, прижимала к груди. Ей было почему-то жаль Ян Гали, хотя ничего не знала о нем, и ее самой уже не существовало. Как Богоматерь скорбит обо всех заранее.
И от этой жалости переставал бояться. Ведь терять больше нечего. Раньше безропотность как инструмент выживания. Теперь же смирение — образ жизни, осознанная позиция. Не нужно искать на земле страдания. Ничего не страшно, если в мире были те двое! И страдали вдвойне!
Но вдруг в эту дрему вмешался посторонний звук, будто игрушка запищала, и образ из забытого замысла — человек в мундире тайного советника. Ян Гали подбросило на кровати, словно на пружине. Когда против воли пробуждался и вылезал из-под согретого одеяла, всегда казалось, что заново переживает муки, связанные с появлением на свет. Вместо материнской утробы впервые, с протестом сталкивается с враждебным миром.
Очнулся окончательно, долго таращился перед собой. В комнате на деле никого. Лишь за дверью Тимур надрывается, плачет. Вышел к нему: у брата, пока обедал, из сеней увели велосипед. Сколько раз твердили: не оставляй без присмотра, мало ли кто с безлюдной улицы в пустой двор заглянет, ведь потом не дознаешься! Кому понадобился несчастный «Школьник», перешедший Тимуру «по наследству»? Это ведь не «Украина» и не какой-нибудь скоростной «Спутник»!
Ян Гали, спрятав письма, накинув пальто, бросился на улицу, а там уже собрались дети. Он побежал туда, куда они показали. В конце улицы замелькали салатовые пятна с красными шинами… Перекореженный, переломанный, искалеченный! Дети не видели, кто украл велосипед. Они не видели, кто бросил его посередине дороги. Но видели, как его переехала «Живая рыба». Ужасные предчувствия снова овладели им. Эта машина в последнее время снилась ему во всех кошмарах. Живо представлял, как рассекает она по темным безлюдным улицам восточной Москвы. Хватает его и несет в зубах, чтобы отрыгнуть ненасытным детенышам в своей ночи-норе, глубокой, нескончаемой, переходящей во что-то безнадежное и постоянное.
А водитель поднимается на цистерну по трапу, открывает широкую горловину и длинным сачком выуживает оттуда не карпа, не хека и даже не щуку, а мелкую речную рыбешку по имени Ян Гали.
Последнее время он ходил не по улицам, а по краю своей жизни. Вот уже несколько месяцев ему сигнализируют, наворачивают круги, играются с ним. Жути хотят нагнать, а открыто подступить боятся. А он и ухом не ведет: витает в облаках, путается в складках бального платья чужой жены. Его ведь предупреждали: сначала разграбленный сарай с перепиленными дужками замка, хотя голубей никогда не держал, потом разбитое окно среди ночи, еще проломленная голова Никодилыча, теперь вот покалеченный велосипед… Шарик движется. Шарик движется… Как он сразу тогда не понял, что его вычислят? Через того же Даньку, которого, наверняка, прижали в подворотне, приставили ножичек к хорошему личику, мол, кто у тебя был? А тот и перечислил. Никого не забыл.
Пора выбираться из дурной действительности, разомкнуть этот порочный круг!
Зареванный Тимур с велосипедом отправился в сарай. Ян Гали не в силах был его успокоить. У самого будто ноги подогнулись, изнемогал от беспомощности и безнадежности. Возле крыльца заметил дядю Петю. Ян Гали никогда не был ни в чем уверен, но теперь чем больше вглядывался, тем больше понимал про него. От чего, например, померла его жена? От тоски и побоев.
И все знали, что дядя Петя, сдавая после смены вагоновожатого кассу по весу, часть отсыпал себе в карман. Вместо денег бросал туда болты и гайки. А казенную мелочь менял на мятые рубли и трешки в табачных ларьках, пивных Сокольников.
Завидев Ян Гали, он, как ни странно, поспешил удалиться.
— Дядь Петя, а почему у тебя всегда полные карманы мелочи? — догнал его Ян Гали.
— Много будешь знать, мало проживешь, — огрызался тот через плечо.
— А я уже совершеннолетний.
— Дальше что?
— Может, в пивную? Я угощаю. Говорят, в Сокольниках, в районе шестого лучевого просека, есть отличная пивная.
Дядя Петя подозрительный, но на халяву и уксус сладкий, вряд ли устоит.
— Лучше на Потешку в бани сходим? Там в один рейс пиво с Бадаевки доставляют. Посидим-попаримся. А в той глухомани что делать? Да и контингент, я тебе скажу, там не случайный, подобранный. Туда с улицы кто попало не ходит. Там дела свои делают подальше от сторонних глаз.
— Не люблю бани. Но ведь ты же не кто попало?
— Может, и не кто попало, — с чувством собственной значимости согласился сосед, — но стараюсь лишний раз не светиться. Без причины лучше подальше держаться. Чужих там не любят, тем более комсомольских мальчиков со значком на закрутке.
— Значок я сниму. Дядя Петя, ну пожалуйста! Когда еще выберемся? Меня ведь скоро в армию заберут. Будет что рассказать про воровские притоны.
— Ты, малайка, больше помалкивай про это, — и сам улыбнулся своему каламбуру невольному, — за лишнее слово или косой взгляд посадят тебя там на перо.
— Хоть раз поглядеть на серьезных людей. И потом прошвырнемся в бильярдную возле розария.
— Все-то ты знаешь! Вот какие интересы у нашего малайки! А еще отличник!
Похоже, дядю Петю используют втемную, иначе не согласился бы вести его в Сокольники.
Ян Гали остерегался ходить по злачным местам. В Сокольниках их было предостаточно, и вечером лучше не появляться. Если даже Ленина там ограбили.
Они вошли в прокуренную пивную, деревянное строеньице, наполненное сиплыми матюгами и густым ржачем прокуренных глоток. Ян Гали попросил у буфетчицы две кружки пива и пять баранок с солью. Стал осматриваться. Уборщица грязной тряпкой смахивала со столов-прилавков и столов-стоек с вечно мокрыми мраморными столешницами селедочные шкурки и кости на грязный оплеванный пол.
— Дядь Петя, а знаешь такого Гагару?
Дядь Петя насторожился:
— А тебе зачем?
— Дело есть. Можешь свести меня с ним?
— А чего сводить? Вон он сидит, — и еле заметно кивнул на человека в темном углу.
— А можем к нему подойти, угостить?
— Тебе надо, ты и подходи! — разозлился сосед. — А я не при делах. Я ему, видишь ли, не представлен, чтоб вот так с пустыми базарами навязываться.
— Да неужели? — съязвил Ян Гали.
Тот промолчал. Когда дядя Петя после очередной кружки захмелел и за трепотней отвлекся на других завсегдатаев, Ян Гали набрался решимости и подошел к Гагаре. При этом весь покрылся потом, будто задыхался от духоты, и в то же время морозный озноб пробрал все тело, и трясся крупной дрожью, как с долгого похмелья.
— Тебе чего, чинарик? — с папиросой в зубах тасовал Гагара карты и привычно щурился от табачного дыма.
— Хотел поинтересоваться, вы же знакомы с Енькой и его заклятым дружком Геркой, который на рыбовозе гоняет?
— Чего? — вызверился на него Гагара, выронив папиросу, — Ты кто такой? Чего вынюхиваешь. Эй, кто его сюда привел?
— Дядя Петя, — объяснил Ян Гали, стараясь унять волнение в голосе.
— Какой еще дядя Петя? — кислая его физиономия окончательно вытянулась.
— Вагоновожатый, — неожиданно разозлился Ян Гали, — а также мой сосед на Хромова, — и обалдевший от собственной храбрости перешел в наступление, — это же его вы попросили вскрыть наш сарай? И в окно бросить камень, когда мы все спали ночью. Несолидные у вас методы! У шпаны подсмотрели?
Гагара опешил, но Ян Гали не дал ему времени опомниться:
— Передайте Герке, чтобы прекратил ходить вокруг да около. И перестал пугать моих близких.
Гагара насупился, почесал щетинистый кадык, подобрал папиросу и продолжил тасовать узловатыми пальцами колоду, будто не ему говорят. Но все отлично запоминал.
— Передайте Герке, что я согласен, — продолжил Ян Гали, — я все отдам. И буду его ждать. Меня на допрос сегодня вызвали. Нужно что-то говорить. А если Герке есть что сказать, то пусть поторопится, — и, не дожидаясь ответа, спокойно повернулся и вышел. Ни один мускул не дрогнул. Больше ничего не боялся. Отбоялся.
Когда-то дуэлянты перед неминуемым поединком, в случае самого худшего исхода, с усталой обреченностью сообщали близкому окружению: «Мне нужно привести дела в порядок». У Ян Гали тоже оставались свои счеты. Возле метро подошел к телефону-автомату. Снял трубку, набрал знакомый номер и через носовой платок гнусаво скороговоркой произнес:
— Алло! Это квартира Тесемкиных?
— Ага! — отозвался на том конце провода беспечный Данин голос.
— Дежурный капитан Романов. Завтра ровно в девять утра вам следует явиться к военкомату, взяв с собой приписное свидетельство и продукты на три дня. Вы будете направлены в школу водолазов в городе Севастополь!
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
— Хорошо, — кротко согласился после некоторой паузы покорный Даня. От былой беззаботности ни следа.
Ян Гали так и представил его вытянувшееся лицо! Он, мысленно потирая руки, положил трубку. В яблочко! Впору сдувать дым из ствола, поднося ко рту. Его просто распирало! Розыгрыш с военкоматом — отличная мужская подлость. Еще хуже, чем розыгрыш с беременной подружкой. Ян Гали подумал и снова набрал тот же номер:
— Старик, как дела? — уже своим голосом заговорил Ян Гали. — Слушай, встретил тут в Лефортово случайно Полину. Сообщила, что Нелька твоя на сносях! Не от тебя ли?
— Ян, ты ошалел? Какая Полина? Какая моя Нелька?
— Помнишь девчонку, которую приводил летом?
— А я при чем? Она меня продинамила. Или нет? Не помню уже… Слушай, со мной такие дела творятся! — заскулил Даня. — Что делать, ума не приложу. Сначала по милициям таскали из-за того порезанного соседа. Насилу отвязались. Теперь вот из военкомата звонят…
Ян Гали нажал на рычаг. Дальше неинтересно.
На Преображенке оказалось, что улицы давно освежены снегом. За рукава и ворот цеплялись чистые снежинки. Без ветра и мороза они не сдружились в хлопья, а в отдельности сохранили правильные многочисленные уголки и лучики. Пока добирался до своей улицы, рассматривал их в рассеянном угнетении. Ну до чего же разные! Простые пластинчатые звезды, тонкие столбики со звездами на концах, широкие звезды-иголочки, мохнатые ежики, правильные чистые бокальчики… Одна из них, величиною с кулак, попала в нос и чуть не разодрала чихом ноздрю. И, будто пузырь замыленной действительности, лопнула. Пленка кошмара куда-то подевалась. А небо, наоборот, стало глухим, насмерть заколоченным. Пугающая безысходность овладела им. Будто ушел в себя, тихонько пережидая опасность, покрылся изнутри махровой изморозью.
Вернулся домой за письмами. Мать еще не пришла. Это хорошо, а то опять замучает расспросами и нагоняями. Вышел на улицу, подождал с полчаса. Да, глупо рассчитывать, что зловещая «Живая рыба» явится по первому его требованию. Чтобы не замерзнуть, стал прохаживаться туда и обратно. Незаметно для себя дошел до Зельева переулка. От нечего делать свернул в сторону Знаменской.
На Знаменской ломали старые деревянные дома. Жильцов расселяли. Зловеще взирали на него пустые глазницы окон. Еще недавно казалось, что эти места никогда не изменятся. А несколько дней назад шуму наделало одно событие. В доме старика Магницкого, на чердаке в слуховом окне, обнаружили исправный боевой «Максим». Рыльце пулемета было направлено на противоположные дома. Ян Гали столько раз смотрел на это окно, когда загорал на крыше. Старик Магницкий, по слухам, — бывший белый офицер. Ян Гали в детстве дружил с его внучкой Машей. На Преображенском рынке тот летом продавал огурцы с кабачками, а к первому сентября — гладиолусы с астрами. Знатный был садовод: даже сливы у него шли…
И что теперь будет со стариком, Ян Гали думать не хотел. Дом его тогда оцепили. Теперь в этот осенний промозглый вечер будто вымерло все. Никто не орудует в огороде вилами и лопатой, с которых бы летела живая, еще не мерзлая земля, и на железе вспыхивало бы при этом выглянувшее из-за туч солнце. Нужно выкопать клубни отцовых георгинов, — вспомнил Ян Гали, — пропадут ни за что. Мать не догадается. Сколько лет сажал, соблюдал весенне-осенний ритуал ради ощущения продолжения жизни.
Дальше его любимое пожарное депо. Ян Гали по обыкновению заглядывался на деревянную каланчу, на балконе которой всегда дежурил пожарный, и на красные, всегда готовые к срочному выезду ЗИСы.
Впереди Архиерейский пруд, за ним хорошо виден деревянный двухэтажный особняк — бывшая Митрополичья дача. А дальше фруктовые сады, огороды, луга, поля… Теперь все это совхоз «Красный луч». Ян Гали не пошел в ту сторону — рядом с прудом мрачное старинное кладбище староверов. И ощущение, словно добровольно бредет на тесак мясника, к месту предстоящего захоронения…
Совсем продрог. Вернулся к дому старика Магницкого, чтобы разжечь огонь и погреться. Поднялся на крыльцо. Огляделся внутри. Потолок уже обрушен. Обои ободраны. Обломки венских стульев… Скрипит от каждого шага все: ступени, двери, кровать, балки перекрытий. В углу среди старых керосинок и керогазов за грудой кирпичей валялся ржавый бидон. Пнул его от нечего делать. Внутри что-то загремело. Ян Гали подобрал и вытряхнул грязную промасленную тряпку. Присев на корточки, развернул, и несколько желтых в смазке патронов тут же ударились о сухие доски пола. Некоторые закатились в открытый пустой подпол. С минуту пораженный Ян Гали взирал на черный вороненый револьвер. На рукоятке надпись: «Тульский императорский оружейный завод 1914 год» и клеймо орла.
«Что ж мне так не везет с находками? Что за эхо далекой войны и далеких страстей? Старик Магницкий, горячо проходила у тебя молодость! Теперь остыло все, сквозняк гуляет в брошенном доме, а с ним ощущение бесприютной опустелости.
Вдруг услышал звук мотора. И, повинуясь опасениям, будто к чему-то готовясь, с нескольких попыток (пальцы закоченели на ветру) вставил в барабан патроны и, дрожащей рукой сжимая за спиной оружие, вышел на крыльцо. Ян Гали успел набить руку. От военкомата ходил на стрельбища, чтоб в армии потом сразу оружие доверили.
Во дворе поджидал рыбовоз. Из кабины вышли двое. Енька, живой и невредимый. Почти невредимый. С перевязанной рукой. Видимо, опять учили его уму-разуму. Енька еле передвигался на своих двоих и в глаза Ян Гали почти не смотрел. Второго человека Ян Гали почти никогда не видел, но узнал бы его из тысячи. То самое ошпаренное лицо через решетку лифтовой шахты, в облаке едкого табачного дыма. Этот Герка чем-то похож на Гагару: с теми же глубокими преждевременными морщинами и заслуженными наколками на пальцах. В углу рта навечно приклеенная пахитоска. В черном сатиновом халате (поверх старого полупальто) и кирзовых сапогах.
На ходу потягиваясь, разминая поясницу и отсиженный зад, не сводя с Ян Гали глаз, Герка с упоением продекламировал:
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
Нашей столицы,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Кто же,
Откуда
И что он за птица
Парень,
Которого
Ищет столица?
Что натворил он
И в чем виноват?
«Тырит чужое», —
О нем говорят.
— Чего молчишь?
— Да нет особого желания перетирать тут с вами, — хорохорился Ян Гали, поеживаясь и шмыгая носом. Нельзя показывать страх.
Но от Герки, знатока человеческих душ, ничего не утаить.
— Правильно делаешь, — ухмыльнулся тот и сплюнул себе под ноги, — ты вообще не должен разговаривать.
— Я как-то не должен спрашивать, — Ян Гали тоже хотелось по его примеру сплюнуть. Но на порывистом ветру собственный плевок вернулся обратно.
— Ты как-то не должен жить. Живешь не на радость, а пришибить некому. Я ведь про тебя все понял, пока ты бегал от меня. Не подфартило тебе по жизни. Не в своем болоте родился. Петька говорил, ты бука, нелюдим пристукнутый. Учишься на пятерки, матом не ругаешься, один на всей улице в белой рубашке ходишь. Тебе бы в профессорской семье расти, а не у дворничихи татарской. В какой-нибудь высотке жить, а не на отшибе. Тогда бы все по-другому было.
— Я не бегал. Просто вы тоже не имеете на эти письма никакого права, — перевел Ян Гали тему, — это музейная ценность. Это не ваши письма.
— И не твои, — резонно заметил тот, и на скулах выступили желваки, — ты на меня зубами не скрипи! Мухрик дохлый! Может, мы справедливость восстанавливаем, и письма попадут к законным наследникам. Советское правительство им дулю покажет, а не бабкины письма.
— Естественно, за хорошее вознаграждение, — предположил Ян Гали.
— А ты не считай чужих денег, все равно не достанется, — наставительно втолковывали ему, показывая плохие редкие зубы. Герка подошел ближе, косясь на пакет в его руке, — ты че рогом уперся? Зачем звал? Теперь на пустые базары все хочешь свести? Ну что тебе от этих маляв? Что в них особенного? Баба расписывает свой одинаковый бабский день: вчера сходила на бал к царю — дала царю, сегодня опять сходила на бал — дала французу, — и смачно сплюнул, — короче, муж, пришли мне бумаги, вина и сыру!
Ян Гали откинул голову, словно ударили в подбородок. В глазах потемнело, весь пошел пятнами, а губы вытянулись в ниточку. В один момент он собрался в какой-то комок воли и отчаяния. Вытащил из-за спины револьвер и встал наизготовку с отмоленным, все принимающим перед неминуемой гибелью лицом.
Енька вскрикнул, побежал прятаться в кабину, а Герка расхохотался на месте:
— Видать, у тебя совсем крыша молодая поехала, когда Енька тебе очко порвал, — сочувственно зацокал он.
— Да я его пальцем не… — тут же горячо запротестовал Еня, но ему не дали договорить.
— Заткнись, гнида. С тобой разговор отдельный.
Герка спокойно подошел к Ян Гали вплотную, и в ту же секунду Ян Гали почувствовал сильную боль в животе, будто лопнули все внутренности. Согнулся пополам и свалился ему под ноги. С каким легким сердцем всадил! Енька, схватившись за голову, заголосил:
— Ну зачем, Гера! Я не мокрушник!
— Ты хуже! — вытер он шило о полы халата. — Все равно уже не жилец после того, что ты сделал с ним. Я с тебя за все спрошу! И за письма, и за пацанов-малолеток…
Веревка лопнула, и письма разлетелись на ветру.
— Чего встал? Помогай!
И оба кинулись ловить вырвавшиеся на свободу листки. На Ян Гали уже не обращали внимания. Он корчился, бессмысленно водил глазами, еле ворочал языком, болезненно тянул воздух сквозь зубы, хрипло сопел и сплевывал кровь, а на самом деле пытался втолковать им: «Да, я никогда не напишу роман. Никакая жертва, даже напрасная, не исправит ваше зло. Никакую любовь нельзя заслужить. Ничто не приводит к справедливости. Ничего нельзя противопоставить вашей смерти. Ваше зло можно искупить, победить ценой только собственной жизни».
Герка и Енька подобрали все, что успели. Хлопнули дверцами кабины. Заурчал старый мотор. «Живая рыба» с треском и лязгом развернулась, пройдясь боком по взвизгнувшим воротам. Испуская густые клубы вонючего дыма, подпрыгивая на выбоинах разбитого асфальта, будто ужаленная, выкатилась со двора на дорогу. И, едва вписавшись в очередной поворот, скрылась. Зловонное шумное облако рассеялось…
Ян Гали, крепко прижав руки к животу, плакал и звал на помощь. Полз по направлению к дому, оставляя за собой следы крови. Казалось, будто его расщепляет, размывает по стеклу, выталкивает горячими токами воздуха.
11.
С утра скоблили столы, варили бешбармак, нарезали ноздреватый хлеб и рассыпчатую выпечку. На поминальный обед, кроме соседей, позвали родственников из Сокольников, которых Тимур даже не помнил. Бабушка с дедушкой никогда не ездили, не звали, а тут принялись плакать и обниматься.
Потом с проспекта Мира приехал имам и начал читать дуа за умершего. Мужчины сидели в тюбетейках, а женщины в платках. Все поднимали руки перед собой, и никто не понимал арабского. Но смысл был ясен: о, Аллах, будь милосерден, добавь рабу Твоему и сыну рабыни Твоей благих дел, не взыщи за дурное…
После поминальной молитвы мать стала раздавать носовые платки, салфетки, мыло, копеечки. Мулле — махровое полотенце и три рубля.
Потом женщины принесли в тарелках бульон с квадратной лапшой и на большом общем блюде баранину с луком. Еще пили чай с халвой и сухофруктами.
Все проходило в сосредоточенной тишине, как и на самих похоронах. За поминальной трапезой почти не говорили. Все делалось молча.
Тимур тихонько спросил у матери, почему никто не плачет по Ян Гали, неужели никому его не жаль? Мать ответила, что покойного принято провожать и поминать без шумного горевания, чтобы он не мучился. Тимур еще раз уточнил, это не потому, что Ян Гали при жизни никто не любил? Мать со вспухшими от слез глазами убежала в сарай.
Тогда Тимур, чтобы не тревожить взрослых, полез под стол и вынырнул из-под него, ушел в свою комнату. Долго смотрел на канареек. Потом на рыбок. Потом в окно. Долго наблюдал за самкой, пританцовывающей перед самцом на снегу… Затем вытащил из шкафа чужую тетрадь в коричневом коленкоровом переплете и перьевой ручкой написал:
Весною, громко каркая,
В пределах между арками
Замужняя ворона
писа́ла на снегу…
* Автор письма Сергей Смирнов.