Сергей Боровиков, Владимир Шаров, Максим Амелин, Игорь Голомшток, Денис Драгунский, Алексей Конаков, Олеся Николаева, Александр Подрабинек
Опубликовано в журнале Знамя, номер 3, 2014
Орденами «Знамени» за постоянное и плодотворное сотрудничество с журналом награждены:
Сергей Боровиков и Владимир Шаров
Премий «Знамени» удостоены:
Максим Амелин — «В декабре на Капри» (№ 6). Премия «Глобус», назначенная Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М.И. Рудомино
Игорь Голомшток — «Воспоминания старого пессимиста» (№№ 2—4, 2011); «Эмиграция» (№№ 6—7, 2013)
Денис Драгунский — повесть «Архитектор и монах» (№ 1). Премия, назначенная доктором Аугусто Лопес-Кларосом
Алексей Конаков — «Хорошо конспирированный кумир» (№ 2); «Чтение медленное и не очень» (№ 12). Премия «Дебют», назначенная Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ
Олеся Николаева — цикл стихотворений «Читается нараспашку и на лету» (№ 7). Премия, назначенная Советом по внешней и оборонной политике
Александр Подрабинек — «Диссиденты» (№№ 11—12). Премия, назначенная Фондом «Финансы и развитие»
Публикуем выступления, прозвучавшие на церемонии.

Сергей Боровиков
Не то чтобы я очень стеснялся или робел публичных выступлений, но отчего-то, выступая в столице, не раз начинал говорить вовсе не то, что собирался, или, во всяком случае, не то, что следовало.
Когда в 1993 году на букеровском обеде объявили, что Малый Букер присужден журналу «Волга» и меня пригласили к микрофону, я, поблагодарив господ на своем школьном английском и глядя на сэра Майкла Кейна, вдруг спросил: «Where is money?»
Разумеется, я не мог знать, что Малого Букера финансирует вовсе не Майкл, с которым мне еще предстоит долгая работа в комитете, но уж догадаться, что премии вручаются не за праздничным столом, мог. Вероятно, тут сыграл роль некий провинциальный комплекс, зачастую заставляющий людей и поумнее меня оказываться в позе типа «Сами мы не местные…».
А вот за все время сотрудничества с журналом «Знамя» я ни разу не вспомнил, и мне никто не напомнил, что обретаюсь далеко от столичных пределов.
Готовясь к сегодняшнему выступлению, я подсчитал, что за 25 лет напечатался в «Знамени» 50 раз. Это немало и дает мне право назвать отличительные черты работы редакции.
Первое и главное — это честность. Подразумеваю не только присущую журналу честность отношения к литературе, но и профессиональную честность в отношениях сотрудников и авторов. В «Знамени» не врут, не раздают пустых обещаний и уклончивых похвал. И при этом доброжелательно ценят своих авторов, не страдая даже намеком на кичливость, присущую многим литературным и нелитературным лидерам.
Мне дорого соседство моих текстов в «Знамени» с широким спектром других, со всем, что главный редактор журнала недавно определил как «свою версию литературы, свой набор размышлений и о литературе, и о жизни».
Предмет, в связи с награждением которым я оказался здесь, вот уже многие годы советского и постсоветского времени у трезво мыслящих людей не вызывает особого почтения. Бывает и юмор, как у нас в Саратове, когда неугомонный губернатор Аяцков ввел положение о собственных орденах разных категорий, степеней и девизов, которые цеплял на грудь угодившим его «ндраву».
Я же за много лет привык гордиться тем, что, по выражению родоначальника крымского виноделия Льва Голицына, «не посрамлен никакими орденами».
Что ж теперь? И на помощь пришел неиссякаемый Даль: «ОРДЕН — сословие кавалеров одного орденского знака, вначале носимого как знак братства, а ныне жалуемого государями за отличия и заслуги».
Иметь знак братства — для меня большая честь. Спасибо.

Владимир Шаров
Длинная проза по своей природе штука аутичная. Несколько лет не вылазишь из какой-то другой жизни, мало похожей на реальную, а потом, когда все само собой оканчивается, понимаешь две вещи — обе неутешительные. Первая — что обычную жизнь ты помнишь довольно смутно и снова начать ею жить будет непросто, и вторая — это еще вопрос имеет ли право на существование то, что ты сделал. В общем, с какой стороны ни посмотри, в тебе нет ничего, кроме сомнений, неуверенности и страха. Тут стоит добавить, что любой роман развивается по своим собственным законам и правилам. Поначалу ты, конечно, чего-то хочешь и на что-то надеешься, держишь себя за пастуха или колонновожатого, мечтаешь о хорах и ансамблях, прочих гармоничных, совершенных сообществах.
На самом деле власть давно утекла у тебя между пальцами и дальше все будет расти, как само этого пожелает, идти в ту сторону, в какую захочет, и ветвиться тоже единственно по своей прихоти.
В итоге, что при твоем участии вылупится на свет Божий, ты не знаешь и знать не можешь. И все-таки и тогда, когда работа еще идет — не то чтобы ты этим руководствовался, просто помнишь, что среди знакомых тебе людей есть несколько человек, которым ты доверяешь и которые способны разрешить многие из вышепомянутых сомнений.
Собственно говоря, получается, что их ты и имеешь в виду, для них и пишешь. Они как бы образуют собой дом, в котором тебе всегда будут рады, где тебя всегда ждут, готовы дать кров и приют.
Так получилось, что для меня после разных, довольно жестких пертурбаций таким домом двадцать лет назад в 1995 году стал журнал «Знамя». И все, что с тех пор написано, я и представить себе не могу без людей, которые в «Знамени» работают. К последней моей вещи, к опубликованному в летних номерах, а потом в издательстве АСТ «Возвращению в Египет» это относится самым прямым образом. Спасибо.

Максим Амелин
Я видел Рим, Париж и Лондон,
Везувий мне в глаза дымил… —
по-фаустовски заявил Случевский в одном из лучших своих стихотворений, написанном им на закате дней. Эти строки были призваны сообщить изумленному русскому читателю: «Я видел мир, знаю о нем не из книг и не понаслышке».
Наши поэты XVIII и даже XIX века нечасто выезжали за территорию Российской империи, разве что на учебу, как Тредиаковский и Ломоносов, или по дипломатическим делам, как Кантемир и потом Тютчев. Никогда не бывал за границей Державин, никогда — Пушкин. Для некоторых заграничные поездки закончились трагически: Батюшков начал сходить с ума в Неаполе, там же скоропостижно умер Баратынский, едва успев дописать два своих последних шедевра — «Пироскаф» и «Дядьке-итальянцу».
Прозаикам всегда было легче, никто из них от заграницы не пострадал: ни Карамзин, ни Гоголь, ни Тургенев, ни Достоевский, далее по списку. Первым удачливым поэтом-путешественником стал князь Вяземский, у которого только об Италии написано более полусотни стихотворений. Видимо, именно он каким-то образом и переломил ситуацию, сняв некое тайное проклятие, лежавшее на русских поэтах.
Сегодня трудно себе представить многонедельное передвижение, пусть даже и по европейским дорогам, до Парижа или Рима в тряской карете или дилижансе, не говоря уже о морском пути в Лондон, а тем более в Новый свет. Это просто непредставимо. Людям девятнадцатого века мир казался огромным и непознанным, а путешествия были по карману лишь довольно состоятельным и знатным.
Современная цивилизация с развитием транспорта и с почти полным открытием границ невероятно приблизила к обыденному человеку любую точку на Земном шаре, сделала достижимыми самые немыслимые прежде цели. Мир оказался не так велик, как казалось раньше, глобус скукожился до вполне обозримых размеров. Празд-ный обыватель получил в руки путеводители, чтобы, зевая, отмечать на карте: «И здесь я был, и там, и сям». Прогресс в области фотографических средств дал возможность запечатлеться на фоне любой достопримечательности, и вся мировая культура стала лишь красивым задником для безучастных и скучающих.
Но все-таки самым интересным и важным остается вовсе не то, что описано в разнообразных путеводителях, а то, что ты сам увидел без чьих бы то ни было наводок и подсказок, удержал в памяти, а не на фотографии, а то и вообще довообразил и домыслил. С этим ничто не может сравниться, и только такой подход, на мой взгляд, может еще сохранять хоть какую-то возможность живого рассказа о чем-то и без тебя доступном и давно засиженном музами.
То есть современному поэту вослед Случевскому стоит повторять отнюдь не:
Я тоже видел Рим, Париж и Лондон,
Везувий так же мне в глаза дымил…,
добавив от себя лишь одну стопу, но что-то примерно в таком ключе, сломав накатанный размер:
Я видел Рим, Париж и Лондон иными,
Везувий мне не шибко в глаза дымил…
Так, собственно, оно и было.
Благодарю Библиотеку иностранной литературы и журнал «Знамя» за столь неожиданную для меня награду.

Игорь Голомшток
О том, что мне присвоена премия за публикацию в журнале «Знамя» моих «Воспоминаний старого пессимиста», «отстаивающую общечеловеческие ценности», я узнал, конечно, с радостью, но и с некоторым удивлением. Я никогда не задавался вопросом, какие общечеловеческие ценности отстаиваю в своих сочинениях. Да и существуют ли таковые в природе? Если в тексте «Воспоминаний старого пессимиста» можно усмотреть привязанность к каким-то ценностям, то это моральные принципы поведения круга моих друзей, о которых я писал, и людей, которых я лично не знал, но почитал за преобладание в их сознании «эстетики над политикой». И обратно: неприязнь к персонажам, с которыми я полемизирую, из-за отсутствия таких принципов. При этом я понимаю, что существуют и иные ценно-сти, которых я лично не разделяю. Но при этом важно, чтобы они не вступали во враждебную конфронтацию одна с другой. Толерантность по отношению к чужому мнению (если, конечно, оно не принимает агрессивный и античеловеческий характер) — это, как мне представляется, и есть та ценность, которой так не хватает нашему времени. Можно ли назвать ее общечеловеческой? Не знаю. И, с благодарностью принимая присужденную мне премию, я все-таки не уверен до конца, что принимаю ее по праву.
Благодарю за внимание.

Денис Драгунский
Я очень рад получить премию моего любимого журнала «Знамя», но я должен сказать, что считаю ее абсолютно заслуженной.
Судите сами — легко ли было мне, автору более семисот остро-фабульных рассказов — каждый из которых занимает не более трех, а чаще две странички, — легко ли было мне написать целых одиннадцать листов текста про одно и то же? Единственная радость была — когда мне велели его сократить до девяти листов. Но радость какая-то куцая, ибо я с удовольствием сократил бы его до своего привычного, фирменного объема — 3000 знаков, включая пробелы. Но все равно работать с Еленой Сергеевной Холмогоровой было очень приятно. «Выбросим этот абзац», — осторожно говорила она, и мне это было как маслом по сердцу.
Ах, знали бы вы, друзья, сколько раз во время писания этой повести я думал: «Ну, зачем это долгописание — ведь обо всем можно рассказать на двух, много — на трех страницах!». Но я пересиливал себя. Слово, данное Сергею Ивановичу Чупринину и Наталье Борисовне Ивановой, нарушить было никак нельзя. Притом что я ведь молодой писатель, первую книгу выпустил весной 2009 года, у меня с родной словесностью еще деревянная свадьба не справлена. Поэтому, повторяю, премию я принимаю как должное. Тяжелый труд должен быть вознагражден, это честно, это правильно, это справедливо.
Зачем я так старался?
Потому что я хотел рассказать, показать и доказать, что в историческом бессознательном, в бездонном складе возможностей и вероятностей живут такие странные, но необходимые люди, как иеромонах Иосиф Сталин, человек несгибаемой веры, отказавшийся участвовать в политических играх власти, а когда-то поборовший — страшно дорогой ценой — соблазн любви к молодому художнику Гитлеру. Как архитектор и диссидент Адольф Гитлер, написавший самиздатскую брошюру о сохранении личного достоинства при диктатуре — вы, конечно, догадались, как она называется? Там живут тоталитарный диктатор Эрнст Тельман и капризный деспот Владимир Набоков (старший, разумеется), а также Леон Троцкий, убитый полоумным испанским социалистом, утопленный в пруду Владимир Ленин и бедная, глупая, влюбленная девочка Ева Браун.
Но вот ведь какая штука: Вторая мировая война все равно случилась, гибли солдаты и мирные жители, и евреев все равно убивали, хотя Сталин носил рясу, а Гитлер проектировал виллы. Почему? Потому что отдельный человек всегда (ну или почти-почти-почти всегда) может изменить свою жизнь. А народ — не может, народ следует уготованными ему путями, ведо€мый безличными силами: рождаемостью, занятостью, зарплатой и проч.
Но почему, почему?
Всего лишь потому, что не все хотят и могут изменить свою жизнь, выскочить из колеи, поверить в Бога, или в добро, или хотя бы в себя самого как драгоценную единственную личность. И это жаль. Но с этим приходится жить. И сочинять об этом рассказы и повести. Лучше, конечно, рассказы. Хотя за повести дают премии, и это заставляет задуматься о собственной жанровой судьбе.
Простите, если я ударился в излишний серьез.
Но зато не превысил объем в три тысячи знаков.

Алексей Конаков
Давно уже я привык укладываться рано. Но неожиданное известие вдруг рушит заведенный распорядок, выхватывает из повседневности, обаятельно и нахально заявляет свои права — иными словами, ведет себя как самый настоящий праздник. Это моя первая аттестация происходящего, и, несмотря на некоторую вычурность формулировки, я от нее не откажусь — как в универсальном (касающемся всех здесь присутствующих), так и в сугубо частном (касающемся лишь собственных чувств и мыслей) применениях. Я очень благодарен журналу «Знамя» за присужденную награду, за доверие и сердечную расположенность. Эти совершенно искренние чувства, однако, в данный момент сопровождаются отчетливой растерянностью, некоторым повышением давления и легким головокружением. Дело тут не в скромно-сти, хотя она и подобает положению неофита, но в более общем культурном самоощущении, о котором мне и хотелось бы сказать здесь пару слов. Испытавший мощнейшее воздействие советской «второй культуры», текстов ленинградского и московского андеграунда, я, кажется, навечно и накрепко полюбил все очень замкнутое и тесное, тихое и домашнее, автаркичное и аутичное. Поэзия коммунальных кухонь и хрущевских малосемеек, картофельных очисток и рыбных салатов, бытовых маргиналий и повседневных домоседств и до сих пор представляется мне исполненной самого живого очарования. Влияние, по всей видимости, оказывает и гений места, в котором приходится жить; Петербург самим своим устройством способствует окукливанию: есть город, в городе остров, на острове двор-колодец, в колодце каморка, в каморке сидит человек и заваривает чифирь. Впрочем, в данное мироощущение, к чаепитиям в стиле Леона Богданова, органично вписывается и масса феноменов из других эпох: здесь и обитая пробкой комната, и сладкий запах белого керосина, и, разумеется, малосольный огурец с прилипшей ниточкой укропа (не надо снимать). Следует отметить, что в таком выборе ориентиров есть нечто большее, нежели простая, помноженная на анахроничность агорафобия. В послед-ние полвека проводимая постмодернизмом критика тождества расчистила место для появления специалиста нового типа — сверхмобильного интеллектуала, с легкостью меняющего места проживания, виды деятельности, идентичности, имиджи, связи, сексуальности, языки и проч. и проч. Перемещаясь по миру, пересекаясь и расходясь, группы таких интеллектуалов способны почти моментально создавать новые места силы, менять существующие конфигурации знания, оказывать колоссальное влияние на саму современность. Но, кажется, как раз на фоне этих блистательных траекторий, фиксирующих интеллектуальные потребности новой космо-кратии, единожды выбранная, лелеемая и пестуемая автаркия приобретает статус не пережитка позднесоветской эпохи, но сознательной этической альтернативы, а тесная каморка в спальном районе провинциального города внезапно начинает выглядеть символом нового морального императива, как когда-то звездное небо над головой. Отмечу, что именно исходя из этих предпосылок мне всегда хотелось писать о русской поэзии — ибо нет искусства более замкнутого, местечкового, аутичного, не желающего подвергаться процедурам перевода, транскрибирования и дистрибьюции по изгибам и складкам земного шара. С учетом всего вышесказанного я разъясняю сам себе и упомянутую соматику головокружения, давления, волнения — это закономерное следствие внезапного расширения пространства, неожиданного перемещения на некий новый уровень публичности. Впитывая эстетику и аксиологию «второй культуры», я, к счастью, избежал характерной для нее практики люстрации, коей подвергалось множество крупных фигур (в диапазоне от Ю. Олеши до Ю. Трифонова), а также отрицания целого ряда институций литературного поля — и потому расширение пространства бытования собственных текстов, любезно предлагаемое редакцией журнала «Знамя», воспринимаю с радостью и настоящей благодарностью. В то же время я хотел бы сохранить верность и собственной этике местечковости — просто потому, что она представляется мне весьма продуктивной. Нетрудно заметить, что в таком сочетании интенций просматривается определенное противоречие, которое взывает к рефлексии, к размышлению, к возможной ревизии исходных посылок. Иными словами, сложившаяся ситуация является бесспорным стимулом для мысли — и это моя вторая аттестация происходящего. И, мне кажется, все должны согласиться, что если награда подталкивает к самоанализу и переоценке существующего положения вещей, то она из символического жеста (холостого зачастую) глорификации отдельного человека становится в высшей степени продуктивной практикой, способствующей развитию литературы. Так частное оборачивается всеобщим, а локальное мирится с глобальным. Большое спасибо.

Олеся Николаева
Мне эту историю рассказал мой муж. Когда он был еще мальчиком и хорошо рисовал, так что даже сам Корней Чуковский выбрал и послал его рисунки на выставку в Индию, его пригласили на елку в дом к Корнею Ивановичу. Там собралось множество прекрасных детей. Они веселились, получали подарки, выступали, пели, танцевали, читали стихи. Наконец очередь дошла до чудесного нарядного отрока лет десяти, и он вышел на середину комнаты, набрал в легкие воздух и, старательно выговаривая каждое слово, произнес:
— Михаил Юрьевич Лермонтов. Парус.
Облизал пересохшие губы и начал:
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
Играют волны — ветер свищет,
И мачты гнутся и СКРИПЯТ…
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия БЕЖИТ.
Тут он растерянно запнулся, вздрогнул, тревожно оглядел слушателей, словно ища подсказки: что тут не так? В чем подвох? Замер. Стал перебирать в уме слова стихотворения: нет, вроде все на месте — волны, ветер, мачты… Играют, гнутся, скрипят… Но почему же все мимо, не в склад не в лад-то!
Он встряхнулся и начал снова, уже осторожно, ощупывая каждое слово, словно боясь, что оно взорвется:
Играют волны, ветер свищет,
И мачты гнутся и СКРИПЯТ…
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия… БЕЖИТ!
И тут лицо его вытянулось от обиды, губы задрожали, и он, громко заревев, за-крыв лицо руками, кинулся прочь… Ужас, ужас! Потрясение! Дьявольский оскал разрушенной гармонии!
Вот и в моей жизни порой рушится вдруг эта система рифмовки, совпадений и отталкиваний, превращений и преображений, ауканий и отражений, прикровенных связей и тайных знаков, предзнаменований и угадываний…
Ничего не сходится, не сбывается, не преображается, не вырисовывается, не поется, не рифмуется… Два путника, вышедшие навстречу друг другу из А в Б, разминовываются, не узнают друг друга в лицо, не встречаются. В черные зазоры и щели утерянных рифм задувают роковые ветерки. Дребезжание не состоявшегося аккорда корежит слух. Утраченный смысл пялится пустотой. Ужас, ужас! Фазенда моя вот-вот упадет. Море выйдет из берегов и затопит сад. Камень рухнет вниз со скалы, вызывая обвал.
Небо жизни больше не созвучно с «хлебом», «смерть» — с «твердью», а «я» с «ты».
Словно на всех бесов уже не хватает ангелов!
В прошлом ли совершена роковая ошибка, в настоящем ли — подлог и лукавство? Луна манит к себе горделивого юнца, ставит его наверху горы, говорит: «Come, baby, come, и ты полетишь!» Он раскрывает ей навстречу объятия, делает шаг: «Я лечу, лечу!» Но никто не подхватывает его на лету.
Ветер говорит: «Распахнись! Я надую тебе баснословных историй, навею чудо-творных снов». Распахиваешься, и в ответ — ни-че-го! Ни отклика, ни звука, ни созвучия! В голове — разноголосица, температура, озноб. То ли воспаление легких, то ли бронхит.
И, наконец, хочешь под конец своих дней сказать Прекрасной Даме: «Я любил тебя всю мою жизнь!». И чтобы она, наконец, призналась: «И я! И я любила тебя!» А перед тобой — старуха-процентщица в полинялом чепце, черный рот. Чур меня, чур! Обман!
И я порой, как тот чудесный нарядный мальчик на елке у Корнея Чуковского, пячусь в ужасе и отчаянье, закрывая руками лицо.
— Мачта, — подсказываю я ему и повторяю, — мачта гнется и скрипит! Скрипит — бежит! Продолжай!
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
Мальчик дочитывает стихотворение и кланяется. И все аплодируют ему. Елка сияет огнями. Свежий снежок скрипит под ногой. Звездочки мерцают на небесах. Жизнь продолжается. Праздник удался. Мальчик несет подарок домой.
…Вот я и срифмовалась с ним.
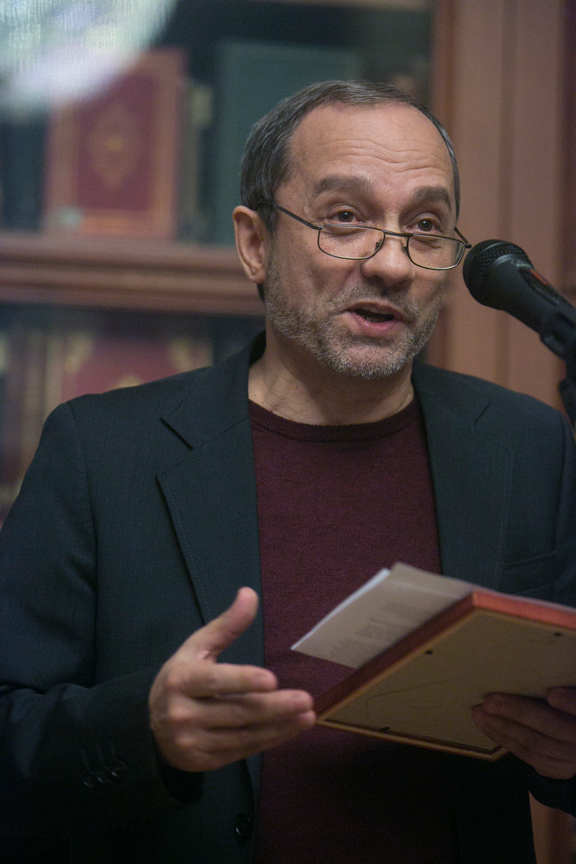
Александр Подрабинек
Я тронут решением присудить мне ежегодную премию журнала. Я немного спотыкаюсь на слове «присудить», потому что раньше за книги мне присуждали вовсе не премии. За свою первую книгу, изданную за рубежом, я получил пять лет ссылки. Черновики второй книги — это был сборник воспоминаний заключенных — были изъяты на обысках, и не осталось ни одного экземпляра. Когда я уже снова сидел, рукопись третьей была сожжена из лучших побуждений в ожидании обыска, чтобы мне не добавился еще один эпизод обвинения. За четвертую, которая была всего-навсего переводом первой книги на английский, я получил еще три с половиной года лагеря.
И вот, наконец, за эту книгу, опубликованную в журнале «Знамя», я получил гонорар, а теперь еще и премию. Я должен заметить, что такой способ выражения читательской благодарности мне нравится гораздо больше. Я буду рад, если это станет для меня новой традицией!
Если же говорить серьезно, то эта премия подчеркивает все еще сохраняющиеся различия между днем вчерашним и днем нынешним. Разница между приговором и премией свидетельствует еще и о том, что наше общество — читатели, писатели, критики и меценаты — ценят ту свободу, которую мы имеем сегодня, как бы эфемерна она ни была, как бы ни урезалась она с каждым днем, угрожая возвращением в прошлое.
Я воспринимаю эту премию как признание того, что отстаивание свободы ценно для любой эпохи, а опыт диссидентского движения сегодня если уж не поучителен для общества, то по крайней мере интересен.
С другой стороны, я понимаю, что в этой книге для многих интересен не только и, может быть, не столько пафос антисоветского сопротивления, сколько необычные условия диссидентской и тюремной жизни. Это действительно была необычная жизнь, как бы параллельная общепринятой. Не знаю, насколько удачно, точно и вразумительно мне удалось передать атмосферу этого параллельного существования, но я должен отметить одну, на мой взгляд, существенную деталь. Виденное и испытанное мной составляет только некоторую часть того, что происходило на самом деле. Мне лишь удалось более или менее хорошо записать то, что со мной происходило, но это всего одна страничка огромного и пока еще недописанного повествования.
Я все надеюсь, что кто-нибудь напишет об этом времени романы, снимет за-хватывающие художественные фильмы, расскажет об этих людях с театральной сцены. В том времени было все, из чего состоит острая и драматичная жизнь: совершенно немыслимые повороты судьбы, сильные люди, жестокая власть, героизм и предательство, дружба и малодушие, тихое благородство и расчетливый авантюризм. Там был постоянный и добровольный выбор между волей, тюрьмой и эмиграцией.
И во всем этом были очень разные люди с самыми обычными человеческими достоинствами и недостатками. Большинства из них уже нет сегодня с нами — одни умерли своей смертью, другие погибли за колючей проволокой. Я чту их память. Все добрые слова, сказанные мне в связи с книгой «Диссиденты», я мысленно переадресовываю им.







