Опубликовано в журнале Знамя, номер 3, 2010
Говорят лауреаты “Знамени”

Торжественная церемония вручения премий журнала “Знамя” по итогам 2009 года состоялась по традиции (в семнадцатый раз!) в Овальном зале Библиотеки иностранной литературы на Святки и в вечер старого Нового года — 13 января.
Кавалерами ордена “Знамени” за постоянное и плодотворное сотрудничество с журналом стали Александр Кабаков и Андрей Турков.
Премий “Знамени” удостоены:
Эргали Гер за повесть “Кома” (№ 9; премия, назначенная Советом по внешней и оборонной политике)
Андрей Гришаев за подборку стихотворений “Порядок вещей” (№ 9; премия “Дебют в “Знамени”, назначенная Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ)
Владимир Найдин за семейную сагу “П-т-т, санагория, чать!” (№ 6)
Олег Павлов за роман “Асистолия” (№№ 11—12)
Владимир Тучков за “Русский И Цзин” (№ 6)
Михаил Ходорковский, Людмила Улицкая за “Диалоги” (№ 10; премия “Глобус”, назначенная Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени Рудомино)
Публикуем выступления лауреатов на церемонии.
Эргали Гер
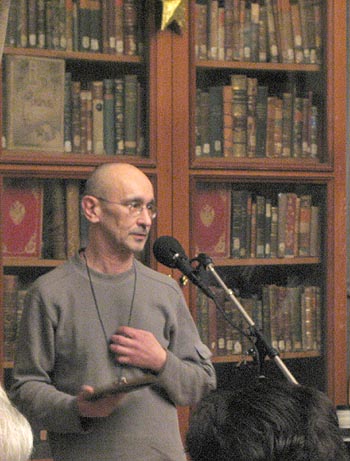
Пару лет назад я летел на самолете в Челябинск, и у нас на борту случилась нештатная ситуация: одна из стоек шасси примерзла и не опускалась. Разумеется, пассажирам подробностей не сообщали, однако народ припух: самолет раз, другой, третий заходит на посадку, касается взлетной полосы и взлетает. Причем не просто касается, а грубо бьется о бетон — это пилоты надеялись, что от удара правая стойка выйдет. После третьей попытки самолет ушел круто вверх и начал барражировать над ночной зимней Челябой, вырабатывая горючее. Стюардессы рассадили нас в шахматном порядке — благо, салон был полупустой, — опустили спинки кресел перед каждым из пассажиров и велели пристегнуться покрепче. В общем — приехали. Часа полтора кружили, кружили, потом пошли на посадку.
Что меня поразило в этой ситуации, так это поведение пассажиров. Не было ни вздохов, ни охов, ни комментариев вслух. Не было вообще ничего из того, что показывают в фильмах-авариях про аналогичные ситуации. За два часа, пока мы кружили над ночной Челябой, никто из пассажиров не произнес ни слова. Люди ушли в себя, держались напряженно и замкнуто. То есть даже водички никто не попросил у стюардессы. Даже я каким-то невероятным напряжением воли удержался от комментариев — понимая, что любое слово может стать поводом к панике. Очень достойно вели себя наши люди. Достойно и дисциплинированно сверх ожидания. Словно за каждым из нас наблюдал кто-то сверху.
Вот так, в полном безмолвии, испуганные и сосредоточенные, мы пошли на четвертый заход, крепко стукнулись о бетон, стойка шасси выскочила, самолет покатил, покатил по бетону и благополучно затормозил. Тут уж, естественно, бурные аплодисменты пилотам, оживленный обмен мнениями и даже объятия. То есть никакие не мумии летели в самолете, а вполне живые люди. Живые люди — привыкшие, умеющие держать все в себе.
Вот это наше русское умение молчать, вот это наше свойство молчать в ситуациях, когда другие люди стремятся либо выговориться, либо помочь друг другу хотя бы словом, меня поразило. В автобусах, электричках, поездах мы народ разговорчивый, а как бабахнет что-нибудь сверху, как начинают нас прессовать — замолкаем. В других странах, где мне доводилось бывать, все ровным счетом наоборот. Мы боли свои, горе свое, злобу свою носим в себе. А это нездорово.
Я к тому времени уже знал, что обязательно напишу рассказ или повесть о поколении моей мамы. О поколении, погребенном под развалинами СССР. О поколении, низвергнутом нами, то есть моим поколением. Низвергнутом в полном смысле этого слова. Мы отринули их идеалы, разрушили их страну, обнулили их и без того скромные пенсии и сбережения. Кто-то должен был сказать за них. Зафиксировать все, что творится в нашей стране с начала прошлого века. Сказать примерно следующее: “У общества, выбрасывающего своих стариков на свалку, нет и не может быть будущего. Поколение, выбрасывающее своих стариков на свалку, будет проклято — даже при том, что сами старики скорбно молчат”. Как-то вот так, пафосно. Пепел Клааса стучал в мое сердце.
Вот так хотелось сказать — но написалось другое. Жизнь реальных прототипов повести, сокурсниц моей мамы по Полиграфу, которых я знал с детства и половину из которых по-родственному называл тетками, оказалась настолько скудна, настолько под старость их безысходна, что не поддавалась не то что прочтению, но и написанию. Правда жизни, поставленная во главу угла художественного произведения, оказалась вещью коварной и юркой. Она постоянно отдалялась, как отдаляется от бегущего горизонт. Чем больше жмешь на правду факта, тем меньше литературы. Чем меньше литературы — тем меньше правды жизни. Я начинал повесть как художественное исследование правды, а закончил чем-то вроде притчи. И отличить поражение от победы в данном случае не могу: то ли претерпел победу, то ли одержал поражение. Вот почему живая и горячая реакция первых читателей была чрезвычайно важной. И единодушное одобрение целого синклита знакомых батюшек тоже меня порадовало — при том что сам я человек сугубо светский. И мнение учредителей премии, признавших мой физиологический очерк повестью, тоже обнадеживает. Возможно, что-то все-таки удалось сказать. Хотя бы главное: “спасибо” и “простите”.
Андрей Гришаев

Мне очень повезло с формулировкой премии. Что может быть проще: “Дебют” — и дебют. Поэтому я освобожден от мнительных поисков: с чем едят либеральные ценности или, скажем, артистизм, а главное — почему то занятие, которое никому ничего не было должно, вдруг утверждается обязательным носителем доброго-вечного. Нет ли в этом изъяна? Эдакая любимая мозоль поэта, видите, на нее аккуратно даже не наступили, а сколько уже слов я сказал.
Есть одно почти символичное совпадение. Сегодня мой хороший товарищ женится на женщине, которую любит, которая является матерью его ребенка и с которой они живут уже лет пять. Что важнее: штамп в паспорте или все остальное? Определенно, второе, хотя штамп тоже играет какую-то роль.
С литературой дело чуть сложнее. Самое ценное (любовь, семья, дети), мне кажется, является следствием скорее некоей отстраненности, невовлеченности в общественное. Но все же пресловутый штамп дает ощущение необходимой свободы, независимости от наличия или отсутствия разговоров о тебе.
Продолжу говорить штампами. Возможно, здесь уместнее сравнение с визой в загранпаспорте. Был отмечен серьезным журналом — как бы слетал в Европу. Полюбуйтесь. Но значимей оказался не сам факт поездки, а то, что и там ты с удивлением встретил приветливых людей, разобравших твой ломаный английский. Радостно и приятно. Рискуя показаться смешным, хочу сказать, что из всех занятий, которые выпадали в жизни, стихи — это и важнейшее, и счастливейшее, и лучшее, что я могу. Скептики (или тонкие ценители) скажут: “А пишешь-то ты хреново”. Но повторю: это лучшее, что у меня есть.
Большое спасибо редакции журнала “Знамя”, фонду Филатова и персонально Ольге Ермолаевой — за доброту.
Владимир Найдин
Всегда и в любой стране были в большом почете различные ордена. У нас, конечно же, тоже. До войны было звание “орденоносец”, весьма престижное. После войны их (орденов) стало такое количество, что они слегка девальвировались. Однако два ордена — Боевого Красного Знамени и Трудового Красного Знамени — оставались почетными и стояли в иерархии сразу после ордена Ленина.
Кавалером ордена Боевого Красного Знамени № 1 был маршал Блюхер (правда, это ему не помогло выжить). Кавалером ордена Трудового Красного Знамени № 1 стал коллектив Путиловского (Кировского) завода. Это были весомые знаки с красной и синей эмалью, внутри были платина, никель, еще какие-то благородные металлы. Награждение этими орденами сулило карьеру, некоторый почет, а главное — самоуважение. “Вот, поглядите все, какой я молодец!” Это было заслуженно.
Но есть совсем другое “Знамя”, бумажное. В обложке болотного цвета, не боевое, не трудовое, а просто литературное.
Когда-то, много лет назад, в этом журнале я прочитал замечательный детектив, крепко закрученный, с продолжением в нескольких номерах. Потрясающий! И гораздо позже, к своему стыду, я выяснил, что это серьезный литературный журнал с блестящими прозаиками, достойной поэзией, интересной критикой.
Совершенно неожиданно для себя, начав писать “Записки врача”, я как-то оказался внутри этого журнала, где выразили интерес и благосклонно приняли мои писания, что меня приятно удивило, потому как я себя к писателям не причислял. Потом я написал еще рассказы, расхорохорился и двинул им целую повесть — документальную семейную сагу. С моей стороны это было опрометчиво, так как повести писать я не умел и никогда не пробовал. Но Ольга Васильевна Трунова, слегка обрубая ненужные боковые куски, ласково сглаживая редакторским “напильником” всякие глупости и по-хирургически сшивая сосуд с сосудом и сухожилие с сухожилием, построила вдруг приличную конструкцию. Повесть была напечатана, и на меня посыпались письма читателей, которые выражали как восторг, так и некоторое недоумение — по поводу слишком правдивого описания советской действительности. Я расценил это как успех. Действительность-то была разная!
Вот тут уж я познакомился с начальством журнала, которое оказалось высокопрофессиональным, дружелюбным и с чувством юмора. Сочетание для меня вполне приемлемое. Может, посмеются и еще что-нибудь напечатают. Или опечалятся — и тоже напечатают. В любом случае я буду рад. Отдельное спасибо — за все!
Олег Павлов

Благодарю всех, кто поверил в эту рукопись, и ее редактора, Елену Сергеевну Холмогорову. Роман опубликован — и хотелось бы отстраниться от себя; если угодно, от своей личности. У меня есть любимый поэт… То, что я хотел бы высказать, он выразил в одном стихотворении…
Полутемная больница.
Медсестер пустые лица.
Санитаров пьяный бред.
Инвалидам сладко спится:
никому из них не снится
переломанный хребет.
Кружит девушка в коляске.
Ей, мужской не знавшей ласки,
хоть собой и хороша,
все бы, глупой, строить глазки,
выпавшей, как в страшной сказке,
со второго этажа.
Слез непролитые реки
здесь взорвать должны бы веки
бедных юношей. Но вот
странный, жуткий смех калеки,
затвердившего навеки
непристойный анекдот.
Нет надежды ниоткуда.
Тем в колясках и не худо,
этот сдался без борьбы,
этот верует покуда,
что его поднимет чудо
прежде ангельской трубы.
Боже праведный и славный,
если только разум здрав мой,
просьбу выполни мою:
всем разбитым смертной травмой
дай удел посмертный равный —
посели в Своем раю.
Исцеляющим составом
проведи по их суставам.
Не подвергни их суду.
Всем им, правым и неправым,
босиком по вечным травам
дай гулять в Твоем саду.
Владимир Тучков

В русском языке уже лет двадцать в качестве оценочной категории принято употреблять слово “отстой”. Уже лет десять словом “отстой” в обществе позитива и прогрессивной эволюции принято называть существующие вопреки социальным процессам толстые литературные журналы.
И действительно: допотопная газетная бумага, монотонная верстка и, как теперь принято выражаться, много букаф, что идет вразрез с современным клиповым строением мироздания. И эти раздраженные нападки и наскоки на неповоротливых “толстяков” весьма странны, поскольку что он Гекубе, что ему Гекуба? В том смысле что позитивные критики, обслуживающие те или иные издательства или литературные бренды, казалось бы, не должны замечать в упор архаику, которая даже в самом кошмарном сне не способна оттяпать у руки дающей даже одну тысячную долю процента рыночного сегмента.
А он рыдает! В смысле — периодически насылает хулу на институцию, с которой он никак не пересекается.
Но существование которой делает его жизненный триумф не вполне полноценным. Поскольку помимо его трендово-брендовой шкалы оценок, принимающей в расчет лишь потребительский спрос и затраты на продвижение продукции на рынок, существует и иная шкала. Шкала, которая выстроена на таких категориях, как этика и эстетика. И которой с той или иной степенью погрешности пользуются в толстых журналах.
И это разные шкалы не только в онтологическом отношении, но и с точки зрения их стабильности во времени. Этика крайне “неповоротлива”. Эстетика “поживее”, она эволюционирует вместе с глобальными изменениями самосознания нации или человечества. Рыночная же шкала настолько лабильна, вектор, к которому она привязана, выписывает такие пируэты, что от этого критик литературного рынка постоянно испытывает неуверенность в завтрашнем дне. Ведь надо ж угадать, что завтра будут хватать с прилавков: книги, инкрустированные металлом корпуса подлодки “Курск”, книги с вклеенными образцами ароматов от Живанши, книги, которыми можно открывать пиво, книги с обложкой-зеркальцем, книги с микрочипом для обслуживания на бензоколонках?..
Но это мнимое разнообразие. В действительности книгоиздательская отрасль и глянцевожурнальная индустрия беспрерывно воспроизводят всего лишь две жанровые формы. Роман, который должен оправдывать ожидание массового человека. И рассказ, написанный с бандитским шиком или с коровьей чувственностью.
По этому поводу Организация Объединенных Наций уже давно бьет тревогу. Именно сокращение биологического разнообразия планеты является одной из главных угроз человечеству. И оскудение писательского разнообразия является частным случаем данной проблемы.
Именно это и называется критической скоростью изменения энтропии, возникшей вследствие перегрева рынка. И по жанровому оскудению мы можем предсказать грядущую тепловую смерть литературы.
Собственно, эту проблему почти сто лет назад прекрасно сформулировал Маяковский: “…во рту умерших слов разлагаются трупики, только два живут, жирея — “сволочь” и еще какое-то, кажется, “борщ”.
Толстые журналы этому противостоят. О чем свидетельствует и многообразие жанров, в них представленных. И способность и готовность к публикации новаторских текстов. В определенном, конечно, объеме и до известной степени, не противоречащей литературоохранительным задачам “толстяков”. И самым продвинутым по части формы журналом, безусловно, является “Знамя”. Именно этот журнал не только опубликовал мое сочинение, жанр которого можно определить как “транскультурный интерфейс”, но и удостоил его высокой награды.
Это что касается эстетики. В сфере этики дела обстоят еще более разительно. Что обусловлено особенностями отечественного рынка, который не столько рыночный, сколько бандитски-государственно-коррупционный. И для того чтобы удержаться на плаву, недостаточно ставить маркетологов выше главредов. Необходимо еще и энергичное славословие в адрес тех структур, которые заместили ушедшее в небытие Политбюро КПСС.
Так вот, после приснопамятного 1956 года толстые журналы, хоть и находились в условиях внешней несвободы тридцать пять лет, никогда не вытворяли того, что выделывает сейчас глянцевая индустрия. Выделывает сладострастно и самозабвенно, с высокой степенью креативности и крайне низкой — пристойности. Естественно, такая стратегия не просто смещает этические нормы, но провоцирует в своей читательской аудитории, списанной с картины Брейгеля “Слепые” и бредущей к пропасти национальной катастрофы, ни с чем не сравнимое ощущение эйфории и небывалой внутренней свободы.
Допотопные же “толстяки” по-прежнему оперируют прежними, пропахшими нафталином ценностями. То, что было хорошо и пристойно 30, 50, 100, 200 лет назад, хорошо и сейчас. Что было мерзко при царе Горохе, не менее мерзко и сейчас, при Циннобере Великом. Нет, они активно не участвуют в политической жизни, не оппозиционерствуют, не бичуют яростно и не бьют наотмашь самозабвенно.
Они просто и достойно служат эталоном, относительно которого следует оценивать наши нынешние победы и завоевания: реальные и мнимые. Они как бельмо на глазу и кость в горле у тех, кто в приступе, казалось бы, беспричинного озлобления называет толстые журналы отстоем.
Товарищи поэты и прозаики, критики и публицисты, эссеисты и драматурги! Выше “Знамя” эстетических побед и этических завоеваний!
Пейте какао Ван Гуттена! Ура!!!
Людмила Улицкая
Когда меня спрашивают, как я отношусь к институции литературных премий, ответ у меня всегда один: я приветствую все премии, которые есть, — для молодых, старых, премии жанровые и национальные, нобелевку, Букера, большую книгу и малую, и даже самую малую, с премиальным фондом и без него. Премия — это хорошо!

Премия помогает встрече читателя с писателем. Читатель, любитель наезженной колеи, иногда именно благодаря премии открывает новые интересы в себе самом и в окружающем мире. Писатель выходит из вакуума, который невольно создается около сосредоточенно живущего человека и обнаруживает — счастье! — что слово его живет не только в искусственном пространстве “писатель — компьютер”.
Сегодняшнее событие — награждение премией “Глобус” (журнал “Знамя”) небольшого диалога двух соавторов — заключенного сегодня в СИЗО “Матросская тишина” Михаила Борисовича Ходорковского и писателя, живущего в получасе езды по третьему кольцу — мне представляется очень значительным событием. Во-первых, наш разговор показался интересным многим читателям журнала. Во-вторых, возникло чувство, что все, конечно, плохо, но не так уж плохо, коли слова и мысли узника доходят до читателей. И, в-третьих, хочется надеяться, что эта публикация каким-то образом приблизила час, когда мы увидим Михаила Борисовича на свободе.
Еще одно чувство, которое крепнет год от года — делается все стыднее и стыднее за этот безумный процесс.
Спасибо от меня и от моего соавтора Михаила Борисовича Ходорковского, что журнал отметил нас наградой. Спасибо Библиотеке иностранной литературы, которая эту премию придумала.
Я надеюсь, что в этом же зале будет проводиться пресс-конференция с Ходорковским, и он будет стоять перед этим микрофоном, а мы — сидеть в этом самом зале, а не в каком-либо другом месте. И хотелось бы, чтобы это случилось как можно скорее.
Михаил Ходорковский
Уважаемые дамы и господа!
Благодарю вас за столь неожиданный подарок. Рассматриваю эту премию как символ моральной поддержки со стороны журнала, его читателей и глубокоуважаемого мастера — Людмилы Улицкой.
Поддержки всем людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации вне зависимости от их политических взглядов. Поддержки, которая традиционна для всех поколений российской интеллигенции.
Скажу откровенно: я — не сторонник возвеличения толпы. Я не считаю, что голосование на выборах равно демократии. В конце концов, и за жестких диктаторов голосовали многие. Народом, обществом толпу делает ответственная элита. Она же, в случае неудачи, несет ответственность и за тоталитаризм, и за развал страны. Непростая роль, тяжкая ноша, требующая ума, знаний, патриотизма и, наконец, обычного мужества.
Иное — не элита, а всплывшая на поверхность, разъевшаяся дрянь.
Верю, что пассионарность России не исчерпана, но вера в то, что “мы можем”, не снимает ответственности, выражаемой словами “я должен”. Во всяком случае, я с себя такой ответственности не снимаю.
Еще раз благодарю за поддержку.
Кавалерами ордена “Знамени” за постоянное и плодотворное сотрудничество с журналом стали Александр Кабаков и Андрей Турков.
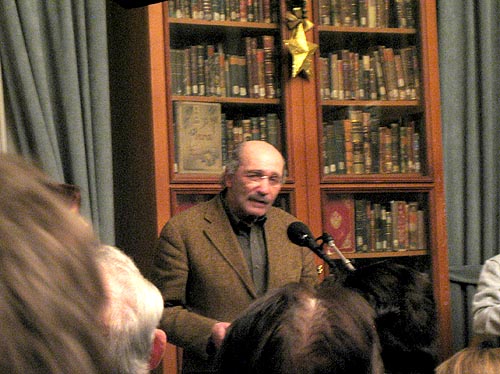
Александр Кабаков

Андрей Турков