Три главы из книги
Опубликовано в журнале Волга, номер 7, 2017
Владимир Орлов родился в г. Петровске Саратовской области. Издатель неподцензурной поэзии ХХ века. В рамках проекта «Культурный слой» им были опубликованы сборники стихов Евгения Кропивницкого, Юрия Смирнова, Леонида Виноградова, Евгения Хорвата, Анатолия Маковского, Владимира Ковенацкого, Сергея Чудакова, Анны Горенко, Леонида Лаврова, Варвары Мониной, Даниила Соложева, Николая Стефановича, Павла Громова, Николая Пророкова, а также две антологии – репринт первого тома «У Голубой Лагуны» (сост. К. Кузьминский и Г. Ковалев) и «Русские стихи. 1950–2000» в 2-х томах (сост. И. Ахметьев, Г. Лукомников, В. Орлов, А. Урицкий). Автор книги «Чудаков. Анатомия. Физиология. Гигиена» (первая публикация в журнале «Знамя», 2014, №№ 10, 11). В «Волге» – публикации Алексея Ильичёва (2013, № 1-2), Сергея Морозова и Георгия Недгара (2015, № 5-6).
АЛЕКСАНДР ГИНЗБУРГ: РУССКИЙ РОМАН
Три главы из книги[1]
Александр Даниэль[2], из предисловия:
Эта книга – об одном из самых удивительных людей своего времени. Всматриваясь в ключевые события, образующие историю становления в Советском Союзе «второй культуры» и порожденного ею движения открытого общественного протеста против политических преследований, – того самого движения, которое в начале 1970-х, с легкой руки западных журналистов, стали называть «диссидентским» и «правозащитным», – в самом центре этих событий мы неизменно обнаруживаем Александра Гинзбурга.
<…>
В последний раз я видел Александра Ильича Гинзбурга весной 2000 года, за два с лишним года до его смерти. Это было в Берлине, куда мы приехали – он из Парижа, я из Москвы – на открытие выставки «Самиздат», подготовленной бременским Исследовательским центром Восточной Европы. Мы сидели на веранде кафе, недалеко от здания Академии художеств, где проходила выставка, и пили пиво.
– Знаете, Алик, – сказал я вдруг, – я понял, кто Вы такой.
– Кто же я такой? – спросил Гинзбург без особого интереса.
– Вы – великий изобретатель и великий реализатор главных диссидентских ноу-хау, вот кто Вы такой. Кто положил начало диссидентской периодике? Кто составил первый документальный сборник по материалам политического процесса? Кто, вместе с Солженицыным, впервые за несколько десятилетий упорядочил тюремную благотворительность, создал для этой благотворительности специальную организацию? Кто, вместе с Юрием Орловым, Людмилой Алексеевой, Анатолием Щаранским основал первую профессиональную правозащитную организацию?
– И это все, что ты можешь назвать? – иронически спросил Гинзбург.
(Я всегда обращался к Алику на «Вы», а он говорил мне «ты»: когда мы познакомились, он был вдвое старше меня – ему было 30, а мне 15).
Я смутился.
– Ну… еще Вы впервые в истории ГУЛАГа подпольно организовали и передали на волю магнитофонную запись.
– И все?
– Ну… еще Вы, кажется, первым научились в лагерных условиях готовить мороженое…
– И это все, что ты можешь перечислить из моих «ноу-хау»? – повторил Алик свой вопрос.
– Насколько я знаю, это все.
Алик ехидно улыбнулся – своей знаменитой «улыбкой Гинзбурга», в свое время доводившей мордовских надзирателей до белого каления:
– А с чего ты взял, что знаешь все?
И в самом деле – с чего я это взял?
Глава 4
Письма из Вятлага
Владимир Тольц: В лагерь Александр Гинзбург прибыл 12 апреля 1961 года – в тот самый день, когда в космос полетел Юрий Гагарин. Александр Ильич рассказывал мне, что ничего о «советском космическом прорыве» не ведая, никак не мог в первый момент понять, чего это и зэки и вохра так ликуют, неужели по поводу его приезда?.. (Самиздат. Попытки осмысления. Ведущий В. Тольц // Радио «Свобода». 22 октября 2000)
Александр Гинзбург: Я поехал тихо-мирно в уголовный лагерь. Это север Кировской области, юг Коми АССР, так называемый Вятлаг: лесоповал… В общем, всё хорошо. Надо сказать, что это была неплохая школа. Это было последнее время, когда уголовники в какой-то мере были смешаны с «политическими». И я увидел ту среду, с которой в жизни не сталкивался – что было само по себе очень полезно. (Фильм «Свидетели ГУЛАГа». Франция, 2001)
Сохранились письма Алика из лагеря, обращенные к Минне Попенковой, одной из тех, кто, как выявило следствие, занимался «размножением нелегального журнала “Синтаксис”». Отрывки из этих писем составили основу этой главы. В некоторые конверты были вложены послания, предназначенные для передачи Юрию Галанскову (также приведены в отрывках). Необходимо отметить, что в начале 60-х переписка заключенных не только с родными, но и просто с находящимися на воле друзьями не регулировалась жестким образом, что позволяло Гинзбургу сообщать в письмах даже подробности допросов, которым он подвергался во время следствия. В дальнейшем, с принятием нового исправительно-трудового кодекса, свобода переписки будет существенно ограничена, что хорошо заметно по письмам времен второй и особенно третьей «отсидки», которые внимательно прочитывались лагерной цензурой и возвращались заключенным в случае, если в них обнаруживалась «нежелательная информация».
После перевода Гинзбурга в другой лагерь переписка с Минной Попенковой оборвалась, и о том, как Алик отбывал вторую половину срока, известно немного. Судя по ноябрьскому письму матери, он еще долго надеялся если не на пересмотр дела, то на условно-досрочное освобождение.
Александр Гинзбург – Минне Попенковой
13 апреля 1961
Вот я и могу написать тебе нормальное (более-менее) письмо. Я отдохнул и выспался, смотря фильм «Мичман Панин». В фильме этом восемь частей по десять минут и семь промежутков между ними по восемь минут. Фильм замечательный. Начинается он с того, что старый матрос снимает штаны, а кончается тем, что молодой мичман надевает матросские штаны. Середину я не запомнил. Ее было плохо видно. <…>
Ехали мы сюда трое суток и очень боялись попасть именно в этот лагерь. Перед отъездом нам не сказали, куда повезут, и трое суток мы только об этом и думали. Все считают, что с лагерем нам не повезло, но я этого пока не замечаю. Впрочем, завтра посмотрим. Лично меня здесь встретили очень хорошо. В бригаду попал лучшую. В жилую секцию – тоже. Пока у меня верхнее место на двухэтажных нарах, но я им вполне доволен. Завтра попытаюсь сообразить себе полочку для книг. Сегодня получил казенную одежду – телогрейку, костюм х/б, картуз, а вместе с одеждой кличку «гимназист». Правда, кличка прожила недолго – часа полтора. Уважение к «учености» моей победило. <…>
В библиотеке и столовой страшно холодно, и меня приучат есть, не снимая шапки. Как набожный еврей. <…>
Еще держусь, стараюсь не материться, но вокруг это настолько развито, что сказать «да» или «нет» без мата уже не могут. Это всё без тени злости или раздражения. Как раз ругаются весьма изобретательно, почти литературно. Я пробую записать такие вещи. При минимальной обработке – блестящие результаты. <…>
Видимо, мой друг Ушаков или его организация постарались засунуть меня в эту дыру. Я не думаю, что в этом виноваты просто грехи моих предков, и на дальняк я попал случайно. Ему ничего не стоит продержать меня здесь до календарного срока. И в то же время, даже если мне сбавят срок до года, мне придется просидеть его до звонка, ибо, пока я не отработаю месяца три, никто не представит меня к условно-досрочному освобождению.
19 апреля 1961
Писать сегодня буду о лагерной жизни. Это значит, как живут падлы заключенные. Мы, значит. Так вот. Живем мы по местному времени. У вас – шесть, у нас – семь. В это время в секции начинает что-то говорить радио. Весьма невнятно. Можно вставать, а можно и спать. Я обычно сплю еще с полчасика. За те полтора часа, которые остаются до «развода», нужно успеть помыться, одеться, позавтракать и посетить всех друзей, живущих в разных бараках. Некоторое время я мечусь по лагерю, как угорелый, в поисках освобожденных на сегодняшний день от работы, чтобы взять у кого-нибудь из них зимнюю шапку. Здесь зима в полном разгаре. Выше – 6о еще не поднималось ни разу. Метель навещает нас раза по четыре в день. А мне выдали только картуз-сталинку с матерчатым козырьком. Выпускают же из лагеря только в казенном. «Развод» выглядит так: в 8 часов по местному времени человек 400 собираются у лагерных ворот. Выкликают номер бригады, и мы парочками выходим за ворота. Здесь стоит все наше начальство и высматривает всякие непорядки – перчатки, рубашки, свитера, шарфы. После этой процедуры нас выкликают по фамилиям, безбожно их перевирая. На дороге нас собирается порядочная толпа, которую окружает конвой с автоматами, карабинами, пистолетами, собаками. И ведет нас этот конвой за километр от лагеря в рабочую зону. Здесь повторяется почти вся процедура под звон рынд на всех вышках вокруг рабочей зоны. Рабочая зона – это обыкновенная лесопилка. Сегодня я работаю четвертый день. В первый день работал в цеху, таская планочки (7х7х200 по 12 штук) от станка к станку. На второй – взял с собой книжку, рассчитывая почитать в перекурах и на обеденном перерыве, но вместо этого погнали бедного интеллигента на погрузку «погонажа». Тут уж пришлось потаскать пакеты досок 36х25х8000. Что осталось у меня от плеча, одному богу известно. И вот сегодня второй день я чищу снег. Уяснил для себя главное: родина ждет нас здоровыми и бодрыми. Так что надрываться не стоит. Работаю ударно, то есть иногда ударяю ломиком по куску плотного снега. А в перерывах между ударами пишу это письмо. Вот почему карандашом, вот почему так по-дурацки. Вечером повторится та же история, что была утром, только к ней нужно прибавить обыск (или по-нашему «шмон») перед воротами лагеря. Переобуться (ибо ботинки полны воды), наскоро поужинать, сунуться в библиотеку (в которой ничего нет), побалакать с друзьями и (volens-nolens) садиться писать «помиловки» и жалобы (конечно, не себе). С работы приходишь в 8 (по местному), отбой – в 11. Засыпаешь часа в два. Вот и вся наша жизнь. В дальнейшем думаю как-либо ее разнообразить. Но пока вот она, вся, как на ладони. С каждым днем я все меньше верю в освобождение «по половинке». Еще не пошли на этот суд представленные к нему в декабре. И работать к тому времени я буду только три месяца. А при здешнем начальстве этого явно недостаточно. Без вас всех мне очень тяжко. Я тут делаю хорошую мину, но игра мне явно не удалась. В лагере пока всё в порядке, но будет ли так до конца, неизвестно. Начальских наушников здесь гораздо больше, чем нужно. Нервы у меня на пределе, и я могу нечаянно начать разговаривать. А в деле у меня масса примечаний Ушакова. Ох, тяжко.
26 апреля 1961
Относительно этнографических особенностей Вятской губернии. Очевидно, сюда входят, в первую очередь, люди. Это те, в коллектив которых я влился. Осуждены 75% из них по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4.1.1949 «Об усилении уголовной ответственности за изнасилование». В этом лагере сидел Эдуард Стрельцов[3] – краса и гордость Вятлага. <…>
О природе. Здесь активно держится зима с морозами и метелями (а уже 26 апреля). Она продержится до 15 мая, говорят.
О флоре. Нас окружают разные деревья. (В том числе Заболоцкого[4], присланного Наташей [Горбаневской].) Травы и злаки я пока не видел. Овощей здесь тоже нет, кроме присланного матерью лука. Тоскую по картошке.
О фауне. Собаки – вроде нашего Дика. Глупы и беспечны. Зато собачники злы и сварливы. Весь наш конвой стоит держать на цепи. <…>
Я уже написал матери, что приезжать в наш край бесполезно и даже небезвредно. <…>
Я несколько дней безуспешно стараюсь не ругаться матом. В мате я достиг уже некоторого артистизма, и поэтому отучаться нелегко.
Я тоже пою. Знаешь, что? «В нашу гавань заходили корабли». Не потому, что здесь ее еще кто-нибудь поет, а по совершенно непонятным причинам. Перепробовал почти все работы и ни с одной не справился. Левая рука и правая нога начинают потихоньку болеть, и те работы, с которыми я справился бы в первый день, сейчас мне уже не по плечу. Я пыжусь, тужусь, ибо мне для освобождения нужны проценты, но, видно, я к труду не приспособлен. Продолжая мысль Иващенко, останусь обезьяной[5].
Меня радует весточка о Борисе Леонидовиче[6]. Если бы вы могли радовать меня такими общественно-полезными вещами почаще. Но, как пишет мне А. Иванов, всеми людьми, которые меня окружали, овладели спорт, спирт и секс.
В конце, конечно, просьба. Передай моим парням, чтобы они разыскали и прислали мне 2–3 номера «Америки»[7]. Это можно и не повредит.
1-2 мая 1961
Я жив и здоров. У меня всё по-прежнему. Морально и материально хорошо, остальное как в лагере. Праздную 1-е мая. Пью отличный кофе (пачка на кружку воды). Это меня поит человек, который хорошо знает Васю Ситникова. <…>
P.S. Вышел на улицу, а снег валом валит, как в январе.
P.S. Утро. 2 мая. Сугробы выше пояса.
5 мая 1961
У нас первый солнечный день. И снег начинает таять (уже 5 мая). Работать не хочется. Впрочем, мне всегда не хочется работать. А сегодня это всеобщее настроение. На работу шли в два раза медленнее, чем всегда. Я важно вышагивал во втором ряду. А в первом – краса и гордость Вятлага – пять таких харь, каких нет и во французском кино. <…>
Есть у нас еврей по фамилии Фарбер, который третий раз сидит за совращение малолетних, так он сущая энциклопедия. А я совсем наоборот. И читать мне почти не дают. У Фарбера есть несколько достоинств. Ему присылают их по почте. Это колбаса, масло, кофе. Но он болтлив до крайности и настроен совсем иначе, чем мы. Колбасу я ем, а в споры не вступаю. Статью Иващенко он читал. Говорит, что народу мы не нужны. <…>
Забыл. У нас произошло событие огромной важности. Кончилась курятина. Говорили, что наш ЧИС (начальник снабжения) выиграл у ЧИСа соседнего лагеря вагон курятины, а проиграл вагон гороха и еще что-то впридачу. И вот курятина кончилась. Нам грозят консервами, но суп пока на моркови.
«За рекой в тени деревьев» у меня есть. Мне ее прислала еще на Пресню Наташа Горбаневская. Она меня радует довольно часто. То книгами, то очень хорошими стихами («Деревья» Заболоцкого и ее собственные последние). Пу Сун Лина я читал еще на воле. <…>
Стихи, которые ты прислала, вероятно, написаны Валей [Хромовым]. Ну, может быть, я ничего и не понимаю. На всякий случай в следующий раз давай какие-то координаты автора.
Вот вопросы, ответ на которые я хотел бы получить.
1. Был ли в Москве Красильников[8]? Его фотографии я видел в ноябре 1960 года. Тогда же мне сказали, что в июле он уже был в Ленинграде.
2. Что слышно о Лёне Ч.[9]?
3. Видела ли ты Германа Петропавловского? Что и как? Впрочем, этот вопрос я, кажется, уже задавал. <…>
P.S. Приезжали ли ленинградцы[10]? Что, кто и как? Как пьесы и детские книжки?
[8 мая 1961, датируется по содержанию]
<…> Старому дурню вот-вот стукнет четверть века. А он в лагере. И нет ему пути другого… Я чувствую, что это не последний мой лагерь. И майор Ушаков, так трогательно передававший мне твой привет, останется по-прежнему моим другом. <…>
Простая развилка. Серый камень: «Пойдешь налево – решетка, пойдешь направо – решетка. Пойдешь прямо – коммунизм». А я уверен, что коммунизм – это всегда налево. Эйнштейновская кривая идет, кажется, слева направо[11]. Я не люблю Эйнштейна. Володя Яковлев, любовь моя, называл его Эйзенштейном. <…>
День мой начался тем, что в течение двух часов я ставил заплаты на разные части моих туалетов. Туалеты мои известны, а части неудобоперечисляемы. Джинсы – сплошная заплата. Заплаты кроились из старых чьих-то штанов, а ставились и на штапельную рубашку, и на майку, и даже на носки. <…>
Зато у нас началась весна. И снег уже сошел. Вы, москвичи, не можете этого понять. В Москве зимой не бывает первомайского кайского снега. Сегодня вынесли из бараков на улицу умывальники. Но к ним еще нужно топать по грязи. Высохло почти лишь футбольное поле. И гоняют мяч бригада на бригаду по пачке «Беломора» с каждого проигравшего. <…>
Я делал совсем пустяковое дело. И даже если бы не я был инициатором, организатором и распространителем пачки листочков, я бы делал это дело. <…>
Найди в весенне-летней прошлогодней прессе (смотри до ноября) что-нибудь о «чудотворце из Бирюлёва». С этим окаянным сектантом я встретился в сумасшедшем доме. Иван Федотов – совершенно могучий парень. Я бы даже жалел, что не верю в бога, если бы не поверил в серое вещество. Но как живет этот мужик! Он делает свое дело без секунды передышки! Это, черт возьми, жизнь! (Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen); далее – Universität Bremen)
Александр Гинзбург – Юрию Галанскову
9 мая 1961
Юра, привет! <…>
Моего следователя (ст. след. по особо важным делам) майора Ушакова звали Алексеем Ивановичем. <…>
На первом же допросе у него, 14 июля, накал наших словопрений достиг высочайшей температуры. Я предупредил, что по той причине, что являюсь я не свидетелем, а обвиняемым, свидетельских показаний давать не буду. Правда, знаменитая эпопея «На этот вопрос отвечать отказываюсь» началась несколькими днями позже. А в этот день в конце допроса взбешенный майор вытащил «Скальпель»[12] и пытался добиться ответа на вопрос, кто же автор сего гнусного документа. А я имел неосторожность спросить: «А что, если я?» Так я нечаянно стал автором. Единственным. На чем и держался до конца.
Когда был у вас этот обыск[13]? В конце ноября? Насколько я помню по дате на изъятом при обыске «Скальпеле», это был день, когда комиссия в сумасшедшем доме признала меня вменяемым. <…>
Холины и Сабгиры – не сволочи. Они просто постарше нас. И им меньше хочется за решетку. <…>
Маяковка – это отлично[14].
Нет ли фотографий с последних работ разных художников?
А эти сволочи (Х и С) стихи пишут? Вот это как раз меня и интересует. <…>
Литературно-общественные вопросы меня волнуют все, без исключения. (Universität Bremen)
Александр Гинзбург – Минне Попенковой
9 мая 1961
Я сегодня работаю на подвозке досок. Это то, с чего я начал свою трудовую деятельность в лагере. Потом мне захотелось труда полегче, и я влез в упаковку планки. А сейчас на дворе солнышко, в цеху не сидится, вот я и вожу на вагонетке длинные доски. Нагружаю, сгружаю. А пока путь забит другими вагонетками, пишу письмо. <…>
Сейчас столяры делают мне большой ящик для книг, журналов, посылок.
Сегодня впервые вышел на работу не в зимней шапке, а в «сталинке». Картуз этот идет мне удивительно. Когда освобожусь, первые визиты нанесу во всем казенном.
Хорошая у меня сегодня работа. Доски грузятся так, что одна сторона перевешивает, чтобы удобнее было разворачиваться. А на прямой я сижу сверху на коротком конце для равновесия. И меня везут по всей бирже. До обеда осталось десять минут. Перевезено три вагонетки. А всего нужно за день перевезти десять. Ничего, справимся.
Стою в столовой в очереди за миской. Обычно мне везет, кто-нибудь сразу отдает мне свою. А сейчас мы пришли рано, знакомых совсем нет. Минут десять придется ждать. На вопрос: «Даешь миску?» отвечают: «Забито». А с ложкой я не расстаюсь никогда. (Universität Bremen)
Александр Гинзбург – Юрию Галанскову
11 мая 1961
Юра! <…>
Что тебе рассказать? Хочешь, про мою встречу с Иващенко[15]?
Прихожу на очередной допрос. Сидит, сверкает очками с золоченой дужкой.
Говорит:
– Здравствуйте.
Отвечаю:
– Спасибо, и вам того же.
Допрос начинается. Ушаков предоставляет ему слово. Он говорит:
– А теперь мне хочется поговорить с вами о литературе.
Отвечаю:
– А вам не кажется, что мы с вами выбрали для этого не совсем удачное место?
Разговор окончен.
Откуда взялись остальные тексты, которые я якобы произносил, я не знаю. Очевидно, из показаний свидетелей. (Universität Bremen)
Александр Гинзбург – Минне Попенковой
11 мая 1961
Вчера была суббота. Нужно было работать до пяти часов. А выходных до мая почти не было. И вдруг без десяти пять раздался трубный глас бригадира: «Кто хочет не работать в понедельник, пусть останется и погрузит вагон». Нужно было пять человек. Мое отношение (то бишь, отношение моих плеч) к погрузке ты знаешь. Но я бросился к нему так, что от меня шарахнулись. И я возглавил этот список. За три часа мы впятером погрузили «плюс» (самый большой вагон) досками, которые почему-то называются «погонаж», и двухсполовиной-метровыми пачками планок для обшивки потолка. И в половине девятого мы пришли в зону. Не умываясь, не заходя в бараки, кинулись в столовую. И тут впервые гигантский аппетит совпал с возможностью его утолить. Нам дали полбачка супа и полбачка каши (это еда человек на двадцать) на пятерых. И всё масло, которое осталось от общего ужина. И гору селедки. Мы добрый час жрали и сожрали всё. <…>
Туго сейчас в одном отношении. С нашим этапом пришли четыре еврея, в том числе и ваш покорный. Один устроился завхозом, другой в сушилку, остальные (мы с Фарбером) в 26 бригаду. Но Фарбер из двадцати дней апреля десять был «на кресте», то есть освобождался санчастью. Начинаются разговоры о жидах и жидовских мордах. Особенно усердствует бугор. Я-то от этого легко избавился. Когда он меня этак препотешно окликнул с расстояния метров в десять «жидовской мордой», у меня в руках оказалась метровая планка. Я, не задумываясь, швырнул ее в него, попал по спине, но она как будто в горле у него застряла. Разговорчики обо мне прекратились, но при мне все же продолжаются. В общем, «ношу с собой, как заразу, проклятую эту расу»[16]. Чертовы жиды, особенно два первых идиота-торгаша, вызывают всеобщую злость. А ведь здоровейшие мужики, рожа в кормушку не лезет. <…>
Сейчас я пойду писать помиловку еще одному парню. Это значит, буду пить чай, есть конфеты, баранки, курить тот же «Беломор».
Вложите в какую-нибудь бандероль пару пачек «Djebel». Здесь есть «Witosha»[17], но это несъедобно. Много не надо – только пару пачек. <…>
Не помню у кого, но у кого-то я просил однотомник Есенина. В лагере нет Есенина. Это считается для лагеря позором. За неимением такового читают Вознесенского и Рождественского. Нравится.
И очень нравятся Наташины стихи «Седыми, боюсь, родятся дети у нас…» <…>
Числа десятого у меня все же будет первая получка. Не знаю, что с ней делать. В ларьке только курево, баранки и странного вида кировского производства конфеты. Даже конвертов нет. <…>
Письмо еще не кончилось. Только сменилась авторучка.
Выходной (первый) провел очень плодотворно. После обеда (пшенная каша) завалился спать и проспал до ужина. А после ужина пошел в гости к местному поэту, которого зовут Антон. Стихи у него замечательные. Вполне безграмотные. И вполне идейные. Я попробую направить его на путь холинизма. Это может получиться. <…>
P.S. Напишите подробно, в чем сущность дела Ольги Всеволодовны Ивинской и Иры Емельяновой[18]. Обязательно. (Universität Bremen)
Александр Гинзбург – Юрию Галанскову
15 мая 1961
Юра! <…>
Говорят, ты делаешь что-то очень хорошее, полезное, приятное. Я несказанно рад этому. Это не было для меня неожиданным. В последних беседах со мной Ушаков много говорил о тебе, о «Камине»[19], о твоем упрямстве. Как и чем окончились твои встречи с этим долговязым майором? Мной он остался явно недоволен. Ведь почти на все вопросы я отвечал: «На этот вопрос отвечать отказываюсь». Правда, ему удалось перехитрить меня и в уголовное дело всунуть все, что было там совершенно ни к чему. До сих пор помню его коронный вопрос (сохраняя его орфографию): «Вы клевещите на советскую власть и демогагически заявляете, что ей не повредит. Почему?» <…>
Пришли мне своих и чужих стихов, в том числе стихи, так полюбившиеся Иващенко, что он их процитировал. <…>
Я сам начал в одиночке искусствоведческую работу, но здесь у меня совершенно нет ни сил, ни времени ее продолжать. Жаль будет, если она заглохнет. (Universität Bremen)
Александр Гинзбург – Минне Попенковой
15 мая 1961
Перед этим написал Рустему и матери. Эти письма вложены в этот же конверт. В целях экономии (ибо 8 конвертов из 20 я был должен, а остальные уже на исходе), а также потому, что на Рустема не надеюсь. Юдин мне все же написал. <…>
Вчера, когда мы пришли с работы, нас обрадовали: сегодня кино и баня (наконец-то, а то десять дней совсем не было воды, не работала водокачка). <…>
Ахматова-то милая старушка и без ее книжки я могу еще обойтись. А вот Борис Леонидович – дело совсем другое. Незвала тоже не присылай. Мне сейчас приходится учитывать вес моей библиотеки.
Хочется парочку последних Ремарков («Жизнь взаймы» и еще что-нибудь).
Горбовского шли сразу. <…>
И, хочешь, огорчу. Я сижу не последний раз. Это из обещаний майора Ушакова. И из последующих моих выводов. Всё нужно делать совсем не так, как делалось это нами.
Эти тексты совсем не для мамы. А знаешь ли ты Указ от 5 мая 1961 г.? Не о тунеядцах, а второй[20]. К сроку тюремного заключения по статье, которую я как-то до сих пор считаю своей, будут добавляться от 2 до 5 лет ссылки.
17 мая 1961
Вот уже и ночь. А мне нужно написать еще одиннадцать писем, ибо я поставил себе за правило отвечать сейчас же по получении. Вчера получил рекордное количество писем – восемь. Тут и Светлана, и Севка Мрякин, и Губерман, и даже Рустем. <…>
В бандероли оказались польские журналы и книжка Кожинова[21], которую я читал еще в рукописи, но с удовольствием прочитаю еще раз, ибо к человеку этому отношусь с любовью. В ней есть интересные вещи, очень в свое время мне помогавшие. Иронического отношения к ней я не принимаю. Не сержусь. <…>
Майор Ушаков I передал мне твой привет лишь один раз – 21 декабря (в день рождения вождя и учителя). На следующий день я уже подписывал двести шестую (об окончании следствия). <…>
Ты пишешь, что вопросов нет. А они есть. Всё те же. В частности, меня интересуют подробности ваших бесед на следствии (я их до сих пор не знаю) и Юрины дела. <…>
Всех, кто мне пишет, в той или иной мере интересует вопрос, изменился ли я. И да, и нет. Просто я понял свое назначение (совсем не великое) и буду делать свое дело (пусть маленькое и техническое, но свое). <…> А в деле – счастье, вся жизнь. Как жаль, что я сейчас тоже лишен вдохновения, да впридачу и устал, как лошадь. Я бы мог рассказать тебе о нем. <…> Справлюсь ли я с этим делом? Это самый больной вопрос. Но ведь и слабенький «Синтаксис» что-то сделал, заставил людей поработать, помечтать, пожить. А мое главное – куда больше и шире. Нужна будет большая вера в него, в его правоту и полезность. <…>
Работа, начатая в одиночке, застряла. Материалов о средневековом искусстве у меня нет, а воспоминания слабы и не греют. Но это дело, которое может еще подождать несколько месяцев.
Встреча великого писателя с великим адвокатом[22] не вселяет в меня надежды. Но ее подробности могут быть интересны, как анекдот на будущее.
[Штемпель получения 20 мая 1961]
Сегодня так хотелось проехаться по начальнику режима! Понимаешь, сделали мне хороший ящик под нары, большой, удобный. При желании, в нем можно было прятать отказчиков от работы. А режим проклятый не пропустил его в зону. Сегодня я все утро ходил за ним и уговаривал. Но телеграфный столб уговорить гораздо легче. Пришлось беседовать с начальником отряда, чтобы натравить его на режима. А я вида погон почти не переношу. Но ящик какой! <…>
Можешь быть уверена, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы скорее вернуться. А потом – все, что в моих силах, чтобы вернуться в лагерь. Правда, теперь добавляют ссылку, но уж чорт с ней. <…>
Завтра я остаюсь в зоне. Как ты думаешь, зачем? Что делал О. Бендер во время автопробега? И я завтра буду писать плакат. Что-то о тунеядцах. Никогда в жизни я этого не делал. Но здесь я берусь за всё. Ничего, научимся.
Вчера произошло серьезное событие. Приезжал к нам начальник Вятлага. Такое бывает раз в три-четыре месяца. И беседа, которую он провел с заключенными, ничего приятного нам не обещала. Во-первых, он рассказал о новом исправительно-трудовом кодексе. Режим в лагерях собираются, по его выражению, «ужесточить». Во-вторых, заявил, что условно-досрочное освобождение ныне является не правом заключенного, а поощрением лагерной администрации для особо отличающихся.
[21 мая 1961, датируется по содержанию]
Начинается старая история – письма на обрывках бумаги. Сейчас решаю задачу: как написать пять писем на трех листочках? Справлюсь ли? Конверты я стреляю по всему лагерю, и с каждым днем это становится все труднее, ибо в ларьке тоже кончились конверты, а марок и не было. <…>
Сейчас меня поставили на вязку планки. Это не так тяжело, но пока я еще не привык. Руки я исцарапал проволокой, поясница болит, ибо всю смену я работаю, согнувшись. <…>
Люди живут здесь, привыкают и считают это совершенно нормальным. Правда, воля для них – сказка, и я невольно разбиваю эти их грезы. Так что все относительно хорошо. Только вас всех нет. А приезжать ко мне не нужно. Я стараюсь выскочить по половинке, а до этого времени всего два с половиной месяца. Ваша задача – удержать мать от приезда в наш Кай. Это абсолютно бесполезно. Я постараюсь писать вам чаще (раз в два дня).
У меня к тебе несколько вопросов, на которые мне нужны подробные ответы:
1. Стихи последние – Стася [Красовицкого], или я совсем отупел?
2. Видела ли ты Германа Петропавловского? Что, как и почему он так не понравился матери?
3. Как дела с обменом жилплощади (у нас дома)?
4. Какие непорядки могут без меня начаться? <…>
P.S. Я подружился с конвойной собакой. Она подошла и лизнула меня в грязную руку. Я ее погладил. У колонны заключенных были квадратные глаза. А барбос этот удивительно похож на Васю. (Universität Bremen)
Наталья Доброхотова: В МГУ одно время было поветрие, когда человек прямо на комсомольском собрании вставал и через всю аудиторию кидал комсомольский билет: мол, не могу больше состоять в этой организации!
Году в 1957–58 Герман Петропавловский – он даже внешне был на народовольца похож: недотёпа такой – тоже так поступил. Ну, его, конечно, исключили – и из комсомола, и из университета. Но с ним сохранила отношения наша подруга, они учились в одной группе. Он и к нам заходил, толкал идеи, которые тогда были очень распространены: надо вернуться к ленинским истокам, к подлинному коммунизму, для чего делать новую революцию. Где-то возле «Сокола» у него была настоящая конспиративная квартира – стол, стулья да лампочка под потолком с газетой вместо абажура, больше ничего. Ну, 1905-й год, да и только! Они там собирались, планировали теракт. Не в шутку, на самом деле: по жребию решали, кто пойдет убивать милиционера. Их, конечно, взяли, Герман отсидел какое-то время и вышел. И стал приходить к Гинзбургу. То есть Алик-то уже сидел, а Людмила Ильинична Германа поначалу принимала, как и многих. Но он мог, например, попросить: «Людмила Ильинична, я у Вас вчера не был, а мне для дневника нужно записать, кто к Вам вчера приходил». То ли подвинулся умом в тюрьме, то ли его завербовали и дали задание ходить к Гинзбургу, а потом докладывать, и он решил таким способом показать это. Естественно, его тут же из дома выгнали. (Интервью составителю. Июль 2016)
Александр Гинзбург – Юрию Галанскову
[21 мая 1961, датируется по содержанию]
Юра! <…>
Первое. Весна – плохое время для нашей работы. Тем более, что работа ограничена рамками искусства. А для учебы (при всех весенних трудностях) это время – как нельзя лучше. Пойми и сдай сессию.
Второе. Газета «Советская Россия» за 19 мая. Письмо из Саратовского университета «Шестидесятники рвутся на Парнас»[23]. Всё же рвутся, а не карабкаются. Нужно отбросить столичное чистоплюйство и связаться с этими людьми. О результатах доложить. (Universität Bremen)
Александр Гинзбург – Минне Попенковой
[Штемпель получения 28 мая 1961]
Вот послушай:
«Раздельщики! Рационально разделывайте хлысты, чтобы увеличить выход делового сортамента!»
«Знай и помни всегда – в твоих руках твоя судьба».
«Лучшей школой воспитания, самым строгим учителем является жизнь, наша советская действительность» (Н.С. Хрущёв)
«Бригада передового труда
С превышением план выполняет всегда.
Кто в бригаде нашей состоит,
У того легко учеба спорится.
За здоровый, чистый, честный труд
Против всяких зол бригада борется».
«Не следи за гудками, а следи за станками».
«Слову вера, делу мера, а проценты любят счет».
«Матерное слово есть неприкрашенная, мелкая, бедная, дешевая гадость, признак самой дикой, самой первобытной культуры. Позор грубиянам и сквернословам!»
«Если один лес рубит, а семеро в кулаки трубят, то добра никогда не будет».
«Взятых темпов не снижай, лес стране заготовляй, я тебя опережаю – ты меня опережай». <…>
Такие плакаты висят у нас в зоне. Я записал первые попавшиеся. Тебе для развлечения. Или для перевоспитания. Нас они не трогают. Используются для приготовления чифиря, ибо сделаны из тонких досок. Отличное топливо. <…>
Я опять в зоне. Вчера был эстрадный концерт Кировской филармонии, а сегодня я пишу об этом в многотиражку Вятлага. Приспособился.
27 мая 1961
Сегодня я наконец-то выхожу в ночь. Поэтому днем сижу в зоне. Все последние дни чувствовал себя неважно. Чисто физически. То ли отравился чем-то, то ли устал. А в санчасть никак выбраться не мог. Там все время много народу, а я слишком ленив. Последние два дня работал кариатидой. Подпирал спиной столбы, которые сверху забивались здоровой деревянной бабой. Строили новый цех. С этой ночи начну работать на пилораме. Работа немного тяжелее, но это вполне компенсируется тем, что в бригаде отличные парни. И бугор не лается.
[Штемпель получения 31 мая 1961]
Мы поздно выросли. Наше поколение как-то отстало в развитии. В двадцать пять уже пора делать одно дело, а не искать по закоулкам. Меня утешает лишь одно: «Хуренито» был написан в тридцатилетнем возрасте. Постараемся же расти быстрее. <…>
Меня допрашивали только Ушаков, Сыщиков (тоже ст. следователь по особо важным), полковник Панкратов, генерал-майор юстиции Чистяков и зампред Комитета Тикунов. Несколько раз присутствовал зам. генер. прокурора Мишутин, и почти все время – «мой» Прошляков. Мечтали о «крупном деле». А мне порой было тоскливо, что дело не крупное. Даже как-то неудобно за «Синтаксис». Но я ничего такого не говорил и вообще помалкивал в тряпочку. Майор мой отличался превеликим остроумием. Его методы ведения следствия до сих пор вышибают у меня слезу. Когда меня привезли из института Сербского, то на первом же допросе на полочке столика, за которым я сидел, я увидел газету. До этого газет мне не давали. В институте мы доставали их тайком у уголовников из другого отделения. Да и здесь, в кабинете Ушакова, газета осталась случайно. У нее даже была оторвана часть страницы, чтобы лучше было видно, что несколько американских шпионов раскаялись и были советской властью прощены[24]. Прочитав заголовок, я отдал газету майору, а на вопросы о «Скальпеле» отвечать не стал. <…>
На этом месте я заснул. Продолжаю утром. Только что получил замечательный привет из столицы. В детской передаче стихи Холина о Лентяе Лентяевиче. Стихи, предельно подходящие к ситуации. «Вставай, лентяй, руби дрова». Дальше идет поучительная история о том, что симулянт Лентяй жалуется на то, что болит живот, а когда приходит время обеда, хватает самую большую ложку и самую большую миску и бежит обедать.
<…>
Только что принесли в санчасть из рабочей зоны одного парня из нашей секции. Чуть теплого. На распиловочном станке вырвался «балан» (двухметровое бревно) и угодил ему прямо в голову. Череп раскололся. Парень еще жив, но без сознания. Потерял массу крови. Мы все звали его Пончиком – такой здоровый, румяный парень. В зоне страшный шум. Говорят, что в рабочей зоне будет еще больше, потому что парень истекал кровью, а машину ждали больше часа. Меня это тоже выбило из привычного состояния. Писать пока бросаю. За меня в этом плане можно не беспокоиться, к сумасшедшим станкам я и близко не подхожу. …прости, больше сегодня писать не могу. Прошло часа четыре, и я распсиховался до предела. Курю непрерывно. А еще нужно написать что-нибудь бодрое матери. Руки дрожат. <…> Пончик в сознание не приходит. Голову бы оторвать сволочам.
<…>
Пончик умер. Через два часа после того, как я опустил в ящик предыдущее письмо.
А еще у нас начались пожары. Пока горит только лес. Но говорят, что и нас будут использовать для тушения пожаров. В качестве огнетушителей. (Universität Bremen)
Александр Гинзбург – Игорю Холину
[Без даты]
Добрый день, Игорь!
Еще не было Вашего письма, а уже был привет по радио: «Вставай, лентяй, руби дрова». Встал я и пошел… обедать. Ибо работаю в ночной смене, дрова не рублю, а пилю. В остальном – идеальное попадание в цель. С большой ложкой почти не расстаюсь. Вот о миске – другой разговор. Свои миски лишь у педерастов.
Всякое такое добро и у нас есть. Вообще, лагерь фраерский с преобладанием «шерстяников»[25] (Указ от 4.1.49 «Об усилении уголовной ответственности за изнасилование»). У шерстяников самые большие сроки и вся власть в лагере. Московский этап, с которым я сюда прибыл, отличается от всего здешнего контингента. Нам пока трудно, но мы боремся тоже за место под солнцем. Перевоспитать меня этот лагерь не в силах. Но интересного много. Пишу разные жалобы и помиловки (не себе, конечно). Узнаю всякие «примочки» и «замазки». Думаю, что в жизни это не пригодится. Но забавно.
О занятиях литературой. Стихов я не пишу с начала 1959 года. Прозу буду опять писать на свободе. А сейчас взялся опять за ум и вот уже неделю продолжаю искусствоведческую работу, начатую еще в одиночке.
Получил я книгу Кожинова «Виды искусств». Как живет наш общий друг? Мне не хочется писать ему лишь потому, что при подписании акта о задержании изъятых у меня материалов следствия прочитал в нем фразу: «Три экземпляра нелегального журнала «Синтаксис», переданные Кожиновым». А в чем здесь дело, я не знаю до сих пор.
Игорь, может быть, Вы совершите еще один подвиг и напишете мне об этом? Еще меня интересует выставка Льва [Кропивницкого], организованная ребятами, и выставка Вейсберга в МОСХе[26].
А больше всего меня интересуют стихи для взрослых. Письма ко мне не проверяются.
Я стараюсь поскорее попасть в Москву, но сие зависит не от меня. А нетерпение растет.
Напишите мне что-нибудь о Москве. И стихи.
Привет всем. Саша. (Universität Bremen)
Александр Гинзбург – Минне Попенковой
2 июня 1961
В предыдущую ночь загадал, освобожусь ли по половинке. Накануне накидал огромную кучу опилок – горы Кавказские. Днем их должны были убрать. Так же непременно, как я подхожу к условно-досрочному. Уберут – освобожусь, нет – не освобожусь. К моей смене гора выросла еще так, как будто мне сидеть еще, по меньшей мере, лет десять. Откинув приметы, все кончилось замечательно. Бугор сказал: «Ах так! Накидаем же им пик Сталина». При всем желании это было не в моих силах. И на опилки встал Толик Стропило. Меня оставили без работы. Этого я выдержать не мог и всю смену проработал подрамщиком. А Фиксы спали по очереди. Мне это было нетрудно. Ведь у нас уже был кофе. Не нужно беспокоиться за мое сердце. Крепкого кофе мы пьем очень мало. Пятидесяти грамм хватает на пять человек. <…>
С половинкой, по общему мнению, дело сложное. Меня могут позвать и предложить такое, на что я не соглашусь ни за какие блага. Здесь это выразительно называется «лОжить». А характер у меня идиотский, я могу сказать что-нибудь резкое. Впрочем, я, кажется, научился сдерживаться. <…>
Наташа прислала все свои стихи. Ее декабрьские просто замечательны. <…> Это поэтесса, которая может позволить себе любую вольность. И не позволяет. Она просто молодец. Но пишет мало. <…>
Меня жрут комары. Их уже тучи несметные, а будет еще больше. По местным преданиям. А позаботиться о мази от комаров я просил Рустема. Круглый идиот! <…>
[Штемпель получения 11 июня 1961]
День сегодня был холоднющий. Все предсказывали снег, но этого не случилось. <…>
Все уже спят, а я все еще в полном арестантском обмундировании лежу под одеялом, под пальто и под телогрейкой. И на голове у меня картуз. Я постараюсь приехать в нем в Москву. Пытаюсь представить себе цвет Москвы, а в глазах только серый асфальт. И нет пыли. Сегодня холодный ветер гнал по лагерю столбы коричневой пыли. А на вышке около столовой караульный пел во всю глотку: «Сердце мое, не стучи. Бедное сердце, молчи».
8 июня 1961
У нас четвертый день жарит солнце. Вчера, в воскресенье, я работал днем. Часа два, не больше, я побыл на солнышке и сгорел. Кожа еще не слезает, но спина болит.
Вчера же получил рекламу чешского пива. Для людей, лишенных всех достижений атомного века, такие картинки – суровое испытание. <…>
Со мной рядом поселился Фарбер. Всё бы ничего, но он эрудит. И любит задавать вопросы, как в викторине. Например: «Кто в русской литературе первый использовал слово «коммандос»?» Оказывается, Лев Кассиль в «Дорогих моих мальчишках». Невежда (я) посрамлен.
У нас начинаются белые ночи. Они еще не совсем белые, но уже светлые и еще побелеют.
Утром очень тяжело идти с работы. Солнце превратило грязь в пыль. Трудно сказать, что хуже. К грязи мы уже успели привыкнуть.
17 июня 1961
Кто мне пишет? Пожалуйста, полный отчет. Беру подшивку писем и начинаю перечислять. Людмила Ильинична Гинзбург – 7 писем, общим объемом в 150 слов. Р.Э. Капиев – 4 письма, из них два на Пресню. Герман – 6 писем, из них последнее – очень давно. Галка Кравцова – 9 писем и несколько бандеролей. Наташа Горбаневская – 5 писем и вдвое больше бандеролей. Рабин – 2 письма, Гриша Померанц – 2 письма. И по одному письму от Юры, Галочки Галансковой, Галочки Старостиной, Юдина, Губермана, Маши Кладницкой, Светланы Штутиной, Холина, Сабгира, Шварца, Севки Некрасова, Севки Мрякина, Толи Иванова, Риты, Кирсанова и нескольких людей, которых ты совсем не знаешь. <…>
В газете «Известия» за 7 июня новый клеветон с участием Холина и Кропивницкого[27]. Мужики не успокаиваются. Пресса не дремлет. Всё это очень хорошо. «Ленинградскую правду» я бы прочитал с удовольствием.
Пожары? Каждый день на горизонте четыре-пять дымов. Соседние лагеря горят потихоньку, а наш стоит, как несокрушимая твердыня.
26 июня 1961
Ходили вчера по зоне разные чины администрации. Объясняли, что всякие «половинки» фактически отменены, то бишь переданы в руки лагерной администрации для поощрения особо отличающихся, в рядах которых я быть не могу. Мое настроение после этого можешь себе представить.
28 июня 1961
В воскресенье, когда была предыдущая почта, чтобы не пропустить почты, я даже не пошел в кино, хотя шла моя любимая китайская картина, забыл название. <…>
И выручил меня конвой – мазью от комаров. Это не «Тайга», а какая-то прозрачная густая жидкость. Действует она отлично. Нет, ребята, я не гордый, я согласен на «Тайгу». Но ее нет. <…>
А я на минутку представляю себе приезд в Москву Александра Ильича, приезд, до которого, еще, быть может, год, а даст бог – меньше. Мне хочется приехать очень тихо и первые три дня никого кроме тебя не видеть. Я хочу посидеть в красном кресле, от которого к тому времени уже отвалится подлокотник. И к концу третьего дня пойти «в гости» в какую-нибудь наглухоту прокуренную комнату, где люди даже не очень и здороваются друг с другом, а из-за дыма могут за целый вечер кого-то не заметить.
[Штемпель получения 2 июля 1961]
Я, наверное, не смогу забыть свою бригаду и на воле. Такую редко можно встретить, и многим парням стоит и нужно помочь. Но это уж мое дело, будущее. <…>
Мать мне все еще не пишет. Видимо, Косачевский[28] мрачно настроен, а она не хочет мне это писать. Старушенция не понимает, что такие подозрения еще тяжелее.
Юрке передай, что мне нужны всякие стихи. С ними не так чувствуешь себя отрезанным ломтем.
[Штемпель получения 8 июля 1961]
А работали сегодня лишь до пяти утра (у нас суббота). Я-то сам работал лишь до двух, до момента. Потом сидели, трепались. А как в зону пришел, залез с трудом на нары – и как убитый. Продрал глаза лишь в семь часов. Сходил в столовую, съел несколько кусков икры селедочной и миску супа – пшено, картошка, мясные консервы. Наш бывший бугор стал теперь поваром и кормит нас вполне прилично. Во всяком случае, кусок мяса в моей миске был. <…>
А еще я должен точно знать, как дела у матери с работой. Только этой нервотрёпки ей не хватало.
Не пойму никак, на что надеется адвокат. Что может ему дать встреча с Прошляковым. Визит к великому писателю должен доставить ему удовольствие. Пусть и Юра [Галансков] сходит к Эренбургу. Ему этого хочется, а мне не помешает.
3 июля 1961
Интересует меня, на чем основана уверенность адвоката, что пора подыскивать мне работу в Москве. Здесь у всех настроение мрачное, на условно-досрочное не надеются.
7 июля 1961
Сегодня по радио мы узнали о смерти Старика[29]. И мне вовсе не хотелось никому о нем рассказывать. Когда умер Борис Леонидович, мы все больше молчали. <…>
Была у меня еще одна беседа с курсантом. Такая же пустая, как предыдущая. Но он был более подготовлен, так как поговорил с начальником спецчасти. К условно-досрочному освобождению пока в этом лагере не представляют, так как, по мнению нач<альника> спецчасти, достойных этого еще мало. Вот когда их будет побольше, тогда… Суды будут. Едут. Пока они на севере Вятлага, через месячишко и до нас доберутся. <…>
И сегодня же пришел этапом из Москвы бывший зав<едующий> какого-то отдела «Литература и жизнь» Тихонов. Три года за попытку изнасилования, сел в мае этого года. Два месяца назад. Я его покормил, напоил кофе, устроил спать, но поговорить не успел. Так что подробностей не знаю. Было бы хорошо, если бы Юра узнал что-либо о нем в Москве. Это можно сделать через Чудакова (Г9-28-46) или через Вадима Кожинова (В1-97-25). Подозрителен этап из Москвы, состоящий из одного человека. Узнайте о нем обязательно.
Диметилфталат я сегодня получил и сейчас сижу помазанный. Это как раз то самое средство, которым нас несколько раз выручал конвой. Поэтому и пропустили легко, и употреблять его мы уже умеем. <…>
Сегодня утром кончил устраивать Тихонова. Зовут его Славой (Ярослав). Заведовал он информацией, тем самым отделом, где работает Сашка Авдеенко. Так что полуофициальной информацией двухмесячной давности я обеспечен.
Ну вот и макароны сварились. Пойду вывалю в них банку паштета. Больше ничего не осталось. Остальное мы навалили на Фарбера. Ему на новое место еще долго не будут приходить посылки. И получку он не успел получить.
[Июль 1961]
Получил только два письма, одно от тебя (ночь с 30 на 1), другое посылаю в этом конверте. От сектантов-пятидесятников. Если помнишь, я писал, что был в институте Сербского вместе с Иваном Федотовым – «чудотворцем из Бирюлёва». Написал я ему на адрес матери, ответ получил пока лишь от его «братьев». Ответ, на мой взгляд, замечательный. <…>
Тихонова устроили отлично. Старшиной отряда. Теперь в трех отрядах из четырех свои старшины. Постепенно всё образуется. Можно будет и перезимовать не тяжко. <…>
Весь день опять протрепался. С Тихоновым. Узнал массу любопытнейших московских сплетен. Сегодня, в частности, он рассказывал и о том, какой отклик вызвало дело «Синтаксиса» в «Лижи»[30]. Переполох был великолепный. Неужели сейчас Юра не сможет еще хоть немножко потравить их. Очень стоит.
Я здесь ведь могу судить о его работе по советской прессе. А она молчит. О саратовцах, лезущих на Парнас, почему-то пишут. Для того, чтобы заставить газеты заговорить, далеко не обязательно садиться в тюрьму. Просто нужно работать крупнее и оперативнее, и ближе к ним.
Только не будьте «тунеядцами». Вероятно, это вы и сами понимаете. Все эти майские Указы – прямо против нас. Только их и нужно бояться. Их ведь обойти труднее, чем уголовный кодекс.
[Штемпель получения 15 июля 1961]
Ох, до половинки четыре дня. Если бы я совершенно не надеялся досрочно освободиться, было бы гораздо легче. Тогда я попросил бы прислать часы – старую «Победу». Пока же могу лишь считать дни. <…>
Как дела у матери с работой?
А нашла ли она работу для меня? Пусть ищет. Тихонов наобещал мне кучу рекомендаций. Сейчас он, по-моему, мечтает лишь о том времени, когда мы будем работать вместе. Но это произойдет года через полтора, раньше ему не освободиться. В «Лижи» мы написали коллективное письмо – общим знакомым.
11 июля 1961
Сейчас одиннадцатый час (утро). Работали мы сегодня зверски. Грузили вагоны изоплитой. Это здоровые куски довольно толстого (1,5 см.) картона. А берешь их штук по восемь на спину. И так семь часов. Потов двадцать сошло с вашего покорного.
Пока пришли в зону, пока отмывались от пыли и грязи (грузилось все это в вагоны из-под цемента), завтракали, пока я постригся и побрился… – вот и начало одиннадцатого. В одиннадцать у нас кино. После этого сразу обед. А после обеда я все же лягу спать. Вчера я встал к обеду. Выходит, что не сплю я ровно сутки. Так не годится. <…>
Был я в четверг в спецчасти. Там мне объяснили, что представление к условно-досрочному освобождению зависит целиком от желания начальника отряда. Пытаюсь воздействовать на его желание через «своего» старшину Витьку Аносова. Но надежд немного. Мешает Лубянка. Ее все боятся, как огня. Этого объяснять не нужно. <…>
Спасибо за стихи. Побольше бы. И Стася [Красовицкого][31] поновее. Он ведь рос с годами. Тебе не кажется?
15 июля 1961
Начну с самого главного. Сегодня в нашей зоне первый суд. Его еще не было, будет вечером. Так что подробности – в следующем письме. Пока известно одно. На суд представлено 8 человек. 7 из облегченной зоны и один с нашей. <…>
Вчера я вволю наслушался лагерных песен. Две гитары и пять или шесть хриплых голосов. Приличный голос только у Лемешева. Этот парень подозревает, что он сын Сергея Яковлевича. Он родом из Медного Калининской области, да еще и Вадим Сергеевич. Петь он не умеет, но голос есть и очень приятный. Только не поставленный. Поет он и днем и ночью. Днем его за это бьют, а ночью все же слушают. И даже просят петь. <…>
Только что выяснилось, что суд уже идет. В облегченной зоне. Нашего парня уже туда увели. Если он вернется до шести часов, то результаты сообщу уже в этом письме. <…>
Я дотянул письмо до вечера. Суд кончился. Полный порядок. Освободили всех восьмерых. Самой главной сволочью оказался наш замполит. Он единственный возражал против освобождения некоторых. Но суд был милостив. Впридачу выяснилось, что суда не было семь месяцев лишь по вине нашей лагерной администрации. Но администрация остается на месте, а суд уезжает. И когда его опять вызовут, неизвестно.
[Штемпель получения 19 июля 1961]
Разговор с майором не получился. Зубная боль ночью утихла. Она и не могла не утихнуть, работал я как вол. Когда пришел с работы, на мне можно было выжимать не только майку и рубашку, но и верхнюю куртку.
Но все же перед этой работой мастер наш сообщил мне, что майор собирается представлять к суду двоих из нашей бригады, в том числе и меня.
Но вот пришло 15-е и обрушило на мою голову все свои прелести. Почти всех, у кого прошли или подходят половинки, в понедельник отправляют на этап – в другой лагерь. И меня, конечно. Этого, безусловно, следовало ожидать, но приятного мало. Пока там с нами познакомятся, пока представят на суд, да еще могут переслать и еще в пару лагерей.
17 июля 1961
Это письмо пишется 17 июля за несколько минут до отъезда из лагеря. В другой лагерь. На Север. Письма оттуда будут идти, вероятно, еще на день дольше. <…>
Провожают меня торжественно, чуть ли не с оркестром.
21 июля 1961
Привезли нас на 30-й ОЛП. Уже почти сутки мы валяемся в зоне под забором бани, ждем, пока нас отправят на вторую Веслянку – облегченную подкомандировку[32] этого лагеря. <…>
Мой новый адрес будет: Кировская обл., Кайский р-н, п/о Верхне-Камск, п/я 231/30 – Веслянка 2. (Universität Bremen)
Александр Гинзбург – Людмиле Ильиничне Гинзбург
[Не ранее ноября 1961, датируется по содержанию]
<…> Перехожу к деловой части. Копии отказов хранятся в моем личном деле. Мне их только «объявляют», и за это я расписываюсь. Но при этом умудряюсь (или ухитряюсь) их переписать. Посылаю все три, которые у меня есть
[В письмо вложены три рукописных копии документов:]
Прокуратура СССР
Прокурор
ИТЛ «К»
10.10.61
№ 1804
Начальнику спецчасти 12 лаготделения. Объявите заключенному Гинзбург А.И., что его заявление прокуратурой проверено, он судом 14.7.61 г. признан особо-опасным рецидивистом, а поэтому он на основании Указа от 5.5.61 г. к досрочному освобождению не подлежит.
Зам. прокурора ИТЛ «К» [Подпись]
Выписка из протокола № 1
заседания наблюдательной комиссии по рассмотрению дел об условно досрочном освобождении заключенных от 18 октября 1961 г.
Слушали:
Материал на условно-досрочное освобождение на заключенного Гинзбург Александра Ильича 1936 г. рождения, осужденного 17.1.61 г. Судебной коллегией по уголовным делам Московского горсуда по ст. 196 ч. 1 УК РСФСР на 2 года. Отбыл ½ срока наказания.
Постановили:
Ходатайство лагадминистрации отказать, как не искупившему свою вину.
Зам. председателя наблюдательной комиссии Леонтьев
Прокуратура СССР
Прокурор
ИТЛ «К»
3.11.61
№ 1804
Начальнику спецчасти 12 лаготделения. Объявите заключенному Гинзбург А.И., что его заявление прокуратурой проверено, он особо-опасным рецидивистом признан не был, но наблюдательная комиссия от 18.10.61 г. в ходатайстве на условно-досрочное освобождение ему отказано – правильно.
Зам. прокурора ИТЛ «К» [Подпись]
Я оставил даже орфографию подлинников. Больше я пока ответов не получал, последний был на днях. Почти месяц он до меня добирался.
Сам я написал: 1) В Кировский областной суд; 2) В наблюдательную комиссию; 3) Председателю Президиума Верховного Совета Коми АССР (только он может воздействовать на наблюдательную комиссию); 4) Еще раз прокурору ИТЛ «К» (почему же правильно?); 5) В Верховный суд СССР. Это вопрос особый. Просим ответить, в силе ли решения мартовского (1961 г.) Пленума Верховного Суда об усл<овно>-доср<очном> освобождении. Эти решения есть в журнале «Социалистическая законность» № 5 за 1961 г. Кстати, и вы узнайте это у адвоката.
Ответов пока нет. На наблюдательную комиссию пожалуюсь еще в Коми обком КПСС. На днях напишу туда.
Ну вот и всё. Всем привет передавай. Особенно тете Стеше. Из-за отсутствия курева у меня к ней особое почтение. Чорт возьми, ведь и спичек тоже нет. Беда совсем. А как мне без вас тошно, знала бы ты… Береги здоровье, не ревнуй Рустема.
Прости за грубость. Люблю, целую. Сын. (Архив Гуверовского института войны, революции и мира Стенфордского университета (Калифорния, США) (Hoover Institution Archives. Stanford, California, USA). Alexandr Ginzburg. Box 1)
Александр Гинзбург: Весной 1962 года, когда я отбывал наказание в исправительно-трудовой колонии, я ехал на железнодорожном составе и, при сходе паровоза с рельс, упал с платформы, потерял сознание. Без сознания я находился примерно полчаса и по поводу этого три дня находился в санчасти. В тот период у меня была тошнота и какая-то общая тяжесть. После выписки из санчасти мне дано было освобождение от работы на четыре дня. Никаких последствий, кроме воспоминаний о падении с платформы, я впоследствии не ощущал. (Управление Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области. Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021. Далее – Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
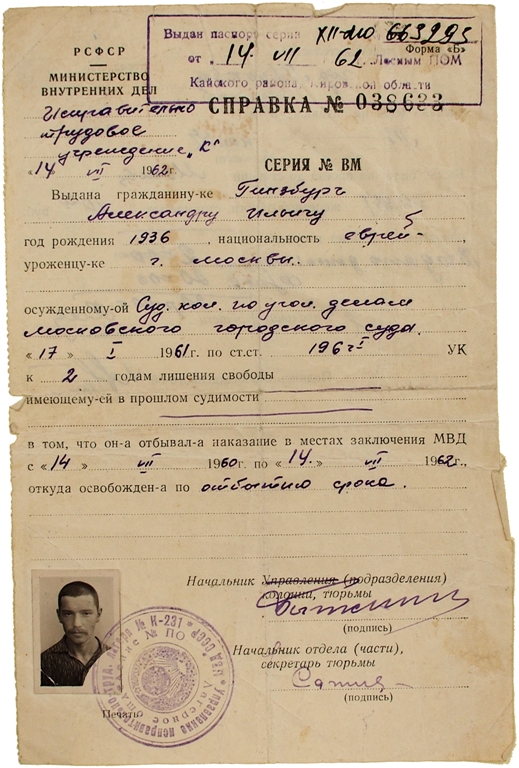 | 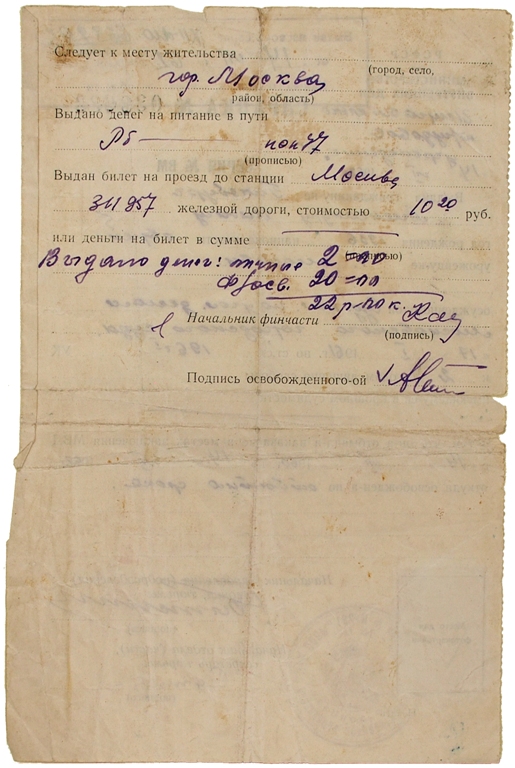 |
(Hoover Institution Archives. Stanford, California, USA)
Глава 5
Время накопления
Александр Гинзбург: Вернулся. А прописывать не хотят. Но тут взялся за это депутат Верховного Совета СССР многолетний, Илья Григорьевич Эренбург, и это дело пробил. Прописали. Значит, все-таки живу в Москве. (Расшифровка рабочего материала к фильму «Александр Гинзбург. Человек легенды» (телекомпания «ALMA-MATER» и телеканал «Культура», реж. Я. Назаров), снятому в рамках телепередачи Бориса Носика «Парижский журнал»)
Естественно, ни о какой газетной работе речи больше не было. Я и до лагеря умел работать руками, а в лагере научился и печки класть, и много чего еще. Я стал рабочим, стал аварийным рабочим в московской канализации. У такой работы был один серьезный недостаток: на эти деньги нельзя было жить. Может, я был человек испорченный – в этой стране за журналистику, которой занимаешься много, платили по тем временам вполне приличные деньги. <…> Слава богу, меня выручали друзья, которые находили мне «негритянскую» работу. <…> Пару раз мне повезло – я записывал воспоминания очень интересных академиков. (Фильм «Свидетели ГУЛАГа». Франция, 2001)
Оскар Рабин: Свой экземпляр «Синтаксиса» я Алику назад отдал, потому что, когда он вернулся, у него собственного экземпляра не осталось. А вот с картиной обратная история вышла. Еще до его посадки я ему отдал картину на «повисеть» – обычный городской пейзаж, я таких много тогда делал. Она у него повисела-повисела, а потом, поскольку она ему нравилась, я ее ему подарил. И вдруг через некоторое время ко мне подступает Холин и говорит, что я обещал подарить именно эту картину ему. Я такого, честно говоря, не припомнил, но могло быть. А Игорь – он умел иногда быть таким… убедительным, скажем. Но мне и перед Аликом неудобно – не отбирать же подарок. В это время у меня иностранцы уже начали покупать, деньги появлялись. А Алик по возвращении из лагеря в деньгах нуждался (да он никогда богато не жил). И я картину выкупил, рублей за сто, и передарил Игорю. Алик наверняка и так отдал бы, но я настоял, чтобы за деньги, потому что это я проблему создал. (Интервью составителю. Июнь 2016)
Кира Сапгир: До сих пор помню: 1962 год. На Абельмановской, в полуподвале, который снимал себе под жилье «барачный поэт» Игорь Холин, на продавленном матрасе, со стаканом вина – легкий человек; сверкает в полутьме беззаботная белозубая улыбка – а ведь Александр Гинзбург только что вышел на свободу после двухгодичной отсидки в лагере… (Сапгир К. Быки и улитки. СПб.: Алетейя, 2006)
Наталья Доброхотова: А к Алику мы начали ходить, когда Алик вышел уже. Вернулся он по-прежнему жизнерадостный, розовый. Мы пришли – он анекдоты травит. Толпа народу, все веселые, никто друг друга не знает, мы, во всяком случае, мало кого знали. Маму знали, правда, уже немного. Людмила Ильинична была с замечательным чувством юмора, рассказывала смешные истории, например, как на фабрике игрушек она дослужилась до худсовета, который должен был утверждать новые проекты изделий. Худсовет – страшная сила в то время. Приносят им на утверждение воздушный шарик в виде колбасы, они только-только у нас появились, до этого видели лишь в кино. И вот председатель комиссии, дама лет 70, держа в руках пустую резиночку, говорит, что утвердить этого не может, потому что этот предмет может вызвать нежелательные ассоциации. – Ну, знаете, если в ваши годы, – говорит Людмила Ильинична, – что-то еще вызывает такие ассоциации, мне вас жаль. (Интервью составителю. Июль 2016)
Габриэль Суперфин: С Наташей Горбаневской мы были знакомы с 1962 года, со дня освобождения Гинзбурга. Меня потащили к нему друзья по площади Маяковского: «Пойдем к Гинзбургу, поздороваемся, выразим уважение». И уже через несколько дней мы с Гинзбургом вместе шли к художнику Брусиловскому. Тогда ведь связи моментально устанавливались. (К истории неофициальной культуры и современного русского зарубежья: 1950–1990-е / сост. Ю. Валиева. СПб.: Контраст, 2015)
Наталья Доброхотова: Чуть ли не сразу после возвращения (по крайней мере, летом) Алик возил делегацию кубинских художников в Лианозово. В компании у нас появился кубинец, звали его Хуан. Когда Гарику Суперфину мы рассказали про него, он сразу спросил: «Хуан Лопес?» Мы говорим: «Откуда знаешь?» «А там все, если Хуаны, то уж точно Лопесы». И вот выставка современных кубинских художников в Москве, целая делегация приехала, а Хуан у них переводчиком. Иностранцев тогда, с одной стороны, за шпионов держали, а с другой – старались развлекать по полной. Мы их повели к Алику, там уже возникла идея ехать к Рабину. Алик быстро это дело организовал: на вокзал, в электричку и до Лианозова. Хуан, бедный, всем переводил, уже и не спрашивал, говорит ли кто-нибудь по-испански, только с надеждой: «По-английски?..» У Рабина тоже, конечно, никто на языках не говорил, так что Хуан до конца отдувался переводчиком. А говорили все бурно – это же интересно тогда было, латиноамериканское искусство, тем более что один из кубинцев (тот, что постарше), под Рибейру работал. Ну и, конечно, – про абстракцию, про отношения государства и искусства у нас… (Интервью составителю. Июль 2016)
Арина Гинзбург: Мы с первым мужем жили в замечательном доме на Метростроевской, напротив Института иностранных языков, это кооперативный дом писательский, через дорогу маленький скверик, там была такая уютная квартира его родителей.
И как-то мы возвращались очень поздно, чуть не в полдвенадцатого, из гостей, смотрим: на пороге нашего дома сидят три красавца. Точнее – одна наша подруга, Светлана, Женька Голубовский и какой-то незнакомый человек. Он уже вышел, значит это была осень 62-го. Ну, они к нам зашли… Я так удивилась, когда поняла, что это Гинзбург – я себе представляла пожилого еврейского человека, а тут такие ресницы, рыжеватые кудри, в общем, совершенно по возрасту двадцатилетний юноша… Он и потом еще долго выглядел молодо.
Они остались, засиделись у нас совсем уже допоздна.
А дальше рассказ такой: Миша Деза, математик, в тот вечер с Людмилой Ильиничной ждал его на Полянке. Когда Алик пришел, Людмила Ильинична ему говорит: ну ты даешь, знал же, что тебя ждут. А Алик Мише: «Ой, слушай, у Жолковского такая жена, я б на ней сразу женился». И Деза потом рассказывал: «Больше всего меня поразило, что ведь действительно – женился! Хотя и не то чтобы сразу».
Потому что мы тогда еще совершенно не расходились… и разошлись не из-за Алика совсем. Только через год Тамара Казавчинская привела меня в первый раз на Полянку. (Интервью составителю. 2016, 2017)
Александр Гинзбург: У нас с Сережей Чудаковым был такой приятель, который ныне идеолог русского национализма, Вадим Валерьянович Кожинов, зять Ермилова[33]. У него мы познакомились с Павликом [Литвиновым], с Юзом Алешковским…
И вот я вернулся летом 1962 года. Вадим жил в писательском доме, а я – по другую сторону Третьяковки. Я ему позвонил, а он говорит: «Приходи срочно!» Я прихожу. Он сует мне пачку бумаги и говорит: «Прочти и немедленно верни!» Это был «Один день Ивана Денисовича». Это был не ноябрь, это был июль 1962 года[34].
В 1962 году все началось с «Одного дня Ивана Денисовича», а потом начались мои поездки в Тарусу. Туда поехала Фрида Абрамовна [Вигдорова]. А до этого с ней познакомился Андрей Амальрик. Андрей меня туда притащил. Сначала пару ночей мы переночевали в той избе, где она жила, на каких-то жутких жестких лавках. А потом она потащила нас к Оттену. Это был 1962–63 год. И тут уже началось по-настоящему чтение Самиздата. (Universität Bremen. Интервью Раисы Орловой с Александром Гинзбургом. Вашингтон, 1 ноября 1985)
Вадим Кожинов: С Александром Гинзбургом я знаком с 1959 года. В 1959–1960 я встречался с ним на почве интереса к так называемому «левому» искусству. Когда же Гинзбург возвратился в 1962 из заключения, я уже потерял интерес к этому искусству. Естественно, что за последние два года я встречался с Гинзбургом очень редко. По его приглашению я был на двух его днях рождения, причем один раз из этих двух не в его доме. Кроме того, было еще несколько кратких встреч. В 1964 мы виделись, насколько я помню, всего один раз, когда Гинзбург ненадолго зашел ко мне. Из более ранних встреч стоит отметить одну. Я должен был встретиться с обучающимся у нас гражданином США Малиа[35], который попросил поучаствовать в прощальном обеде по случаю возвращения его на родину.
Итак, Малиа пригласил меня на обед в ресторан «Центральный». По дороге в ресторан я встретил Гинзбурга и пригласил его с собой. После обеда я должен был ехать к родителям, как было заранее условлено. Уезжать одному было неудобно, поэтому я пригласил с собой друзей, Малиа и Гинзбурга. Насколько я помню, Гинзбург уже во время обеда много выпил и с Малиа и другими уже не мог разговаривать, а только смеялся и плясал (в доме моих родителей). (Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Александр Гинзбург: Я что-то писал, искал себе какие-то интересные сюжеты. Первый такой сюжет, который мне принес даже международную премию, я нашел в декабре 1962 года. Манеж, выставка художников, которую навестил Хрущев. Первый очерк об этой выставке, который был напечатан на Западе, был мой. Он вышел в газете «Чикаго трибюн».
А кто же пускал западных журналистов в Манеж в то время? Их никуда не пускали. Как только все это прошло, я сел и написал. Это заняло сутки. А на следующий день уезжал мой друг, стажер-славист[36]. Он уезжал прямо в Чикаго. Статье, им переведенной, была присуждена какая-то американская международная премия. (Гохман М. История в лицах: Александр Гинзбург // Лица. М., 1998. № 3)
Мы начали искать выхода на корреспондентов. С кого мы могли начать? Естественно, с Виктора Луи. (Universität Bremen. Интервью Раисы Орловой с Александром Гинзбургом. Вашингтон, 1 ноября 1985)
Оскар Рабин: Я Алика познакомил с такой, как сейчас говорят, неоднозначной личностью – с Виктором Луи. Мне-то он ничего плохого не сделал, наоборот – в каком-то смысле благодаря ему у меня состоялась первая выставка в Лондоне[37]. Что у него за дела с КГБ были – я и сейчас не очень представляю, а тогда вообще этим не интересовался. И вот я его свел с Аликом. Виктор мне очень Алика нахваливал – такой приятный молодой человек, и в общении, и знания глубокие… И вдруг приходит расстроенный, говорит: какая жалость, я, видимо, не смогу больше с Аликом встречаться. И так мало приличных людей, а тут теряю такого собеседника.
Оказывается, как-то они сидели на Кутузовском у Луи на квартире. Алик сказал, что ему пора, стал собираться. Виктор, которому тоже надо было ехать, предложил подвезти на машине. Алик предупредил, что надо будет подождать пять минут – он выскочит и вернется сразу. И попросил остановить… у французского посольства. Действительно, вернулся через пять минут с бобинами фильмов – какая-то знакомая из посольства ему их дала. И Виктор мне говорит: «Он что – не понимает, что завтра его за это посадят, а говорить все будут, что это я его посадил?»
Один из этих фильмов – про Пикассо, документальный[38], я потом смотрел на чьей-то квартире, Алик меня пригласил. Конечно, было интересно – там снимали на просвет, сам Пикассо по другую сторону холста стоял от точки съемки. Помню совсем молодого Андрея Тарковского – он тоже пришел этот фильм смотреть, в окружении своих приятелей, или поклонников – потому что он уже довольно известен был. (Интервью составителю. Июнь 2016)
Алексей Васич: Итак – салон Иры Васич[39]. Году эдак в 65-м к нам на квартиру заявился Алик Гинзбург и принес фильм об импрессионистах. Случился просмотр. Присутствовало человек сорок. Я в тот момент был дома и видел фильм: под классическую музыку на экране возникали картины импрессионистов. И всё! Но так как фильм был взят из французского посольства, КГБ счел данную акцию антисоветской и мамашу выгнали из издательства «Малыш». Лев Кассиль несколько раз пытался устроить мамашу на работу, но ничего не получалось. Наконец выяснив по своим каналам, в чем дело, он сообщил мамаше: «Ира, да у вас антисоветский салон оказывается!» Годами позже некто Рекемчук, будучи кающимся стукачом, рассказал мамаше, что помимо его письма в КГБ поступило еще 11 доносов об этом просмотре. (Алексей Васич. Его превосходительство стол. Цит. по: http://memo-projects.livejournal.com/641326.html)
Александр Гинзбург: К МЭИ у меня давняя нежность. Во-первых, там учился Рустем…. Во-вторых, в доме культуры этого учебного заведения меня однажды схватили за штаны за чрезмерную любовь к французскому документальному кино, но я не смутился и в тот же вечер там же ассистировал какому-то гипнотизеру. Он угадал все мои мысли, кроме одной, – что мне страшно взглянуть за кулисы, где меня уже ждали с приготовленным допросным бланком. После чего на заводе им. Ханукова[40] состоялось открытое собрание ремонтно-механического цеха с повесткой дня: «Обсуждение антиобщестенной (орфография не моя) деятельности рабочего Гинзбурга». (Архив Арины Гинзбург)
Характеристика А.И. Гинзбурга, выданная Ростокинским заводом железобетонных конструкций
5 июня 1964
<…> Вскоре после поступления на наш завод коллектив цеха обсуждал вопрос о тунеядстве Гинзбурга А.И. На собрании он дал слово честно трудиться и честным трудом искупить прошлые ошибки. Но данное слово не сдержал, по-честному трудиться не стал.
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Известия. 1963. 25 мая
М. Стуруа, В. Кассис
Дуньки просятся в Европу
Отсидев положенный срок в тюрьме, Гинзбург поведал друзьям, что отправляется в пункт проката вещей за проектором и будет устраивать киносеансы у себя дома.
– А фильмы у тебя есть? – спросили в один голос приятеля.
– Нет, но будут! – воскликнул Гинзбург и бросился в одно иностранное посольство.
– Помогите, помогите нам, верным и преданным сынам абстрактного искусства! Дайте несколько роликов пленки с наглядным примером работы ваших лучших мастеров-абстракционистов!
На глазах сотрудников посольства заблестели слезы умиления. И вот Гинзбург стал под бурные аплодисменты своих дружков «эксплуатировать» кинопроектор и пропагандировать абстракционизм. <…>
Может быть, общественности следует поступить более решительно – выдворить из Москвы и других наших красивых городов полтора-два десятка тунеядцев и приживал иностранных посольств, чтобы легче дышалось нам в будни и праздники. Сделать это совершенно необходимо. Ведь именно из таких подонков шаг за шагом, месяц за месяцем формируются предатели типа Пеньковского…[41]
Андрей Амальрик: Он начинал как просто человек, очень любящий и интересующийся искусством. Он начал с издания поэтов, потом он показывал у себя кинофильмы о французских и американских художниках. И тоже о нем появилась самая бранная статья в газете. Он пытался знакомить советских людей с современным искусством. Как ни странно, эта его работа вместо того, чтобы встретить поддержку со стороны властей – это была по существу культурная работа, не только антисоветского, но ничего политического в ней не было – она властями все время воспринималась с каким-то подозрением, с каким-то желанием все это закончить, прекратить и не допустить. («Мы за границей»: Андрей Синявский и Андрей Амальрик // Радио «Свобода». 24 июля 1978)
Валерий Скурлатов: Под эгиду Университета молодого марксиста[42] мы собрали самых ярких «шестидесятников», в том числе и Алика Гинзбурга, который помогал мне организационно.
Для тогдашней прогрессивной общественности мы не только предоставляли трибуну, а также давали ей возможность поездить по стране, знакомили ее с шедеврами западного кино. Когда на горизонте появился только что созданный фильм «Голдфингер», я послал Алика в контору, которая занималась кинообслуживанием партноменклатуры и оперативно добывала для нее копии зарубежных киноновинок. На просмотр я позвал писателей, диссидентов и весь Институт философии АН СССР, в котором аспирантствовал. Алик привез коробки с лентой и переводчика, фильм произвел впечатление, и я помню, как «эсхатологиствующий марксист» Эвальд Васильевич Ильенков выражал свои восторги – «Вот это да, как здорово сделано!» (Скурлатов Ю. Вспоминая фильм «Голдфингер» (1964) // Дневник URL:http://skurlatov.livejournal.com/1628235.html)
Наталья Доброхотова: Алик записывал песни на магнитофон. Мне кажется, Вертинского. Может быть, и Окуджаву уже тогда. Музыка у него дома всегда звучала фоном. Магнитофон был чуть ли не самодельный. Потому что я не помню такого, как описывают первые магнитофоны: «размером со шкаф». Нет, просто Алик что-то включал незаметное.
Была история с цыганами. Он пригласил к себе домой записываться целую цыганскую компанию. У него были друзья – эффектная пара, дама при этом была наполовину цыганка – вот через нее, наверное. Алик потом рассказывал, как интересно было наблюдать: цыганка поет, при этом одной рукой колбасу нарезает, другой ребенка укачивает, третьей на гитаре играет, да еще и дробь каблуками отбивает; как прибегали соседи снизу и говорили, что они очень любят цыганское пение, но не когда у них в три часа ночи на потолке люстра пляшет от этих танцев… (Интервью составителю. Июль 2016)
«Соседи снизу» – значит, речь идет еще о Толмачевском переулке. В марте 1963 года Гинзбурги меняют свою квартиру и переезжают на Большую Полянку. Впрочем, образ жизни от этого не меняется.
Арина Гинзбург: Алик и его мама Людмила Ильинична жили в маленьком двухэтажном деревянном домике XIX века на Полянке. Дом представлял собой одну большую квартиру, в которой жили 17 семей. Первого этажа не было – это было чем-то вроде того, что французы называют rez-de-chaussée. Комната Гинзбургов располагалась прямо возле входной двери, поэтому попасть к ним было очень легко: либо крикнуть со двора, либо постучать в стенку.
В комнате почти никакой мебели не было. Стоял буфет, диван Людмилы Ильиничны и знаменитый столик, который художник Натан Файнгольд расписал разными узорами и орнаментами. На столе стоял старый магнитофон «Яуза», рядом приемник «Спидола», по которому слушали «голоса». <…>
Все стены в комнате были завешаны картинами художников-нонконформистов – Оскара Рабина, Валентины Кропивницкой и других. Потом многие из этих картин мы смогли забрать с собой на Запад. У входа устроили умывальник, на подоконнике стояла плитка, а потому комната эта была обособлена от остальной части квартиры.
Кстати, во многом благодаря этой обособленности в доме никто не возмущался количеством гостей. Только один раз, когда у нас был цыганский театр и пела Рая Удовикова, под окнами собралось пол-Полянки, но все слушали и даже аплодировали.
<…> Сейчас я бы это назвала «Кафе “У Гинзбургов”». Часто приходили без звонка, и это воспринималось совершенно нормально. Но почти всегда не с пустыми руками: кто приносил какие-то книги, кто бутылку, кто еще что-нибудь. Людмила Ильинична очень любила эти сборища. Она уже была на пенсии и была такая подруга-мама, которая все это принимала как свою жизнь. И даже если не было Алика, она всех всегда принимала, прямо в комнате варила кофе, тем более что не было необходимости идти почти километр до кухни.
Самое оживление наступало по вечерам. Много спорили, читали стихи. Писатели, поэты и диссиденты Андрей Амальрик, Боря Шрагин, Наташа Горбаневская, Саша Аронов, Померанц, Есенин-Вольпин и многие другие приходили регулярно. Юлик Ким и Алеша Хвостенко пели песни. ([Интервью Арины Гинзбург] / беседовал Т. Дзядко // Большой город. М., 2013. 7 февр.)
Николай Котрелев: Когда Алик еще не вернулся, летом 1962, после второго курса, я уехал в Баку, а появился в Москве только в 1963 на очень короткое время и побежал уже на Полянку, куда они переселились. Кажется, было уже две комнаты… Картинами теперь были увешаны все стены. Но там я бывал всего раза два-три. Появились другие притягательные для меня центры, потом я довольно быстро опять уехал, а когда вернулся – кончилась моя молодость. С конца 1965 года я вообще вышел из московского богемного круга. Для меня встречи с Аликом были именно встречи с богемой, а не с политикой. Он меня еще пытался затащить: пойдем в посольство, там кино показывают; я раз не смог из-за дел, другой отказался… В молодые годы если не поддерживается «ниточка-иголочка-веревочка-карась», то всё как-то расстраивается. А к политике… Он не звал, а мне было безразлично. (Интервью составителю. 2015)
Вера Шитова: О моем знакомстве и взаимоотношениях с Гинзбургом Аликом я могу рассказать следующее: в декабре 1962 года мой знакомый Сергей Чудаков принес почитать книгу Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». Однако вскоре по телефону мне позвонил Гинзбург, спросил, у меня ли эта книга. Убедившись, что книга у меня, он сказал, что она принадлежит ему, нужна ему сейчас же. Я предложила ему зайти ко мне и взять книгу. Выяснилось, что мы живем недалеко друг от друга. Он зашел ко мне, взял книгу. Так состоялось мое знакомство с Гинзбургом.
Я в то время очень много работала дома – писала книгу, которая должна скоро выйти, и Алик Гинзбург довольно часто по утрам заходил ко мне поболтать, выпить кофе, посидеть. Он брал у меня книги почитать. Я узнала, что он учился в МГУ на факультете журналистики, имел желание поступить в Саранский университет, т.к. после освобождения из заключения он не учился и нигде не работал.
Однажды весной 1963 года я зашла домой к Гинзбургу, познакомилась с его мамой, которая мне очень понравилась, увидела обстановку, в которой живет Алик. Я подружилась с ним, и он, насколько мне известно, очень привязался ко мне. Незадолго до этого у меня умер муж, мне было очень тяжело и, чтобы как-то рассеяться, отвлечься от своего горя, мне крайне нужны были новые знакомства, люди, новые впечатления.
Бывая у Гинзбурга, я встречалась там со многими людьми, некоторые из которых, например, Нэлла Логинова, Павлов, Хануков, Капиев, нравились мне, были интересны. Бывали у Алика и другие люди, которые мне совершенно не нравились: какие-то малосодержательные, темные люди, пьющие, не понятные мне. Я стремилась оказать на Алика какое-либо влияние, чтобы он начал жить иначе, стал бы работать, начал бы учиться.
Однако все мои помыслы, стремления, уговоры оставались бесполезными: в жизни Гинзбурга ничего не менялось. Я стала уставать от этого, т.к. мне и так хватает своих забот. Я плохо понимала Алика, не знала, чего же он все-таки хочет, добивается. Я неоднократно спрашивала его, пытаясь добиться четкого и ясного ответа о цели его жизни, но так ничего и не узнала. Он производил впечатление замкнутого человека.
Мне кажется, что у Алика есть какие-то литературные способности, т.к. мне приходилось слышать его некоторые высказывания по этим вопросам и я убеждалась, что он понимает и, видимо, разбирается в искусстве, литературе и т.д. Я предлагала ему что-нибудь написать хорошее и убеждала его, что такое произведение примет и напечатает любая редакция, но он так ничего и не написал. Создается впечатление, что Алик не может сосредоточиться, чтобы сесть и что-нибудь написать, что он просто безвольный человек.
Я все же добилась, чтобы Алик поступил работать на завод, после которого он при желании может поступить в технический вуз. (Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Наталья Доброхотова: В конце 1963 года мы переехали сюда, на Открытое шоссе, общаться стали реже. Хотя Алик к нам и сюда приезжал с Наташей Горбаневской. Сразу после переезда, по-моему – дальний конец дома еще достраивался, а мы в первом подъезде уже жили. Начало ноября, но для ноября тепло, кругом вода, глина – у нас под окнами просто горы этой глины, и лужи. И вот Алик с Наташей через эти горы к нам пробрались, принесли деньги на благоустройство квартиры. Оказывается, организовали сбор денег для нас. Такая вот благотворительность. (Интервью составителю. Июль 2016)
Наталья Горбаневская: Резкая граница между 63 и 64-м годом: недаром високосный год считается тяжелым, такого тяжелого у нас давно не было.
В Ленинграде устроили дикую кампанию травли Бродского. Основание для травли – мнимое тунеядство, хотя даже по советским законам он не должен был под это подпасть: у него были договоры с Гослитиздатом, в двух вышедших книгах зарубежной поэзии напечатано несколько его переводов (кубинские и югославские). <…> Его голословно обвинили в порнографии и антисоветчине – ни того, ни другого у него в помине нет. Процитировали строчку: «А люблю я родину чужую», обвиняя в любви к Западу, а строчка – из стихотворения одному московскому поэту, и говорит о любви к Москве (!). Даже возраст его переврали, прибавили три года. Главное, включили в статью материалы, которые были только в КГБ, когда Иосифа привлекали по чьему-то делу, но признали невиновным и оставили в покое. Сейчас всё разворошили. Авторы этой статьи – подонки большого размаха. Один из них когда-то служил в КГБ (в те еще времена), потом, естественно, с приходом «нового ветра», вышел в отставку, но оживился как общественность: взял власть в народной дружине Дзержинского района Ленинграда, а это центральный район – в нем и Эрмитаж, и Русский музей, и тьма театров, и Союз писателей, и Дом актера, и просто весь Невский. <…>
Так вот этот Лернер, кроме участия в написании статьи, вслед за ней поехал в Москву, показал ее директору Гослита, присовокупив фотографию, якобы изображающую Иосифа среди голых девиц. Договоры расторгли, и Иосиф для советского закона оказался «тунеядцем». Когда же по прошествии времени директор издательства увидел Иосифа, первое, что он воскликнул: «Так это были не вы!» То есть это был даже не монтаж, как предположили вначале, а просто чужая фотография[43]. (Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Константин Кузьминский: Вот и взялись мы [с Григорием Ковалевым] в 62-м году за русскую литературу. Для начала собрали всего Бродского, которым тогда оба бредили… Я уговаривал Иосифа выверить тексты и сделать подборку. Тексты он кое-как выверил, а подборку делать отказался. Поэтому пустили хронологически. Она-то и вышла книжкой в 64-м году в Нью-Йорке. (У Голубой Лагуны: Антология новейшей русской поэзии: в 5 т., 9 кн. / сост. К. Кузьминский, Г. Ковалев. Newtonville, Mass.: Oriental Research Partners, 1986. Т. 5B)
Стихи Бродского отпечатал на своей машинке Борис Тайгин, получилось «80 страниц большого формата, с пометой на заглавной странице “Ленинград.1962”»[44]. Схожим образом была оформлена «Антология советской патологии», составленная Кузьминским из стихов молодых ленинградских поэтов (где также были стихи Бродского).
Константин Кузьминский: …АСП-62 (антология советской патологии) – была таковой: по стишку, по два – был показан весь «спектр питерской поезии»; первый выпуск у меня замылили – некий «Гуля» из кумпании Молота, другой экз<емпляр> пошел в Москву к Алику Гинзбургу (вместе с полным перво-Бродским). (У Голубой Лагуны… Т. 5B)
Итак, в ноябре 1962 года Григорий Ковалев повез обе машинописи в Москву и подарил их Александру Гинзбургу. Однако при обыске в мае 1964 года, о котором пойдет речь ниже, у Алика была изъята только «АСП-62», подборка Бродского уже отсутствовала. Куда она делась – прямым текстом говорит Кузьминский в той же антологии «У Голубой Лагуны»: «…первый сборник Бродского… был… переправлен за кордон Аликом Гинзбургом…»
Очевидно, после того, как по Москве начала распространяться подготовленная Фридой Вигдоровой запись судебных слушаний по делу тунеядца Бродского, Гинзбург решил, что машинопись, лежавшая до тех пор без движения, должна найти себе применение. Канал для передачи на Запад к тому времени уже имелся – в декабре 1963 года на выставке американской графики Алик познакомился сначала с одним из представленных на ней художников – Игорем Мидом, а через него – с непростым человеком Полом Секлоча[45].
Пол Секлоча – Глебу Струве
26 марта 1964[46]
Дорогой профессор Струве!
Теперь у меня есть Ваш адрес и я могу выслать Вам материалы, которые удалось собрать здесь и которые могут быть интересны Вам. <…>
Я встретил Александра Гинзбурга, которого Вы знаете, и он мне организовал несколько встреч. Александр вернулся из лагеря, как об этом, возможно, уже сообщал Вам Малиа, и теперь работает токарем за 60 рублей в месяц. Он очень деятелен, однако сейчас больше занят изучением советских писателей 30-х годов, работы которых хочет опубликовать на Западе. Он передал мне эти материалы, а также «Синтаксис» №№ 1–3, и стихи Ахматовой 1935–1940 гг. У него есть и некоторые другие материалы[47], которые я надеюсь получить до своего возвращения в Штаты в июне. Сейчас он в больнице, я не виделся с ним вот уже пару месяцев. До того, как я уехал с выставкой в Ереван, мы пытались получить от Серебряковой разрешение на публикацию на Западе ее новой повести «Смерч», описывающей жизнь в трудовом лагере в 30-х годах. (Stanford, California, USA. Gleb Struve. Box 13)
Алик действительно в тот момент попал в больницу после очередного падения – на этот раз с лестницы.
Александр Гинзбург: В начале 1964 года я бежал утром на работу, споткнулся на лестнице и скатился с нее, ударившись головой. При этом падении я получил сильный ушиб крестцово-поясничной части. После этого я вернулся домой и вызвал врача, который дал мне освобождение от работы. Самочувствие мое в тот период характеризовалось тем, что я не мог поднять головы, у меня было головокружение. В последующем у меня были частые головные боли. (Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Пол Секлоча – Глебу Струве
12 апреля 1964
Я не знаю, стоит ли верить тому, что она (Серебрякова) хотела бы опубликовать это на Западе. У меня нет доказательств этому.
Но Гинзбург обсуждал это с ней в декабре и все еще надеется использовать интервью с ней как часть предисловия к книге, которую он пишет. Он был так уверен в этом, что попросил найти западного издателя, что я и сделал. Но в начале этого года, когда в воздухе стали раздаваться фанфары Ленинской премии, она остыла к этой затее и попросила вернуть ей ту часть, которая циркулировала по Москве. У Гинзбурга осталась только одна часть, переданная мне еще в декабре.
Прилагаю некоторые стихи Бродского, молодого ленинградского поэта, которого недавно осудили на пять лет и отправили на тяжелые работы под Архангельск. Основание – «тунеядство»; ему неоткуда ждать поддержки. В последние годы он набирал популярность, выступая со стихами в «молодежных кафе». Он писал стихи, а на жизнь зарабатывал переводами, но это не являлось в глазах окружения достаточным оправданием.
Сейчас Эренбург лично вмешался в это дело и отправил Хрущеву письмо, где написал: «Дорогой Никита Сергеевич… Времена двадцатилетней давности, когда мы отправляли таких же талантливых поэтов, как Бродский, валить лес в Сибири, возвращаются…» Насколько это верно, я не знаю. Факт в том, что Бродский сидит на Севере. (Stanford, California, USA. Gleb Struve. Box 13)
26 апреля 1964 года Струве пишет Борису Филиппову: «Вы, может быть, уже слыхали о деле молодого поэта Бродского, который был обвинен в печати как “окололитературный трутень” и “тунеядец” и приговорен к пяти годам ссылки (работает сейчас где-то в Архангельской области возчиком навоза). <…> Если не слыхали, то можете прочесть об этом в ближайшие дни в “Русской мысли”, куда я послал любопытный материал об этом деле».
5 мая парижская «Русская мысль» в материале «Дело “окололитературного трутня”» печатает два стихотворения («Рыбы зимой» и «Памятник Пушкину»), а также «Справку о деле Иосифа Бродского», доставленную в редакцию «с просьбой о незамедлительном напечатании». (Устинов А., Толстой И. Бродский против тамиздата. // Радио «Свобода». 24 мая 2015. URL:http://www.svoboda.org/a/27033961.html)
А 14 мая 1964 года следственным отделом УКГБ по г. Москве и Московской области возбуждено уголовное дело против А. Гинзбурга по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 70 УК РСФСР, т.е. по факту распространения литературы антисоветского содержания.
Основанием к этому послужило изъятие у литсотрудника редакции журнала «Комсомольская жизнь» Логиновой Н.К. книги антисоветского содержания на русском языке «Новый класс» М. Джиласа.
Логинова заявила, что взяла читать эту книгу у своего знакомого Гинзбурга А.И.
В связи с этим в тот же день в квартире у Гинзбурга был произведен обыск, во время которого обнаружили и изъяли еще 14 книг, изданных за рубежом на русском и английском языках[48].
Следствие поручено вести сотруднику следственного отдела УКГБ по Москве и Московской области старшему лейтенанту А.И. Бардину. С самого начала интерес к тому, как продвигается расследование, проявляют старший помощник прокурора Москвы Н.И. Фунтов и начальник отдела по надзору за деятельностью органов госбезопасности Г.А. Терехов – эти фамилии нам еще встретятся далее, в деле 1967 года.
Изъятие книг послужило лишь формальным поводом для обыска и последующего ареста Гинзбурга. Хотя разговоры со свидетелями действительно велись в основном вокруг книги Милована Джиласа «Новый класс», самого обвиняемого на первых допросах расспрашивали исключительно о контактах с иностранцами – Игорем Мидом и Полом Секлоча. Это, а также тот факт, что уголовное дело было возбуждено КГБ непосредственно после публикации Бродского в «Русской мысли», заставляет предположить, что истинной целью ареста было выявление канала утечки стихов Бродского на Запад. О том, что одновременно с Бродским были переданы все три номера «Синтаксиса», в органах еще даже не догадывались.
Протокол допроса А.И. Ханукова
14 мая 1964
Во время одного из посещений квартиры Гинзбурга я увидел у него книгу Милована Джиласа «Новый класс» на русском языке, изданную, как я обратил внимание, в Нью-Йорке. Книга лежала на столике, типа письменного, среди журналов. Я взял ее и стал просматривать. Не рассчитывая прочитать всю, от начала до конца, я просматривал и читал отдельные страницы. Потратил я на это не менее трех часов. Гинзбург в это время находился в комнате и чем-то занимался, возможно, что-то читал. <…>
Мнениями по поводу прочитанного с Гинзбургом мы не обменивались. На то, что не стоит дома держать книги такого содержания, Алик пожал плечами. Во время последующих посещений этой книги я у Гинзбурга не видел. Куда он ее дел, не знаю. Других книг подобного содержания не видел. Примерно в то же время видел «Доктора Живаго».
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Протокол допроса А.Р. Брусиловского
15 мая 1964
ВОПРОС: Как к вам попала книга «Ни война, ни мир»?
7 или 8 мая я был у Гинзбурга, попросил что-нибудь почитать. Он дал мне эту книгу, я положил ее в карман и мы поехали с ним к знакомому художнику. Давал и Джиласа, как раз 7-8 мая я его вернул, но прочитать не успел за то время, которое книга была у меня.
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Протокол допроса А.И. Гинзбурга
15 мая 1964
ГИНЗБУРГ Александр Ильич, 1936 года рождения, урож. г. Москвы, еврей, гр-н СССР, образование незаконченное высшее (4 курса факультета журналистики МГУ в 1960 г.), из служащих, в 1961 г. Мосгорсудом был осужден по ч. 1 ст. 196 УК РСФСР к 2 годам лишения свободы, работает токарем на Ростокинском заводе железобетонных изделий, проживает: Москва, Б. Полянка, 11/14, кв. 25.
Допрос начат в 16 час. 30 мин. -"- окончен: в 17 час. 50 мин.[49]
<…>
На предложение дать показания по существу возникшего в отношении его подозрения ГИНЗБУРГ заявил: в конце декабря 1963 года я посетил выставку "Американская графика", организованную в г. Москве на территории ВДНХ, где при первом же посещении познакомился с гидом этой выставки Игорем МИДОМ, который работал в библиотеке выставки. По-видимому, Игорь МИД русского происхождения, т.к. он владеет русским языком и кроме того он мне показывал свой альбом, в котором были фотоснимки его картин и проспекты с его выставки, где он значится как Игорь МЕДВЕДЕВ.
МИД в беседе рассказал, что он является художником нового направления популярной живописи и что у него есть в гор. Москве картины. Я попросил разрешения посмотреть эти картины и он пригласил меня к себе в номер в гостиницу "Украина". Я был у него там три раза, смотрел его картины; однажды присутствовал при моем посещении МИДА другой американец по имени Павел СЕКЛОЧА; он тоже работал на этой выставке гидом, хорошо владеет русским языком. Два других раза кроме меня и МИДА, в комнате никого не было. Были разговоры на разные темы, вспомнить их я затрудняюсь.
Увидев однажды в номере у МИДА книжку "Политическая система Соединенных Штатов", я обратил внимание на рекомендуемую для чтения литературу, указанную на задней обложке и сказал МИДУ, что хотел бы эту литературу прочитать. Он обещал что-нибудь сделать. Во время одного из посещений МИДА, он меня угостил джином и я счел своим долгом пригласить его к себе домой.
В январе 1964 г. ко мне домой приехали МИД и СЕКЛОЧА[50] и привезли книги, большая часть которых была изъята у меня вчера во время обыска. В числе привезенной ими литературы была книга Джиласа "Новый класс" на английском языке. Я МИДА и СЕКЛОЧА у себя дома угощал "старкой". <…>
Протокол мною лично прочитан. Показания с моих слов записаны правильно. Дополнений и поправок не имею. Подпись: Гинзбург
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Протокол допроса А.И. Гинзбурга
16 мая 1964
<…>
Вопрос: На допросе 15 июня с.г. вы показали, что к вам домой в январе 1964 г. приезжали американцы Игорь Мид и Павел Секлоча. С какой целью они к вам приезжали?
Ответ: С какой целью они приезжали ко мне, я не знаю, я уже показывал на допросе вчера, что пригласил их к себе домой, т.к. считал неудобным не делать этого, ибо я сам был у них в гостях в номере гостиницы "Украина".
Вопрос: Кто еще присутствовал кроме вас при посещении вашей квартиры указанными американцами?
Ответ: Во время этой встречи кроме меня, Мида и Секлоча никто больше не присутствовал.
Вопрос: Кто из них привез и передал вам книгу "Новый класс" Джиласа на английском языке и другую литературу?
Ответ: Как я уже показывал, Мид и Секлоча приехали вместе (на городском транспорте), но привез книги и передал их мне Игорь Мид. <…>
Вопрос: Когда еще приезжали к вам домой Мид и Секлоча?
Ответ: До этого случая лишь однажды Мид вместе со мной заехал ко мне и мы почти тут же вышли обратно. Секлоча был у меня дома весной этого года. Он зашел тоже не надолго… <…> Насколько я сейчас могу припомнить, во время этих приездов Мида и Секлоча никого из посторонних у меня дома не было. <…>
Вопрос: Назовите знакомых, которые собирались у Вас в квартире?
Ответ: Этого я не хочу делать, называть никого не буду.
Вопрос: С какой целью собирались у вас разные лица на протяжении 1963-64 г.г.?
Ответ: О цели их посещений моей квартиры и "сборов" у меня, мне кажется, нужно спросить этих людей. Мне же было просто интересно послушать их высказывания, проанализировать их, сделать какие-то выводы.
Вопрос: Скажите, называл Секлоча примерную дату своего приезда к вам после посещения весной этого года?
Ответ: Он мне сказал, что будет в г. Москве с 15 по 18 мая с.г. и мне позвонит по телефону. Мид по этому поводу ничего не говорил. <…>
Протокол мною лично прочитан. Показания с моих слов записаны правильно. Дополнений не имею. Подпись: Гинзбург.
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Записка начальнику следственного изолятора КГБ полковнику А.А. Трояну
16 мая 1964
Задержанного ГИНЗБУРГА Александра Ильича, 1936 года рождения из-под стражи освободить.
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КГБ по г. МОСКВЕ и МОСКОВСКОЙ ОБЛ. полковник Воронин
Верно: Бардин [Подпись]
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
16 мая Гинзбурга не только неожиданно выпускают из тюрьмы, но меняется и его статус: из обвиняемого он переведен в категорию свидетеля (при этом, правда, ему дают понять, что в любой момент он может стать подсудимым). Возможно, отчасти это было связано с названными на последнем допросе датами (15–18 мая), когда на связь с Гинзбургом перед своим отъездом из СССР должен был выйти Пол Секлоча. Однако их встреча не состоялась: Алик либо просто не ночевал в эти дни дома, либо удачно имитировал свое отсутствие.
Пол Секлоча – Глебу Струве
18 мая 1964
Гинзбург звонил мне из Москвы на праздниках, рассказывал о том, как движется дело с материалами, о которых я писал в прошлом письме. Странно, однако, что когда я позвонил ему прошлой ночью, по возвращении из Ленинграда, к телефону подошел его брат. Я спросил Сашу, но мне ответили, что не могут сейчас подозвать его к телефону. Когда я спросил, где он и что с ним, мне ответили: «Сами подумайте!» Поскольку я уезжаю уже завтра, 19 мая, у меня нет времени разобраться в этом. В одном я уверен – это не случайно. Он вел себя слишком заметно и они (КГБ) могли нас подслушивать. Это слегка нервирует меня. (Stanford, California, USA. Gleb Struve. Box 13)
Протокол допроса А.И. Гинзбурга
22 мая 1964
Допрос начат в 14 час. 05 мин. -"- окончен: в 16 час. 50 мин.
ВОПРОС: Во время обыска у вас в квартире были обнаружены фотоснимки с типографских гранок под названием «Смерч». Скажите, когда, где и при каких обстоятельствах были сделаны эти фотокопии?
ОТВЕТ: Осенью 1963 года, в октябре или ноябре месяце, от одного из своих знакомых, имя которого я не буду называть из-за честного слова, данного ему, узнал, что Галина Серебрякова, известная писательница, предоставила в редакцию газеты «Литературная Россия» черновик своей рукописи, которая должна была быть напечатана в этой газете. Гранки этой рукописи были направлены, видимо, на рецензию, и попали к моему знакомому, у которого я буквально на два часа взял эти гранки, просмотрел их и переснял на своей репродукционной установке для себя. А позже выяснилось, что эта работа Серебряковой публиковаться не будет. Поэтому я отпечатал на фотобумаге один экземпляр этого произведения и читал его, правда, я прочитал его прямо с фотопленки еще раньше, до печатания.
Никому из своих знакомых я не давал читать этот «Смерч» ни в пленке, ни на фотобумаге; никому я об этом произведении, находившемся у меня, не говорил. <…>
ВОПРОС: Почему вы во время допроса неискренне и неполно отвечаете на вопросы, не называя имен своих знакомых?
ОТВЕТ: Я на вопросы отвечаю искренне, правдиво, но не называю имен своих товарищей и знакомых, которые мне дали для ознакомления ряд произведений, потому что я дал им честное слово не говорить об этом и я не хочу, чтобы следственные органы их беспокоили.
ВОПРОС: Каким образом к вам попало «произведение» «Антология советской патологии» и что оно из себя представляет?
ОТВЕТ: Эта книжонка попала ко мне спустя примерно полгода после моего освобождения из лагеря, т.е. 21 ноября 1962 г. во время празднования моего дня рождения; кто-то мне ее подарил. Эта книжка представляет из себя бред каких-то ленинградских мальчишек, которые составили этот «сборник» из разных стихов различных людей, включив туда стихотворение известного поэта Бродского[51]. <…>
А. Гинзбург [Подпись]
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Обращение А.И. Гинзбурга в Идеологическую комиссию ЦК КПСС[52]
27 мая 1964
В настоящее время Московское управление Комитета государственной безопасности ведет следствие по делу «об антисоветской пропаганде». Я был привлечен в качестве подозреваемого, ныне меня вызывают и допрашивают как свидетеля, но мне все время дают понять, что и обвиняемым по этому делу буду я. <…>
Со мной обращаются корректно, вежливо, так что на ход следствия грех было бы жаловаться – и здесь вполне ощутимы благотворные веяния последних партийных съездов. Так что я вовсе не кляузу вам пишу, цель моего заявления другая. Хотелось бы разъяснить, что нет никаких реальных оснований для приписывания мне действий и поступков, которые, хотя и не преследуются законом, но несовместимы с моральными принципами нашей социалистической страны.
С 1960 года меня регулярно обвиняют в «антиобщественной деятельности»; пора, наконец-то, разобраться с этим. <…>
После отбытия остатка срока я лишь в результате двухмесячных хлопот был прописан в Москве к пожилой больной матери, хотя для отказа мне в прописке не было никаких оснований; из-за того, что на трудоустройство мне дали в ультимативном порядке всего три дня, я вынужден был устроиться на трехсменное выгребание нечистот и засоров городской канализации. Дурная слава, распространенная обо мне фельетоном в «Известиях», не давала мне возможности хотя бы внештатно сотрудничать в печати, что до ареста как-то у меня получалось, возможности продолжать учебу на заочном отделении университета. Социальное положение рабочего-канализатора не позволяло мне пользоваться необходимыми мне книгами в специальных библиотеках, получать и любую другую информацию, легко доступную людям, профессионально или учебно-академически занимающимся искусствоведением.
Я еще в заключении начал большую и очень для меня серьезную (я не могу судить о ее действительной ценности) искусствоведческую работу – [вместо] официальных возможностей, которые были для меня закрыты, я теперь прибегал к каким-то личным связям, пользовался личными библиотеками знакомых, при помощи друзей бывал на различных смотрах, спектаклях, концертах, выставках, предназначенных для работников искусства, журналистов, писателей. Таким образом можно было восстановить какие-то пробелы в знаниях, как-то, хотя бы неофициально, встать на уровень людей, которые были или которых я хотел видеть своими друзьями, чей авторитет много для меня значил. Нужную и интересную мне серию короткометражных французских фильмов по искусству (которая была показана на Французской выставке в Москве в 1961 году, когда я был в заключении) я достал в посольстве Франции. Я не ходил за ними в посольство, фильмы приносили ко мне мои знакомые – французские филологи, проходившие стажировку по русской литературе в Московском университете. При этом я не совершил ни одного поступка, который мог бы тем или иным образом скомпрометировать нашу страну, наше общество. Я до сих пор уверен, что интерес к искусству не может кого-либо компрометировать. Картины мы смотрели в кругу немногих знакомых с помощью узкопленочного проектора, взятого в обычном пункте проката вещей. Но это опять широко было объявлено «антиобщественной деятельностью», обо мне опять писали «Известия» («Дуньки просятся в Европу» М. Стуруа и В. Кассиса…), меня, по «рекомендации» органов госбезопасности обсуждали на цеховом собрании на заводе, приравнивая к Пеньковскому, тунеядцам, фарцовщикам, проституирующим девицам и т.п.
Собрание на заводе имело результат прямо противоположный желаемому. Я стал «героем дня», и ко мне обращались за советом и помощью, потому что приписанные мне взгляды, высказывания и действия кое-кому пришлись по душе.
Вполне понятно, что после собрания на заводе мое общественное положение не стало лучше. Вызовы некоторых моих знакомых в КГБ – разумеется – побудили их отказаться от «опасных» связей со мной. Новые ограничения, возникшие из этого для меня, вызвали мой последний «поступок», который и разбирается сейчас органами госбезопасности, и будет впоследствии, я убежден в этом, опять назван «антиобщественной деятельностью».
Я попросил гида выставки «Американская графика» достать мне, чтобы прочитать, несколько книг, изданных за рубежом на русском (я недостаточно владею английским, чтобы читать это в подлиннике). Мое знакомство с ним состоялось в результате широкой рекламы с его стороны того нового направления в живописи – «популярного искусства» – «попарта» – к которому он, художник Игорь Мид, принадлежит. О «попарте» у нас было известно очень мало из нескольких газетных заметок, как об искусстве близком к реализму и завоевывающем все новые позиции на западе. Мид принес мне некоторые из книг, которые я просил, и несколько других, по своему усмотрению. Среди других была, в частности, книга Джиласа «Новый класс» на английском языке. (Несколько позже мне случилось прочесть русское издание этого «труда». По-моему, это антибюрократический бред прожженного бюрократа, нелепое и скучное сочинение.) Чтобы не оставаться в долгу, я подарил Миду книги о русском и советском искусстве. Его же книги пролежали у меня несколько месяцев и за это время из-за моей небрежности их видели несколько знакомых. Из этого сейчас органами госбезопасности делается предварительный вывод о том, что я распространял (?!) эти книги.
Кроме того, мне предъявляются претензии, что я не называю имен своих знакомых. Но я научен горьким опытом предыдущих вызовов моих знакомых в КГБ, и не хочу, чтобы неловкое вмешательство этих органов мешало жить и работать людям, как-то связанным со мной. Ленинская справедливость восстановлена, законность торжествует, но травматические страхи еще остались, и нервы у людей тоже не из проволоки, ведь верно? Тем более, что я не преступник, не антисоветчик, не «антиобщественный деятель» (как постоянно стараются меня представить), одно знакомство с которым почти преступно или, во всяком случае, компрометирует людей, занятых на идеологической работе. И, если честно сказать, я боюсь остаться без их помощи, что для меня в моем положении будет подобно духовной смерти. Мне, кроме как от них, неоткуда больше ждать помощи. У меня возникают мысли о самоубийстве. Новое следствие отбросило всякую возможность поступить в университет, к чему я готовился весь последний год. Отбросило опять и возможность сотрудничать в печати.
Я не хочу сказать, что моей учебе и работе препятствует непосредственно органы госбезопасности. Но сам факт интереса ко мне со стороны этих органов делает меня в глазах многих организаций настоящим преступником. Печатать Гинзбурга? Принять в университет Гинзбурга? – и так далее. Иногда это говорится прямо в глаза (как год назад – зав. отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ тов. Верченко[53]), иногда внушается намеками. Очень характерен последний факт. После того, как на заводе стало известно о последнем «деле», я попросил характеристику для поступления в институт. И получил – противоположную той, какую я заслужил, характеристику, в которой нет и слова правды, такую, что и на порог института с ней не пустят. В данном случае я уверен, что это не инициатива КГБ, а чистой воды трусость заводских руководителей, нежелание отвечать за поддержку «государственного преступника».
Очередной фельетон опять поднимет непонятно кому нужный ажиотаж вокруг моего имени, и опять будут выпады с запада, которые снова сделают меня фигурой одиозной и «крамольной». Зачем это? Ведь (что самое главное) это распространенное и распространяемое мнение обо мне как о каком-то вражеском идеологическом центре, столь любезное сердцу крикунов, абсолютно не соответствует действительности. В конце концов, не могут же мои «гонители» – и следователи, и фельетонисты – не обратить внимание на то, что большинство моих знакомых (литераторы, художники, музыканты, актеры, искусствоведы, журналисты, инженеры) – не моложе, а многие и значительно старше меня, авторитетнее, солиднее, независимее. И вот среди этих людей, о которых никому в голову не придет сказать плохое, якобы ведет «антисоветскую пропаганду» (или «антиобщественную деятельность») недоучившийся токарь. Не смешно ли?
У меня несколько лет назад – сознаюсь – были разные левацкие взгляды: мне нравились абстракционизм, джаз, Шенберг, Волконский, Корбюзье; кое-что из этого мне симпатично и до сих пор. Но вкус у меня, как и у большинства моих ровесников (и тогдашних единомышленников) созрел, значительно изменились наши интересы. Мы ощущаем веяние зрелости, взрослого духа. С мальчишеством надо кончать, мне 28 лет, скоро 30. А меня поставили действительно в шизоидное положение. Поймите, тут действует такая искусственно поддерживаемая раздвоенность: интеллигент-ассенизатор. Труд и опыт – прекрасная вещь, это мне очень много дало (тем более, что трудиться я начал с шестнадцати лет, и школу кончал экстерном), но зачем мешать мне приобретать знания и использовать возможности работы по основной специальности? Раздвоение личности (в психиатрии) приводит к душевному заболеванию. Двойственность моего положения (постоянно поддерживаемая со стороны) приводит к ненормальностям и эксцессам в моем личном поведении. Я, конечно, нервничал, метался. Прочел несколько дурацких книг, завязал несколько знакомств с иностранцами. Все это с некоторого отчаяния делалось, это были развлечения висельника. Ведь создали мне это «висельное» положение, создали как повседневность! Куда мне от этого деваться? Я ищу выхода. Я не совершил ничего преступного и вправе искать выхода.
Я обращаюсь в государственные инстанции с просьбой. Разрешите мне закончить образование в университете, чтобы я мог работать по специальности – допустим, младшим редактором в каком-нибудь техническом издательстве. Мне намекают, что доучиваться на факультете журналистики я не вправе, т.к. это идеологическая специальность, но дайте хоть филологический факультет закончить, благо программа сходная. Образование – мое конституционное право, я буду настаивать на его осуществлении. <…>
Позвольте мне учиться и жить нормально – вот моя единственная просьба. И тогда тень, наброшенная на меня следователями и фельетонистами, отпадет сама собой. Я работаю токарем, премирован как токарь и как рационализатор, мне симпатична моя работа, мой станок, я искренне хорошо отношусь к заводу, к товарищам. Я постоянно оформляю стенгазету – эта форма связи умственного труда с производственным доставляет мне и чисто личное удовлетворение. Мне хотелось бы жить в духе нового, честного и свободного времени. Не надо изготовлять из меня «опасного деятеля», это никому не нужно. Надеюсь, что моя просьба будет рассмотрена. Жду ответа.
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Протокол допроса И.В. Корховой
28 мая 1964
С семьей Гинзбурга я знакома с детских лет. Наиболее близкие отношения сложились с 1958 года. Навещала мать, когда Гинзбург был в заключении.
Разговоры сводились к поэзии, живописи, вообще искусству. Мне кажется, его отношение к искусству выражалось в таком тезисе: необходимо поменьше вмешиваться административным, государственным и партийным органам в сферу искусства, не давать какие-то категорические советы, оценки, как это было, например, с книгой Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и с самим автором, которого смешали с грязью. Я эту позицию в какой-то степени разделяю.
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Протокол допроса А.И. Гинзбурга
29 мая 1964
Допрос начат в 13 час. 20 мин. -"- окончен: в 15 час. 50 мин.
<…>
ВОПРОС: Требовали у вас что-либо Мид и Секлоча взамен принесенных вам книг?
ОТВЕТ: Нет, ни Мид, ни Секлоча ничего от меня не требовали и не просили. Я им сам подарил много книг о древнерусской живописи, о русских и советских художниках.
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Протокол допроса В.В. Кожинова
12 июня 1964
<…> Иностранных книг, изданных на русском языке, у Гинзбурга я никогда не видел. Зимой 1963-64 ко мне зашел мой знакомый Чудаков Сергей, близкий товарищ Гинзбурга (который, кстати, меня и познакомил-то с Гинзбургом) и я увидел у него книгу «Мосты», изданную в г. Мюнхене. Я полистал ее и увидел статью о русском философе прошлого века Леонтьеве, заинтересовался ею и попросил Чудакова оставить мне эту книгу. Он мне ее оставил и она находилась у меня 2 дня, за которые я и прочитал эту статью. Насколько я сейчас припоминаю, я не интересовался у Чудакова, где он взял эту книгу.
[Следователь предъявляет Кожинову альманах «Мосты» № 10 за 1963 год. Кожинов подтверждает, что именно этот номер давал ему Чудаков.]
Возвращая эту книгу Чудакову, я попросил его достать начало этой статьи о Леонтьеве, так как в № 10 был напечатан ее конец. На что мне Чудаков ответил: «Тебе Гинзбург даст». Но я Гинзбурга не видел, книгу у него не спрашивал и мне никто другую книгу «Мосты» не давал.
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Протокол допроса А.И. Гинзбурга
17 июня 1964
<…>
ВОПРОС: Во время обыска у вас были изъяты шесть коробок, в которых находились фотопленки со сфотографированными на них разными произведениями. Расскажите, чьи произведения и для какой цели вы фотографировали?
ОТВЕТ: По поводу сфотографированной мною рукописи (точнее, гранок) Серебряковой «Смерч» я уже давал показания на одном из предыдущих допросов.
Подруга Веры Шитовой Инна Соловьева – критик, и по заказу журнала «Новый мир» она написала статью о произведениях Всеволода Иванова. Эту статью она дала мне почитать. Я заинтересовался ею и, т.к. мне нужно было эту рукопись отдать обратно, я сфотографировал ее, чтобы прочитать в спокойной обстановке, тем более, что я сам хотел и даже начал писать о литературе 30-х годов. Инна Соловьева была несколько раз у меня дома. <…>
Лидию Чуковскую я не знаю, кажется, это критик; однажды ко мне ненадолго заехал приятель по имени Миша (фамилию не знаю, из Ленинграда), у которого была повесть Чуковской «Софья Петровна». Повесть мне понравилась, и, чтобы оставить ее у себя, я ее сфотографировал, т.к. Миша уезжал обратно.
Бумажки с надписями к имевшимся у меня фотопленкам я прикрепил относительно недавно, поэтому название «Советская потаенная муза»[54], которое я написал на одном из клочков, прикрепленных к пленке, условно, т.к. я плохо помнил содержание произведений, сфотографированных на этой пленке. Эту книгу я брал у кого-то давно, она издана на Западе и это был мой первый опыт переснимать произведения. <…>
Чудаков Сергей Иванович – мой давний приятель и я взял какие-то его произведения сфотографировать. Он журналист, нередко печатается в «Литературной России». <…>
Максимова я не знаю; его произведение: «Дуся и нас пятеро» будет печататься в журнале «Октябрь» и в том же журнале будет печататься его «Двор посреди неба».
Повесть Платонова «Мусорный ветер», отпечатанная на машинке, сфотографирована мною. Это советский писатель, умер он лет десять назад. Насколько мне известно из разговоров со знакомыми из литературного мира, его произведения скоро будут изданы.
Произведения Бориса Вахтина – ленинградского прозаика – попали ко мне как-то случайно, с произведениями Л. Чуковской. Я их тоже сфотографировал: «Ванька-каин» и «Летчик Тютчев – испытатель». По-моему, он печатается в альманахе «Молодой Ленинград». Лично я его не знаю. <…>
Насколько мне известно, Жорес Медведев – биолог, он написал книгу для печати «Культ личности и биологическая наука»[55]. Кажется, отец Жореса Медведева был репрессирован в годы культа личности. С Медведевым я не знаком, его книгу в напечатанном виде я не видел, но отпечатанную на машинке мне дали в общежитии Литературного института. Кто мне ее дал, я не помню, но после того, как я ее прочитал, я вернул ее обратно.
Наташу Горбаневскую я знаю, она хорошая поэтесса, немного печаталась. У меня были ее стихи и я их сфотографировал.
Рейн и Найман – ленинградские поэты; я знаком с ними. Рейн выпустил две детские книжки, а Найман печатается под псевдонимом «Чаянов» в каких-то ленинградских журналах. Найман у меня не был, а Рейн бывал до 1960 года у меня дома.
Поэт Введенский умер в 1934 г.; в те годы он был одним из руководителей литературных журналов в Ленинграде. <…>
Протокол мною лично прочитан. Показания с моих слов записаны правильно. Поправок и дополнений не имею.
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Протокол допроса А.Б. Русанова
19 июня 1964
У Гинзбурга разговаривали не о политике, а о литературе и искусстве.
После Манежа и обсуждения этого вопроса в печати были разговоры и на эти темы. И я, и Гинзбург считали, что в вопросах литературы и искусства нужно предоставить больше свободы художникам, писателям, поэтам и т.д.
Но после закончившейся дискуссии по этим вопросам (совещание в Кремле, статьи в газетах и т.д.) мы все приняли как должное ее решения и больше каких-либо разговоров, расходящихся с этими решениями, не было.
Книг на русском языке, изданных за границей, я у него не видел и для меня было большой неожиданностью увидеть такую литературу при обыске, во время которого я пришел к Алику.
Гинзбург – человек неуравновешенный, экспансивный, стремящийся к популярности, результатом чего и были посещения его довольно известными писателями, журналистами и художниками.
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Сотрудники КГБ не ограничились допросами приятелей, посещавших квартиру Гинзбурга. 20 июня была допрошена некто Головина Н.М. Как можно понять из контекста допроса, именно она в марте 1963 года совершила обмен квартирой с Гинзбургами.
Столь непродолжительное знакомство не помешало ей выдать Алику следующую характеристику: «Очень несобранный, болтлив, хвастлив, со стороны матери не получает правильного направления. Хотя и галантный, любезный человек. Соседям семья Гинзбургов причиняла много неудобств из-за того, что у них собиралось много народа».
Этим же числом датирован допрос Быстрова Н.М., мастера на Ростокинском заводе железобетонных конструкций, где работал Алик. Показания мастер дает путаные: сначала утверждает, что норму Гинзбург выполнял, но затем (после того как ему озвучили характеристику с завода?) начинает жаловаться на «постоянные больничные листы» и нежелание Гинзбурга выполнять другую работу в случае простоя по основной.
Характеристика А.И. Гинзбурга, выданная Ростокинским заводом железобетонных конструкций
5 июня 1964
Тов. Гинзбург Александр Ильич родился в 1936 г. в г.Москве, по национальности еврей, образование среднее, беспартийный.
На Ростокинском заводе железобетонных конструкций работает с июня 1963 г. токарем Ремонтно-механического цеха. <…>
Норму выработки как правило не выполняет, качество продукции выпускает низкое. Это объясняется тем, что производственная работа его не интересует, квалификацию свою не повышает. Общественными делами завода не интересуется, но изредка участвовал в выпуске стенгазеты цеха.
Т. Гинзбург А.И. недостойно ведет себя в быту, нарушает нормы поведения в коммунальной квартире, в феврале 1964 г. решением товарищеского суда дома, где проживает, Гинзбург А.И. был оштрафован на 10 руб.
Общеобразовательный, технический и политический уровень не повышает.
Настоящая характеристика утверждена на заседании завкома профсоюза 1 июня 1964 г., протокол № 16.
Директор завода: Ф. Благодатский
Председатель завкома профсоюза: А. Алейников
5 июня 1964 г.
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Насчет того, что «производственная работа его не интересует» руководство, мягко говоря, привирает. Согласно выписке из трудовой книжки, Гинзбург за период работы на заводе подал минимум два рационализаторских предложения:
За рац. предложение выдано 28 руб. 62 коп. Пр<иказ> 457 от 11.12.63
За рац. предложение выдано 15 рублей Пр<иказ> 33 от 31.1.64
(Stanford, California, USA. Alexandr Ginzburg. Box 1)
Протокол допроса С.И. Чудакова
27 июня 1964
С А.И. Гинзбургом (для меня просто Сашей) я знаком очень давно, с 1955 года – мы вместе сдавали экстерн за 10 классов. <…> Гинзбург привлекал меня своими интеллектуальными увлечениями, некоторой художественной одаренностью. Были у него (как и у меня, разумеется) разные за эти годы проступки и срывы, но теперь он сделался человеком более солидным и обстоятельным. Все эти годы он – как и я – отличался симпатиями к левому искусству, к нему хорошо относились крупные и значительные художники этого круга, их хорошее отношение создало ему некоторый в этом специфическом направлении авторитет. <…>
Кроме того, он, с его очень искренней любовью к поэзии, собирал – как и все мы – всякие стихи, в книжках и неизданные, перепечатывал их. Эти стихи я у него неоднократно брал, давал ему то, что есть у меня – вообще, это нас связывало. Все это неотделимо от доставания разного рода книг, как редких и почему-либо ценных в литературном отношении, так и ожидающих своего издания, еще в машинописном виде. <…>
Я считаю, что Гинзбургу надо помочь устроиться на менее изнурительную работу – по состоянию его здоровья. Во-вторых, дать возможность докончить образование. Тогда ему вполне хватит дела в неподозрительных сферах жизни, и он не будет встревать в те сферы, которые с точки зрения комитета кажутся подозрительными. Дружеское расположение к Саше, несмотря на ряд допущенных им глупостей, я сохраняю. [Записано собственноручно.]
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Постановление следственного отдела управления КГБ по г. Москве и Московской области о прекращении уголовного дела в отношении А.И. Гинзбурга
13 июля 1964
Следователь следственного отдела УКГБ при СМ СССР по гор. Москве и Московской области лейтенант Бардин, рассмотрев материалы уголовного дела № 230
УСТАНОВИЛ: <…>
В ходе проведенного расследования не было установлено фактов распространения Гинзбургом литературы антисоветского содержания, т.к. Логинова Н.К. показала, что взяла читать книгу "Новый класс" у Гинзбурга без его разрешения; Хануков А.И. показал, что, находясь в комнате у Гинзбурга, он читал "Новый класс", однако он это делал без ведома последнего; ряд других допрошенных свидетелей, часто посещавших Гинзбурга, показали, что книг зарубежных изданий они у него не брали и не читали.
Таким образом, не был доказан и умысел у Гинзбурга на хранение литературы антисоветского содержания для ее распространения.
Гинзбург в заявлении в органы КГБ от 20 июня 1964 г. написал, что он осознает свои неправильные действия.
Принимая во внимание изложенное и руководствуясь п.2 ст.5 УПК РСФСР, –
ПОСТАНОВИЛ:
1. Уголовное дело производством прекратить за отсутствием состава преступления в действиях Гинзбурга, о чем ему объявить.
2. В связи с тем, что Гинзбург, храня у себя указанные книги, создал условия для распространения литературы антисоветского содержания, довести об этом до сведения общественности Ростокинского завода железобетонных изделий для принятия к нему необходимых мер.
3. Вещественные доказательства – принадлежащие Гинзбургу книги антисоветского содержания, изъятые из обращения, передать в спецфонд.
Настоящее постановление мне объявлено "[Дата не проставлена]" июня 1964 г.
СОГЛАСНЫ:
СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДОТДЕЛА УКГБ по г. Москве и МО – ст. лейтенант БАРДИН
НАЧАЛЬНИК СЛЕДОТДЕЛА УКГБ по г. Москве и МО – полковник юстиции ИВАНОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КГБ по г. Москве и МО – генерал-майор СВЕТЛИЧНЫЙ [Подписано его замом Ворониным]
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
После преследований со стороны КГБ, особенно с учетом той характеристики, которую подготовило для органов руководство завода, Гинзбург был вынужден уволиться с завода ЖБК и устроился в библиотеку.
Характеристика А.И. Гинзбурга, выданная Библиотекой № 7 Бауманского района г. Москвы
[1964]
ГИНЗБУРГ Александр Ильич работает в библиотеке № 7 отдела культуры Бауманского райисполкома г. Москвы в должности библиотекаря с октября 1964 г.
За время работы в библиотеке А.И. Гинзбург проявил себя как добросовестный сотрудник, хорошо справляющийся со своей работой, активный во всей жизни коллектива, хороший товарищ.
Он с большим вниманием и знание своего дела относится к читателям библиотеки, чем завоевал уважение среди читателей библиотеки.
Зав. Библиотекой № 7 Бауманского р-на Мухина
Профорг библиотеки Федотова
(Stanford, California, USA. Alexandr Ginzburg. Box 1)
Ярослав Голованов: В начале осени 1964 года главный редактор «К<омсомольской> п<равды>» Борис Панкин попросил меня написать некую документальную «шпионскую» повесть с продолжением, напечатав которую в конце года, он собирался повысить тираж газеты. Он позвонил начальнику Московского управления КГБ генералу Михаилу Петровичу Светличному, обо всем с ним договорился, там меня уже ждали. Помню, когда я обсуждал с генералом, человеком весьма проницательным и с чувством юмора, сюжет будущей повести, ему доложили, что пришел вызванный им некий Гинзбург. – Не уходите, – сказал генерал. – Вам будет интересно… В кабинет вошел чернявый молодой человек (моложе меня), небольшого роста, весь какой-то невзрачненький. Они стали беседовать на тему, мне неинтересную: диссиденты. В те годы я был верноподданным «совком», влюбленным в газету и уже отчасти нашедшим себя в своей любимой научной журналистике. Слушал я их беседу вполуха. Говорил главным образом генерал. Он долго с разных концов урезонивал этого Гинзбурга, просил его остепениться и оставить свою антигосударственную деятельность. Мне было скучно… (Голованов Я. Заметки вашего современника // Комсомольская правда. 2003. 9 июля)
Как видим, КГБ не прекратил своего давления на Гинзбурга и после формального прекращения дела, в том числе и потому, что так и не получил от него по-настоящему «покаянного» письма: ни опубликованное выше обращение в Идеологическую комиссию ЦК КПСС, ни записка следователю от 20 июня 1964 года, упомянутая в постановлении о прекращении уголовного дела, за таковое сойти никак не могли.
С покаянием Алик не спешил. Однако, часовой механизм «бомбы» в виде трех номеров «Синтаксиса», переданных в редакцию журнала «Грани», продолжал тикать. Задержка с публикацией понятна: после письма Секлочи Струве от 18 мая 1964 года, где он высказывает предположение об аресте Гинзбурга, опубликовать «Синтаксис» следом за стихами Бродского означало указать на канал, по которому эти тексты были переданы на Запад – и тем самым окончательно подвести Алика под монастырь.
Только 8 января 1965 года Струве написал редактору «Граней» Наталье Тарасовой, уже давно просившей его присылать ей рукописи из России, что получил «Синтаксис» «от самого Гинзбурга» и готов предоставить ей этот материал для журнала.
Когда о публикации «Синтаксиса» стало известно (все номера журнала были напечатаны в «Гранях» № 58[56]), Гинзбургу, по-видимому, поставили ультиматум.
Второй раз садиться за журнал, изданный более пяти лет назад, было глупо, и Гинзбург написал письмо, которое – с добавлениями, сделанными то ли редакцией газеты, то ли сотрудниками органов[57] – и было опубликовано в «Вечерней Москве» 3 июня 1965 года.
Вечерняя Москва. 1965. 3 июня
А. Гинзбург
Ответ господину Хьюгесу
Из конверта выпали сложенные вчетверо листки – оглавление какого-то толстого журнала. «Дорогой господин Алик Гинзбург, – гласила приложенная к ним записка, – если вы имеете рукописи передать за границу, – напишите по адресу…» – и затем следовал адрес некоего Лорана Хьюгеса из французского города Лиона. <…>
Нет, не такие письма хотелось бы видеть на своем письменном столе, не с лионскими резидентами эмигрантских журналов и стоящими за ними западными разведками иметь бы дело. Но, может, и по заслугам мне такие «друзья»… Перебираешь жизненные факты, сопоставляешь, складываешь. Где же сошел ты, Александр Гинзбург, с пути, по которому идет советская молодежь? Как получилось, что твое имя вот уже не первый год треплют редакции «Штернов» и «Шпигелей», «Граней» и «Посевов», что твое имя стало козырем в руках у идеологов Запада, специализирующихся на антикоммунизме? Тебя же растили и воспитывали советским человеком, ты учился, работал, думал… Но всегда ли серьезно задумывался?
Кажется, все началось с переоценки собственной личности. Я решил посвятить себя изучению литературы. Мне далеко не все было ясно. Как неопытный археолог, копаясь в верхних слоях, находит лишь закопанные браконьерами кости, так и мне часто попадались лишь поздние отложения. Нужно было перечитать горы книг, найти и раскрыть для себя действительные сокровища. А я продолжал восхищаться любым экспериментом, даже пятидесятилетней давности.
Шли годы, я знал уже десятки возможных «путей» в поэзии и свое мнение отстаивал с апломбом крупного специалиста. Потом затеял издание машинописного журнальчика «Синтаксис» (так звали собачку из чеховского рассказа). По сути это была любительская перепечатка на машинке нравящихся мне стихов, которые, на мой взгляд, должны были сами за себя говорить. Это была приятная затея, особенно для тех, чьи плохие (увы, их было много) стихи были напечатаны рядом с чьими-нибудь хорошими.
Одно цеплялось за другое, несерьезное отношение к литературе, которую я считал своим призванием и профессией, переходило и на этические нормы, приводило к недостойным поступкам. За подлог я был осужден на два года.
<…> Я, видимо, показался западным пропагандистам вполне подходящим для этого человеком. Сотворив вокруг меня ореол после моего возвращения из тюрьмы, они решили, вероятно, за неимением лучшего, использовать меня в качестве одного из винтиков своей машины.
И все шло, как им казалось, успешно. Меня приглашали на просмотр французских фильмов, я читал английские и американские книжки, встречался с иностранцами. А машина за моей спиной работала, не переставая.
<…>…И вот эпилог: на моем столе письмо от господина Хьюгеса. Сознаюсь, письмо я в злости порвал и остался без лионского адреса. Отвечая через газету (надеюсь, она попадет в руки г-на Хьюгеса), я вынужден удерживаться от некоторых крепких выражений, которыми не постеснялся бы наградить моего корреспондента в личном письме.
Но несколько сдержанных советов хочу ему дать.
Не надейтесь на какую-либо поддержку в Советском Союзе. Советский патриотизм – не пропагандистская выдумка, а неоднократно подтвердивший себя факт, испытанная сила.
Не спекулируйте на интересе к искусству Запада. Мы хотим знать все, но оставляем в душе лишь близкое нам по мировоззрению.
Не играйте судьбами живых людей. Слава борца за западное гнилье – слава прокаженного.
На сем прощайте,
А. Гинзбург
Почти сразу на публикацию в «Вечерней Москве» отреагировали в журнале «Посев» (номер от 6 августа 1965 года), официальном органе Народно-трудового союза российских солидаристов (НТС): «Из письма А. Гинзбурга всякому становится ясно, что он был посажен в тюрьму не за “подлог”, как он сам пишет, а именно за распространение подпольного журнала “Синтаксис”, а главный грех редакции “Грани” заключается в том, что “на свет вытаскивается подпольный литератор, подпольный общественный деятель”».
Оскар Рабин: А «Письмо Хьюгесу» – ну, заставили они его, конечно, написать. На самом деле очень сложно выдержать давление органов. Да и что он там уж такого написал? Ничьих фамилий не называл, даже этих американцев, которые, к тому же, давно уехали. Мид и Секлоча. Это ведь и мои знакомые, авторы первой книги про советское неофициальное искусство, про Лианозово[58]. В 60-е она вышла, довольно толстая, с моей картиной на обложке. (Интервью составителю. Июнь 2016)
Павел Литвинов: Письмо это вызвало большое удивление у друзей Гинзбурга и, по-видимому, послужило источником мучительных переживаний для него самого. Для него очень важна была возможность показать всем, и прежде всего себе самому, что в действительности он не изменился и сохранил верность своим прежним взглядам о необходимости творческой свободы. (Процесс четырех: Сборник документов о суде над А. Гинзбургом, Ю. Галансковым, А. Добровольским, В. Лашковой / сост. П. М. Литвинов. Амстердам: Фонд им. Герцена, 1971)
Публикация этого письма вызвала не только удивление, но и более бурную реакцию, в частности, Владимира Буковского. Не будучи на тот момент лично знаком с Гинзбургом, Буковский пришел узнать его адрес у Алены Басиловой. По словам последней, она сама отвела Буковского к Алику, причем в процессе состоявшегося напряженного разговора дошло до рукоприкладства: «Я разнимать бросилась, получалось, что я привела бандита. Но Алик вдруг меня останавливает и говорит: “Не надо, он прав”. Я обиделась на Буковского. Как тебя знакомить с людьми, если ты такой дикий»[59].
Последствия публикации письма еще долго аукались Алику. Даже год спустя за ним тянулся этот шлейф.
Андрей Сахаров: …В середине 1966 года ко мне пришел [Эрнст] Генри с номером «Вечерней Москвы», в котором была заметка о «покаяниях» Гинзбурга (или сами покаяния). Генри явно хотел мне внушить, что с таким человеком, как Гинзбург (о котором я до сих пор ничего не слышал), нельзя иметь дело, нельзя за него заступаться. Чья это была инициатива, я не знал. Но я решил игнорировать это предупреждение. (Сахаров А. Воспоминания. М.: Время, 2006)
Единственным плюсом «Ответа господину Хьюгесу» стало то, что Гинзбургу наконец разрешили поступить на вечернее отделение Историко-архивного института.
Характеристика А.И. Гинзбурга, выданная ВНИИС при Совете Министров СССР
24 мая 1966
Тов. Гинзбург Александр Ильич, 1936 г. рождения, работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте стандартизации комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР с 30 августа 1965 по 16 мая 1966 г., в должности ст. лаборанта отдела исследования операций.
За время работы во ВНИИС тов. Гинзбург А.И. вел библиографическую и реферативную работу. Им был составлен для нужд отдела англо-русский словарь терминов по исследованию операций и математической экономике. Тов. Гинзбург знаком с сетевым планированием и методами линейного программирования.
Тов. Гинзбург аккуратно относился к технической работе. Активно участвовал в общественной жизни отдела.
Характеристика дана для поступления в Вуз.
Зам. директора ВНИИС В. Седов
Председатель месткома В. Кавешников
(Stanford, California, USA. Alexandr Ginzburg. Box 1)
Павел Литвинов: Он был безумно талантлив. Как-то раз он решил поступать на экономический факультет и попросил мне дать ему несколько уроков математики. Я говорю: Алик, ты же кончил школу так давно, ты же ничего не помнишь из математики. Однако начал с ним заниматься. После трех уроков он уже был готов поступать, ну, не на мехмат, но в очень приличный инженерный вуз. У него были просто колоссальные способности, великолепная память. Но главным в нем было то, что он создавал вокруг себя этот вихрь жизни, который увлекал других людей, который изменил и мою жизнь. (К 70-летию со дня рождения Александра Гинзбурга. Газета «30 октября». М., 2007. № 70)
Фрида Вигдорова – Александру Гинзбургу
12 мая 1965
<…> А у вас сейчас – время накопления. Не бездействия, не вынужденного «взгляда со стороны», а мысли и накопления. Я не утешаю, не объясняю: знаю.
Ф.В. 12.5.65, больница
(Stanford, California, USA. Alexandr Ginzburg. Box 1)
Александр Гинзбург: Знаете, была такая замечательная женщина, Фрида Вигдорова, писательница, которой, кстати, посвящена «Белая книга по делу Синявского и Даниэля». Однажды я ей написал, что у меня странное ощущение, что я нахожусь в провале, не могу ничего делать. <…> И она мне ответила: это совершенно естественно, идет период накопления. Я ей тогда поверил и потом много раз в этом убеждался. (Гохман М. История в лицах: Александр Гинзбург // Лица. М., 1998. № 3)
Глава 6
Сборник по делу Синявского и Даниэля
Александр Гинзбург: Я с этим делом столкнулся в первый раз, если не ошибаюсь, 9 сентября 1965 года. Я встретил на улице Марью Васильевну Розанову, жену Синявского, и она сказала мне, что Андрей арестован. Она не сказала мне ни – за что, ни – почему. Где-то через неделю я узнал от нее же, что он арестован как писатель Абрам Терц. Я знал Синявского давно, но мы не были близкими друзьями. Ну, была разница в положении: он профессор, он один из самых ярких критиков «Нового мира», а я, в общем, маленький журналист с не законченным университетом и немного скандальной репутацией. Хотя в пересечении наших судеб была такая смешная деталь. Когда шло следствие в 1960 году о «Синтаксисе», то, чтобы меня выгородить, Наташа Горбаневская записала в протоколе, что «Синтаксис» «не может быть чем-то преступным – он понравился даже Синявскому». Потом, когда я вернулся в 1962 году, меня вскоре после этого пригласил Андрей Донатович и очень подробно расспрашивал о том, как шло следствие. И буквально в тот же день или через несколько дней кто-то из друзей спросил меня, не знаю ли я, кто такой Абрам Терц. А я ничего Абрама Терца до тех пор не читал. Ну, после такого вопроса я, естественно, постарался раздобыть и прочитать. Но у меня никак Андрей Синявский и Абрам Терц не идентифицировались[60]. И вот через неделю примерно после его ареста я узнал, что Синявский и есть тот самый Абрам Терц.
Потом – очень нескоро – где-то через месяц-полтора, появились сообщения зарубежного радио об этом аресте и о предстоящем процессе. Причем сообщения были очень путанные. Тогда еще нас очень мало знали на Западе и путали совершенно всё. И, наконец, приближается февраль, приближается суд. Было абсолютно необыкновенным явлением, что до этого суда 70 советских писателей, вполне благопристойных, подписали заявление в защиту в защиту Синявского.
Тогда же произошла, в декабре 1965 года, первая демонстрация в защиту гласности, демонстрация на Пушкинской площади. И все это как-то подготовило нас к этому процессу. (Документы и люди. Ведущая А. Федосеева [Александр Гинзбург о создании «Белой книги»] // Радио «Свобода». 28 февраля 1981)
5 декабря 1965 года в 6 часов вечера на Пушкинской площади в Москве, у памятника поэту, несколько десятков человек провели манифестацию. Над толпой демонстрантов были подняты бумажные плакаты. На одних было написано: «Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем!» Содержание других плакатов призывало «уважать Конституцию» и требовало освободить из психбольниц нескольких молодых людей, насильственно помещенных туда в связи с их участием в подготовке этой демонстрации.
Митинг стал первой подобной публичной акцией, состоявшейся в Москве (и, по-видимому, в стране) за несколько десятилетий.
Интервью с Александром Гинзбургом:
– Вы были на демонстрации 5 декабря 1965 года?
– Да.
– И вы были с демонстрантами?
– Да. Только меня не хватали, потому что я не орал ничего.
– Вы о ней узнали задолго до события?
– Как это задолго? Я был, в общем-то, одним из первых, кто узнал.
– И как вы к этой идее отнеслись?
– С удовольствием. Я вообще любил все, что придумывал Александр Сергеевич [Есенин-Вольпин].
– Вы, конечно, не отговаривали его устраивать митинг?
– Абсолютно не отговаривал. Это была хорошая идея.
– А вы не считали, что там всех похватают, попрячут, посажают?
– Посажают – нет, но похватают – да. Что и произошло на самом деле.
– Интересно, сколько, по-вашему, там было демонстрантов, а не наблюдателей?
– Демонстрантов было человек пятьдесят. Ну, может быть, чуть больше. Всех остальных было примерно столько же. Людей, так сказать, противоположного лагеря.
– Вы заметили людей, которые пришли посмотреть на это и стояли в сторонке?
– Дело в том, что я тоже не стоял с лозунгом.
– Но вы стояли в той кучке, которая демонстрировала?
– Да.
– Вас не забрали?
– Нет.
– Какие лозунги вы помните?
– Я помню, как Галансков залез на эту самую хреновину, на парапетик, и закричал: «Граждане свободной России!..» Тут его понесли за ноги.
– Он был тоже без лозунга?
– Он был без лозунга. Я сейчас не помню, у кого там были лозунги.
(5 декабря 1965 года: в воспоминаниях участников событий… М.: Изд-во «Звенья», 2005)
Александр Гинзбург – А.Н. Косыгину
Декабрь 1965
Уважаемый Алексей Николаевич!
Я обращаюсь к Вам как к главе Правительства по вопросу, который волнует меня уже несколько месяцев. 5 декабря, в День Конституции, я убедился, что не только я, но и еще сотни людей обеспокоены судьбой арестованных в сентябре органами КГБ писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля.
Арест Синявского и Даниэля поднимает целый ряд вопросов, решение которых относится к сфере деятельности главы Правительства.
1. О сущности понятия «антисоветская пропаганда» и применении этого понятия.
Синявский и Даниэль, которым предъявляется обвинение в том, что они печатались за рубежом под псевдонимами Терц и Аржак, могут быть привлечены к суду по ст. 70 УК РСФСР об антисоветской пропаганде. Что же такое антисоветская пропаганда на 49-м году существования советской власти?
Я ставлю этот вопрос потому, что сам дважды привлекался по этой статье, и оба раза следствие сводилось к тому, чтобы убедить меня, что мои действия направлены против советской власти. К концу первого следствия (в 1960–61 гг.) я готов был согласиться с этим, так как советская власть в трактовке следователя (старшего следователя по особо важным делам КГБ при СМ СССР майора Ушакова) выглядела лишь машиной насилия над личностью. Последующие годы убедили меня в ограниченности этой трактовки. В частности, почти все стихи, изъятые у меня при обыске и оставшиеся в архивах КГБ как антисоветские, были опубликованы в советской печати – в журналах, газетах, поэтических сборниках.
Второе следствие (1964 г.) уже не могло не принять во внимание определенных сдвигов в сфере идеологии и ограничилось пресечением моих контактов с иностранцами. Результатом его было публичное самобичевание, опубликованное в «Вечерней Москве» 3 июня 1965 года под названием «Ответ господину Хьюгесу». Следователю удалось убедить меня в том, что вредно, если на Западе тебя считают оппозиционером.
Нелепость публичного ответа на письмо, полученное за два с лишним года до этого, не смутила сотрудников КГБ, активно помогавших в написании и опубликовании этой статьи.
Сдвиги произошли и после 1964 года. Ранние «антисоветские» произведения становились вполне советскими и достойными печатания, менялось и отношение к контактам с западным миром.
Вот это и ставит вопрос о временности понятия «антисоветская пропаганда». Критика отдельных недостатков снизу – антисоветская пропаганда. Дошедшая доверху и воплощенная в решениях съездов и пленумов КПСС та же критика тех же недостатков – направляющая линия жизни страны. Снизу – «призыв к подрыву или ослаблению советской власти», сверху – «укрепление мощи советского государственного строя».
Закон же незыблем и неотвратим. Человек, раньше других поднявший голос в защиту чести и достоинства своей страны – государственный преступник, «правильно» осужденный по «духу и букве закона», «заслуженно» несущий кару. До сих пор находятся в заключении люди, протестовавшие против фальсификации истории КПСС, против злоупотреблений Н.С. Хрущева и других давно осужденных действий государства.
Итак, если следствию удастся убедить Синявского и Даниэля, что их произведения направлены против ныне принятых положений партии, то им суждено «пересидеть» все пересмотры этих положений.
2. О применении понятия «антисоветская пропаганда» к художественной литературе.
Я знаком с повестью Терца «Суд идет», сборником «Фантастические повести», статьей «Что такое социалистический реализм», с повестью Аржака «Говорит Москва». Я знаком еще с рядом произведений, в разное время вызвавших негодование КГБ и связанную с этим негодованием конфискацию их. Я не могу найти этому «негодованию» иную причину, нежели небанальность подхода авторов к действительности и ее литературному воплощению. Пример тому – «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака – книга великая, заслуженно удостоенная Нобелевской премии (повсеместное изъятие этой книги, очевидно, одна из частных задач КГБ).
Возможно, в действиях Синявского и Даниэля есть нарушение какой-то добровольно взятой на себя обязанности. Возможно, в Уставе Союза советских писателей, членами которого они, кажется, являются, имеется другое толкование понятия «социалистический реализм», нежели в статье Синявского. Может быть, повесть «Говорит Москва» написана в нарушение каких-то изложенных в этом Уставе правил. Кажется, использование псевдонима должно быть зарегистрировано в писательской организации.
Нарушение этих обязанностей – безусловно проступок. Но он полностью находится в компетенции Союза писателей, если они его члены, КПСС, если они члены партии, любой добровольной организации, вступив в которую они нарушили ее правила. Но к государству (а ст. 70 УК предусматривает преступление против государства) их действия не имеют отношения. Тот факт, что они родились в Советском Союзе, еще не отнимает у них права на самостоятельность мышления. Верность убеждениям, свое понимание пользы страны не являются монополией тех, кто стоит у власти. Синявский и Даниэль имеют право и на гнев, вызванный преступлениями прошлых лет, и на любовь к прошлому, и на свое понимание будущего страны. Литературная деятельность Синявского в своей стране (статьи в «Новом мире», книги о Пикассо и поэзии первых лет революции, вступительная статья к сборнику стихов Б.Л. Пастернака) доказывает право Терца на свое толкование, скажем, социалистического реализма.
Следовательно, единственно правильным (но, увы, до сих пор не применявшимся) решением было бы рассмотрение этого дела не судебными, а общественными – писательскими, партийными, профсоюзными организациями. К счастью для литературы, эти организации обладают не сетью исправительно-трудовых лагерей, а лишь продуманной и теоретически обоснованной системой общественного воздействия.
3. О роли КГБ в общественной жизни страны.
Время сейчас, конечно, не сталинское, но и сегодня КГБ является серьезным тормозом на пути развития общественных форм жизни. Последний пример тому – «участие» сотрудников госбезопасности в мирной демонстрации 5 декабря на Пушкинской площади. Попытки развернуть лозунг с требованием гласности по делу Синявского и Даниэля или лозунг «Уважайте Конституцию», попытки сказать то же самое (не больше) вслух неизменно кончались скручиванием рук и увозом в ближайшее отделение милиции или штаб народной дружины. За всем этим не без удовольствия следили ответственные работники Московского управления КГБ.
Это лишь последний, самый свежий факт. Если же смотреть глубже, то как, если не вмешательством в общественную жизнь, можно назвать арест Синявского и Даниэля и уже трехмесячное содержание их под стражей?
Если факт их авторства установлен и их собираются судить за содержание их произведений, то нет никакой нужды держать их в заключении до суда. Если даже считать, что их произведения подпадают в данный момент под действие ст. 70 УК, то все остальные их действия (например, использование псевдонимов, или пересылка рукописей заграницу) не преследуются советским законодательством. Многомесячное заключение в одиночной камере (знаю по собственному опыту) крайне вредно сказывается на человеческой психике.
Заключение Синявского и Даниэля и полное отсутствие гласности по этому делу (как и по большинству дел КГБ об «антисоветской пропаганде») не дают возможности общественности самостоятельно судить о действиях обвиняемых и как-то контролировать законность действий КГБ, которую в данном случае грех не поставить под сомнение.
4. О следовании международным соглашениям.
Статья 19 «Всеобщей декларации прав человека», принятой ООН и подписанной в 1948 году и Советским Союзом, гласит:
«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».
Не имеют ли эти слова непосредственного отношения к случаю с Синявским и Даниэлем?
Я считаю своим правом и долгом обратиться к Вам с этими вопросами. Я далеко не убежден, что и они не будут признаны антисоветскими. Моя неуверенность достаточно обоснована. Меня можно привлечь и осудить и за пользование иностранными источниками информации (я слушаю зарубежное радио, так как о деле Синявского и Даниэля в нашей стране до сих пор ничего не напечатано), и за знакомство с книгами этих авторов и одобрение их, и за участие в демонстрации 5 декабря, если кому-нибудь придет в голову назвать ее антисоветской, и за высказывание вслух того, о чем я пишу в этом письме.
В тридцать седьмом, сорок девятом и даже в шестьдесят первом годах сажали и не за такое.
Но я люблю свою страну и не хочу, чтобы очередные непроконтролированные действия КГБ легли пятном на ее репутацию.
Я люблю русскую литературу и не хочу, чтобы еще два ее представителя отправились под конвоем валить лес.
Я уважаю Андрея Синявского – замечательного критика и прозаика.
(Белая книга по делу А. Синявского и Ю. Даниэля / сост. Александр Гинзбург. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1967)
Письмо, судя по всему, было перехвачено КГБ и по адресу не дошло (или дошло, но было спущено из приемной Косыгина в КГБ для разбирательства). Об этом свидетельствует ответ Гинзбурга на следствии в 1967 году: «Поскольку мое письмо о деле Синявского и Даниэля, направленное мною на имя Председателя Совета Министров СССР, по адресу не поступало, то откуда об этом письме знал сотрудник КГБ, беседовавший со мной в феврале-марте 1966 года? Этого сотрудника звали Владимир Павлович».
Александр Гинзбург: Процесс был в какие-то невероятно холодные дни. Он происходил в Московском областном суде, то есть судил Верховный суд, но в помещении Московского областного, около московского зоопарка, и там поблизости не было буквально никакого местечка, чтобы забежать погреться – а нас, естественно, никто на суд не пустил. Туда к суду пришло в первый день с утра человек 50–60. Там я как раз и познакомился, например, с Людой Алексеевой. Там встретились – непосредственно вот около этого суда – несколько кругов, которые внутренне были близки друг другу, но до тех пор никак не связаны между собой. <…> И мы вместе бегали к зоопарку в какое-то кафе отогреваться, потом возвращались, а после того, как кончился этот первый день и из зала суда вышли Лариса Богораз и Марья Васильевна Синявская, мы их окружили и поехали вместе в один из дружеских домов. И там мы впервые услышали интересные подробности об этом деле, там впервые была сделана попытка записать этот процесс, по непосредственным прямым воспоминаниям. (Документы и люди. Ведущая А. Федосеева [Александр Гинзбург о создании «Белой книги»] // Радио «Свобода». 28 февраля 1981)
Это был некий круг, существовавший в Москве с конца 50-х годов. Постепенно он, к сожалению, почти сошел на нет, в основном потому, что большинство его участников умерло. Это была компания бывших зэков сталинских времен. В этом кругу (достаточно, впрочем, широком) десятки людей хорошо знали друг друга. Сюда практически невозможно было попасть просто так, если ты сам не прошел через тюрьму или лагерь. Я познакомился с этими людьми в 1962 году, после своего первого срока. Понятно, что именно здесь в феврале 1966 года с особым интересом обсуждался первый (полузакрытый) политический процесс, на котором судили двух писателей.
Помню как сейчас, одну из квартир писательского дома у метро «Аэропорт» в дни процесса и сразу после него. Люди собирались здесь каждый день, чтобы своими глазами увидеть и прочитать то, что доходило до нас из зала суда.
Это были кипы машинописных листов – запись допроса обвиняемых и их свидетелей, речи адвокатов, последнее слово подсудимых. А кто-то приносил то, что удавалось достать в самиздате – письма протеста, петиции, обращения. Все это читали вслух, часто тут перестукивали на машинке и потом до хрипоты обсуждали в табачном дыму за чашкой просевшего чая. <…>
Я тоже ходил туда каждый день – у меня, помимо живого интереса, была еще и своя задача – я собирал все документы о процессе Синявского и Даниэля, чтобы составить потом «Белую книгу» (в те дни я уже твердо решил это сделать). (Гинзбург Ал-др. Двадцать лет назад… // Русская мысль. 1986. 14 февр.)
Нам очень сильно повезло еще в одном: на следующий день этому суду были посвящены несколько статей в советских газетах. И, когда рядом мы клали ту запись, которую сделали накануне вечером – и вот эти советские газеты, мы видели, как эти материалы, какое сильное впечатление они производят вместе. И в это самое время, непосредственно в дни суда, появилась идея книги об этом процессе.
До этого была запись судебного процесса, произведшая на нас очень сильное впечатление – это запись о суде над поэтом Бродским, которого обвиняли в тунеядстве. Ее сделала Фрида Абрамовна Вигдорова. Но это была отдельная запись процесса. А тут скопилось сразу довольно много материала. Ну, во-первых, письма, которые писали в разные следственные и государственные органы друзья. Во-вторых, к этому суду, к зданию суда – тоже почти впервые – пришли иностранные корреспонденты. И уже потом, когда суд кончился, от этих корреспондентов, с которыми мы познакомились там, мы получили довольно много материалов из зарубежной прессы, буквально с момента ареста. Из всего этого материала и выстраивалась книга. (Документы и люди. Ведущая А. Федосеева [Александр Гинзбург о создании «Белой книги»] // Радио «Свобода». 28 февраля 1981)
Марья Розанова: Но подружилась я с Гинзбургом, когда он начал собирать документы для своей «Белой книги». Это было опасное и героическое предприятие. И вот тогда я смогла по-настоящему оценить его умение работать. На это было приятно смотреть. Тогда, в 66-м году, Алик работал ночным сторожем в библиотеке Литературного музея. Должность у него была такая: в 6 часов вечера сотрудники расходятся, библиотека опечатывается, и ночному сторожу достается маленькая комната, своего рода секретарская, с двумя пишущими машинками и телефоном, чтобы в случае чего вызвать милицию или пожарных, смотря по обстоятельствам. Но «обстоятельством» Гинзбурга в это время была «Белая книга». И вот, принимая дежурство, Алик запирался и обзванивал всех, кто был ему нужен и кому надлежало прийти, принимал людей, раскладывал документы, печатал на машинке – словом, у него начинался настоящий рабочий день. А утром приходили сотрудники библиотеки, и ночной сторож сдавал им дежурство. (Служить добру – Александр Гинзбург [Интервью с А. Синявским и М. Розановой] / беседовал К. Померанцев // Русская мысль. 1979. 7 июня)
Вера Лашкова: Где и при каких обстоятельствах познакомились – это самый любимый вопрос на допросах. Юрка [Галансков] мне сказал, что у него есть знакомый, который ищет человека помочь, и пояснил – для чего именно. Поскольку я о процессе Синявского знала, конечно, то охотно согласилась. Мы встретились вечером на улице. В конце Якиманки стоял Казанский собор[61], большой краснокирпичный собор – туда [в 1920-е] ходила Юркина мама, вот около него. Юра нас познакомил. Мы сразу пошли на Полянку, где Алька с мамой жил. Дом этот до сих пор стоит, в глубине, двухэтажный.
Помню, Алька попросил Людмилу Ильиничну накормить меня получше. Старушка почти сразу вынесла огромного размера кастрюлю с макаронами, сказав: «Ну, ешь!» Алька вообще все время заботился обо мне, приносил еду. О деньгах же речи не было изначально. (Интервью составителю. Февраль 2016)
Анатолий Краснов-Левитин: Встретился я с Аликом Гинзбургом… у своей духовной «доченьки» Веры Лашковой. Захожу я в 1966 году к ней на Кропоткинскую – надо было что-то отпечатать. Во время нашего разговора приходит молодой парень в полушубке («москвичке»), говорит спокойно, литературным языком… Приветливо улыбается, протягивает руку: «Гинзбург».
Я (невольно): «Как, издатель “Синтаксиса”?»
Он: «Какой там “Синтаксис”? Здесь дела завариваются почище “Синтаксиса”!» <…>
Это была весна 1966 года, и вся Москва ходуном ходила по поводу дела Синявского и Даниэля. (Краснов-Левитин А. Ненужное зачеркнуть // Новое русское слово. 1977. 4 сент.)
Вера Лашкова: Тогда у меня с Аликом дружбы как таковой не было. С Юркой мы дружили, со смогистами кореша были. А с Аликом мы никогда не встречались просто так, только по делу. Между нами все-таки и возраст был, и он другого опыта человек, так что просто «пойдем, погуляем» – такого не было. Если бы мы не сошлись для конкретного дела – возможно, и вовсе бы не пересеклись. Вообще, он производил впечатление человека занятого – он учился тогда? Или работал? Учился, по-моему – в архивном, на заочном. Так что посиделок каких-то не было. Он приходил, что-то приносил, что-то забирал – вот и всё. Были какие-то общие знакомые. Но у Алика были такие широкие круги общения… (Интервью составителю. Февраль 2016)
Александр Гинзбург: С Вадимом [Делоне] мы познакомились за полгода до того, как я начал сидеть во второй раз. Это было время расцвета литературной группы СМОГ. У Вадима, кроме литературных забот, была еще определенная функция: он был на связи с диссидентами. Время от времени он приходил в Литературный музей к Юре Галанскову. А мы с Юрой работали в Литературном музее рабочими. <…> К разным акциям, вроде демонстрации у Центрального Дома литераторов, устроенной смогистами[62], я отношения не имел, занимался своим делом – писал. А Юра любил организовывать молодежь, как и Володя Буковский. Мне гораздо интереснее было видеть эту молодежь в их литературных проявлениях, когда они читали стихи. Возле площади Маяковского существовало замечательное место, дом, где жила молодая красивая женщина, Алена Басилова, в которую был влюблен признанный лидер СМОГа Леня Губанов. Я тоже приходил туда послушать стихи. (Крохин Ю. Что осталось за кадром // Сайт Юрия Крохина URL:http://yurikroh47.narod.ru/Krohin-kadr.htm)
Протокол допроса А.И. Гинзбурга
19 сентября 1967
В июне 1966 года мой знакомый, назвать которого отказываюсь, сообщил мне, что в Москву прибыл швед, который желает встретиться со смогистами и в связи с этим он (мой знакомый) просил узнать адрес Губанова. Я пошел к Басиловой – жене Губанова уточнил их адрес местожительства и по собственной инициативе спросил Губанова о его согласии на встречу со шведом. Тогда же я по собственной инициативе дал для прочтения Губанову имевшийся у меня журнал «Грани» в виде «Сфинкса» со стихами и несколько вырезок из зарубежных газет со статьями о смоге на иностранных языках. Губанов просмотрел «Сфинксы», изданные журналом «Грани» и возвратил мне. Показывая «Сфинксы» Губанову я хотел узнать, действительно такой журнал «Сфинксы» издавался смогистами в нашей стране и именно ли он издан за рубежом. Губанов мне это подтвердил. Вырезки из иностранных газет Губанов оставил у себя. Я их передал ему, так как они мне были не нужны. Дело в том, что, собирая материалы для книги о деле Синявского и Даниэля, я из иностранных газет брал отклики об этом деле, переводя их на русский язык. При этом вырезал несколько статей из иностранных газет, считая, что в них идет речь о процессе над Синявским и Даниэлем, но затем увидел, что там речь идет о СМОГе и отложил их как ненужные. Идя к Губанову, я захватил с собой и эти вырезки из газет, чтобы дать ему их для ознакомления, если его это заинтересует. Доподлинно содержания этих статей я не знал и мне не было известно, что они содержат клеветнические измышления, так как этих статей я не переводил на русский язык, хотя отдельные статьи на английском языке и мог перевести. (Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)
Арина Гинзбург: Он никого в это дело особо не втягивал. При этом – сумел собрать материалы зарубежной прессы, ни на кого не наведя, а там ведь были материалы не только на основных языках – английском, немецком, но и голландские, например… По английскому работала целая команда во главе с Павликом Литвиновым – Рокитянский (его все тогда звали «Швейк»), другие…
А как это все доставалось! – еще отдельная история. Лена Зонина, переводчица при иностранных делегациях, была дружна с Сартром. И вот Лена попросила Сартра – а тот поручал это своему секретарю – проглядывать западные газеты на предмет заметок о процессе Синявского-Даниэля. Как уж он потом передавал – я не знаю, но, во всяком случае, один из источников информации был такой. Да и Паша Литвинов мог получать прессу через бабушку – Айви Вальтеровна сохраняла связи с английскими писательскими кругами…
Алик все это собирал, обобщал, один – тихо, без суеты, без спешки, спокойно. Дом был совершенно открытый, теплый, Людмила Ильинична любила принимать гостей, угощать кофейком… А Алик сидел в своей отгороженной части комнаты и составлял сборник. (Интервью составителю. 2016, 2017)
Павел Литвинов: Я стал бывать у Алика и его мамы, Людмилы Ильиничны. Постепенно, где-то в 1966–67 году, этот дом стал для меня своим. В это время уже шел процесс Синявского и Даниэля. И Алик начал собирать документы. Однажды я пришел к нему, а он говорит: ты же говоришь по-английски? – Нет, говорить не говорю. Я могу читать. – А переводить можешь? – Письменно могу. И тут он мне приносит огромную пачку иностранных газет, штук, наверное, 50. – Здесь в каждой газете есть статья о деле Синявского и Даниэля. Через две недели надо их перевести. – Алик, я не смогу! – Ну, попробуй, хоть сколько-нибудь. У меня был круг друзей – Володя Рокитянский, Миша Лебедев – мои университетские друзья. Все мы немножко подзарабатывали переводами патентов. И начали переводить. Действительно, не через две недели, а через два месяца мы штук пятьдесят статей перевели. Не знали для чего. Алик попросил, он сообразил, что я – тот человек, которому это можно поручить. Впоследствии фрагменты этих статей вошли в «Белую книгу». Так тихо его колоссальная энергия и энтузиазм каждому находили место. (К 70-летию со дня рождения Александра Гинзбурга. Газета «30 октября». М., 2007. № 70.)
Анатолий Краснов-Левитин: Самым ярким произведением тогдашнего Самиздата надо… считать «Белую книгу» Гинзбурга. Я до сих пор не понимаю, как ему удалось в такой короткий срок, в советских условиях, где люди живут отгороженными от внешнего мира, собрать такое количество фактического материала. Книга эта – неоценимый клад для историка. (Краснов-Левитин А. Ненужное зачеркнуть. // Новое русское слово. 1977. 4 сент.)
Процесс Синявского – Даниэля и демонстрация 5 декабря 1965 года показали властям, что действующая конституция может служить отличным «щитом» для выступлений инакомыслящих. 15 сентября 1966 года Политбюро одобряет три новые дополнительные статьи в УК РСФСР, в том числе статью 190(1) – «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» (до трех лет тюрьмы).
Петр Григоренко: Статьи эти обеспокоили всех настолько, что группа писателей, академиков и старых большевиков обратились в Верховный Совет с просьбой не принимать эту поправку к Уголовному кодексу. В числе подписавших это письмо были даже такие известные люди, как композитор Шостакович, академики Астауров, Энгельгард, Тамм, Леонтович, кинорежиссер Ромм, писатели Каверин и Войнович. Тогда же впервые появилась подпись А.Д. Сахарова. <…>
Впоследствии я узнал (не от Гинзбурга), что он приложил руку и к составлению указанного письма и особенно много сделал в отношении сбора подписей под ним. (Григоренко П. В подполье можно встретить только крыс. М.: Звенья, 1997)
Наталия Солженицына: С Аликом я познакомилась и подружилась между его первой и второй отсидками. После «Синтаксиса», но до «Белой книги». Потом он стал близким другом всей семьи – и Александра Исаевича, и наших детей.
В его квартире, еще на Полянке, всегда можно было встретить людей, которых ты не знаешь, но как-то сразу получалось, что ты их давно знаешь… Алик обладал невероятным свойством – даже не то, чтобы объединять людей, люди все равно расходились потом в стороны, каждый имея свои взгляды, – но они навсегда оставались друг к другу доброжелательны. По крайней мере, так в моем опыте. Алик понимал, что зло мира не только в политических системах, что оно в каждом из нас гнездится. Но у него было – думаю, врожденное, воспитать такое нельзя – свойство: он всегда самым искренним образом апеллировал только к хорошему в человеке, и это встречало соответственную реакцию. Такой магнит, который притягивал только светлое в человеке. К нему поворачивались жертвенной стороной, ведь в каждом человеке есть что-то, что он готов отдать другим. Это «что-то» Алик и вытягивал. Это свойство не частое и замечательное.
Я для «Белой книги» носила ему недостающие документы из университетских кругов и собирала подписи нашей интеллигенции. Конспиративно меня называли почему-то «рыжий мальчик». По телефону сообщали: к вам придет такой рыженький мальчик – и люди ставили подписи. (К 70-летию со дня рождения Александра Гинзбурга. Газета «30 октября» М., 2007. № 70)
Вера Лашкова: «Феникс»[63] и «Белую книгу» я печатала на нескольких машинках. Одна машинка стояла у меня дома – на ней я печатала методические разработки для университета, я работала на подготовительном факультете. Но это утром. А вечером на той же машинке печатала все остальное. Были еще машинки, какую-то Лёшка Добровольский приносил – он же занимался спекуляцией книжной, денежки у него водились темные. Но моих собственных машинок не было. Одну мне Алька дал уже ближе к концу, на ноябрьские праздники. Я должна была ехать к родителям в Смоленск, но, чтобы не прерывать работу, Алька мне принес большую редкость – портативную машинку. Мишка, что ли, ему дал, Деза. Мишка был женат на француженке, он мог дать. Алька умел всё надыбать. (Интервью составителю. Февраль 2016)
Мишель Деза: Когда он сел второй раз, это имело отношение ко мне: «Белая книга» печаталась на моей машинке. Я был женат на француженке, и у нее была машинка с русским шрифтом из Франции. Она не была зарегистрирована у кегебешников. Меня тоже могли посадить, а жену – выслать. Она была секретаршей корреспондента «Фигаро» в Москве, Жоржа Бортоли. Алик просил у меня машинку давно, но я не давал, боялся. Однажды он предложил в обмен одолжить отличную картину Рабина, чтобы она повисела у меня, и я дал ему машинку. Алика мучили, трясли за каждую деталь. Но он не признался о машинке. Помнил, что я ее давать не хотел, что он меня немножко использовал. (Интервью составителю. Июнь 2016)
Вера Лашкова: Чем это может закончиться – никогда четко не формулировалось. Все были молодые, в эти годы ничего такого заранее люди себе не формулируют, просто принимают жизнь, как она идет. Конечно – поскольку я с ГБ уже имела дело – я догадывалась, что может быть.
К тому же был один «звоночек». Печатала я тогда для «Феникса», кажется, «Откровение Виктора Вельского». Заготавливала, чтобы не прерываться потом, сразу несколько закладок листов, проложенных копирками. Я жила в коммунальной квартире, телефон общий, висел ближе к двери, то есть мне надо было время, чтобы дойти из своей комнаты. Должна была прийти приятельница, мы заранее договорились, что она придет в конкретное время. Я работаю, вторая половина дня, вдруг звонок – ко мне. Я пошла, открыла, уверенная, что это она звонит. Но перед тем, как бежать открывать дверь, я на машинку накинула какую-то тряпочку или полотенце, такая элементарная осторожность. Оказалось, какая-то ошибка – почтальон или насчет газа – в общем, ошиблись. Я вернулась – опять звонок, опять ко мне. То есть первый раз, видимо, просто проверяли – дома ли я. Я открываю – стоят два мужика, я даже почти поняла, что это гебешники. Под каким предлогом зашли ко мне – не помню, но я их пустила: ребята с виду мирные, спокойные, а я довольно доверчива к объяснениям. Они прошли ко мне в комнату. И в момент, когда они у меня расположились, опять звонки – по телефону. Я не хотела идти, помню, как внутренне металась: что делать? Ждала – может, из соседей кто-то подойдет. Никто не подходил, телефон надрывался. Я решилась и побежала. Оказался опять какой-то сбой, я вернулась в комнату. Они сидели мирно, а вскоре ушли. И я сразу увидела, что они вытащили у меня из закладки две или три страницы. То есть все стало понятно – им нужен был текст, шрифт машинки, копирка (копирка – значит, «распространение»). Потом приятельница моя, вообще-то очень обязательный человек, объяснила, что у нее по дороге что-то случилось. То есть это целая операция была. Я сразу об этом рассказала и Альке, и Юрке. Они поняли, но не остановились. Алька, с одной стороны, трезвый человек, а с другой – большим романтиком был.
А когда закончилось печатанье – мы кутили в «Праге». Ну, как кутили – поужинали вдвоем. Тогда с ресторанами было проще, они были доступны. Постоянно люди, конечно, туда не ходили, но можно было прийти и скромно посидеть. Просто это не принято было. То есть где-то, может, и принято, но не в нашем кругу. Думаю, например, что мои родители никогда не были в ресторане. Да и я не была. Но для Алика это было событие, и он предложил отпраздновать. (Интервью составителю. Вера Лашкова. Февраль 2016)
28 октября 1966 года вышел в свет журнал «Грани» № 62 с подборкой части документов, входящих в «Белую книгу». 3 ноября в газетах Италии и Швеции появились первые рецензии на эту публикацию. «Русская мысль» с 3 ноября также начинает печатать материалы из «Белой книги» (в этом номере опубликовано письмо Ларисы Богораз Брежневу); в течение ноября-декабря этого года опубликованы, в частности, письмо Александра Гинзбурга Косыгину и листовка группы «Сопротивление». С 5 ноября при публикациях появляется ссылка на источник – «Грани». Наконец, 26 ноября «Русская мысль» печатает развернутую заметку о «Белой книге»:
«В СССР вышла и распространяется составленная молодым поэтом Александром Гинзбургом “Белая книга” по делу Синявского и Даниэля…»
«Журнал “Грани” получил единственный экземпляр этой «Белой книги», вывезенный до сих пор на Запад…»
«Известно, что один экземпляр был передан 19 октября с.г. Председателю Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорному. Какое-то количество экземпляров “Белой книги” циркулирует в интеллектуальных кругах Москвы…»
Сведения, как видим, не вполне точные, однако однозначно указывающие на то, что «Белая книга» была готова уже в октябре 1966 года.
Отметим также, что стенограмма суда над Синявским и Даниэлем (являющаяся составной частью «Белой книги») успела выйти в 1966 году в США отдельным изданием[64].
Павел Литвинов: Я с ним периодически встречался, в какой-то момент он сказал: знаешь, я подозреваю, что ко мне могут прийти с обыском. Я собираюсь послать – название «Белая книга» тогда не употреблялось – запись дела Синявского и Даниэля депутатам Верховного Совета. У меня остались две довольно плохие копии. Почему бы тебе не забрать и не дать кому-нибудь почитать? – чтобы их не было дома, если ко мне придут. Я отдал эти копии другим людям, и они стали циркулировать. (К 70-летию со дня рождения Александра Гинзбурга. Газета «30 октября». М., 2007. № 70)
Владимир Войнович: Осенью… еще не знаменитый Павел [Литвинов] позвонил мне и сказал, что хочет зайти с одним интересным человеком, и пришел с Гинзбургом. Они принесли мне «Белую книгу». В сборник входили стенограмма процесса, отклики на него в печати. Протесты внутри страны и за границей. Гинзбург держался скромно, но говорил о падении советского режима и о будущем устройстве страны как о чем-то неизбежном и решенном. Я запомнил, что мы в разговоре даже вдавались в такие подробности, как права республик в составе нового государства. До того, что республики вообще отпадут от государства, мы пока не договорились, но сошлись на том, что это будет конфедерация, в которой республики станут практически независимыми и имеющими все права, существующие в СССР только на бумаге, вплоть до самоопределения и отделения. (Войнович В. Автопортрет. М.: Эксмо, 2011)
Вера Лашкова: Наверное, в конце ноября, где-то близко к этому, Алик мне сказал о том, что он собирается отнести экземпляр «Белой книги» в КГБ, буквально накануне. Решил сказать. У нас как-то так было устроено, что вопросов я не задавала никому и никаких, если это не касалось какой-то конкретики – о планах особенно. Это и с «Хроникой текущих событий» потом так было, и тем более с Фондом. Помимо разумной осторожности это было и бережение другого человека. Насколько я знаю – все так себя вели, так было положено, что ли… Если Алик решал что-то сообщить, он говорил сам, без моих вопросов. Например, как себя вести в случае допроса – что говорить, что не говорить. Поэтому насчет отправки за границу я ничего не знала и не спрашивала. Алик в отношении меня вел себя очень заботливо. Его опыт настолько превосходил мой, что он мог предполагать дальнейшее и вел себя очень правильно. Главная идея – не о себе беспокоиться, а о другом, это в нем было заложено. (Интервью составителю. Февраль 2016)
Марья Розанова: Сложность этой работы, которую он делал практически один (сбор материалов, композиция книги и т. д.) заключалась в том, помимо прочего, что следовало всё до поры до времени сохранять в тайне. А это было нелегко, поскольку за многими знакомыми Гинзбурга была установлена слежка. Но в итоге не КГБ обнаружил «Белую книгу», а сам Гинзбург, когда в один прекрасный день, в готовом виде, положил ее на стол КГБ, а также послал в Верховный Совет и передал для ознакомления ряду депутатов. Я советовала ему выпустить книгу анонимно. Но Гинзбург решил, что выступление в открытую окажется более действенным. Он, конечно, понимал, что его ждет. (Служить добру – Александр Гинзбург [Интервью с А. Синявским и М. Розановой] / беседовал К. Померанцев // Русская мысль. 1979. 7 июня)
Александр Гинзбург: Я до сих пор не придумал лучшего хода, чем мы придумали тогда. То есть – открыто выступить с книгой. В каких-то других случаях, возможно, я что-то делал бы по-другому. Но в этом – сделал бы то же самое. Представление этой книжки властям (учитывая, что ситуация была та самая) было правильно. (Права человека. Ведущий В. Федосеев [Александр Гинзбург о свободе слова в СССР] // Радио «Свобода». 19 февраля 1981)
Людмила Алексеева: – Один экземпляр я отдал куратору из КГБ, один ушел в самиздат, – сказал Алик Гинзбург, протягивая мне машинописный экземпляр рукописи. – А этот можешь спрятать на всякий случай?
Так я впервые увидела «Белую книгу» – неофициальный сборник документов по делу Синявского и Даниэля. Меня поразило, что Гинзбург открыто передал его в КГБ. При этом он декларировал, что запись судебных заседаний вместе с апелляциями к суду, открытыми письмами протеста и вырезками из советских и иностранных газет не могут расцениваться как клевета на Советский Союз.
Показав, что ему нечего скрывать, Гинзбург намеренно довел гласность до ее логического предела. Он оставался в рамках закона, принимая его буквально – в том виде, в каком он записан на бумаге. Тем не менее ждал, что его арестуют.
Рукопись свела вместе все доступные материалы – первые западные сообщения об арестах, листовку Есенина-Вольпина и его юридический комментарий, статью из «Известий», опубликованные письма редактору, неопубликованные письма редактору, официальное освещение судебного процесса, письма властям от жен осужденных, обращение Пен-клуба, обращения советских и зарубежных писателей, художников, ученых и просто граждан.
Было там и письмо шестидесяти двух советских писателей, предлагавших взять обвиняемых на поруки, а также речь Михаила Шолохова на XXIII съезде КПСС.
«Гуманизм – это отнюдь не слюнтяйство, – поучал он неразумных собратьев по перу. – Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием, ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни!» (Алексеева Л., Голдберг П. Поколение оттепели. М.: Захаров, 2006)
Александр Гинзбург: В середине 60-х был я рабочим в Литературном музее. Как раз тогда музей на Якиманке поставили на ремонт, из которого он вылез совсем недавно. А начинали ремонт с изготовления новых стеклянных витрин. В дом, где предстояло ломать стены и потолки, завезли огромные листы толстого витринного стекла, и мы, рабочие, перетаскивали его из зала в зал. В каком-то из залов мы прислонили эти листы к стоящему лицом к стене бюсту писателя А.Н. Толстого. После пятого или десятого листа бюст качнулся и врезался носом в стену. Стекло вдребезги, а писатель… Сначала упало на пол одно гипсовое ухо, потом начал проваливаться нос, треснули губы, ото лба к затылку поползли трещины, отлетело второе ухо. Прошла минута, вторая и от головы писателя остался один металлический каркас на вполне сохранившихся плечах. Да гипсовая рука сжимала карандаш над толстой записной книжкой. А мы еще долго стояли как зачарованные. (Гинзбург Ал-др. Дальше, дальше, дальше… // Русская мысль. 1991. 30 авг.)
Основная вина, моральная вина этих писателей в том, что они, видите ли, жили под фамилиями Синявский и Даниэль, а печатались, сволочи, под псевдонимами…
Ладно. Попробуем не так. Значит, я это сделал. Вера Лашкова это дело пару раз перепечатала. Оказалось у меня в руках штук десять этих так называемых «Белых книг». Поставил я на них свое имя как составитель, добавил свой адрес, у меня, кстати, и на «Синтаксисе» был мой адрес, мое имя. Нате, берите. И пошел прямо в приемную КГБ на Кузнецкий мост. Прихожу, сижу в очереди. Вызывают. Кладу на стол (я, правда, из десяти экземпляров выбрал для них самый плохой). Вот, говорю, вы посадили двух писателей, я сделал книжку об этом. Я хочу, чтобы вы их выпустили, а иначе мне придется эту книжку печатать. «Выйдите и подождите!» Выхожу, смотрю: мимо меня шмыгают знакомые рожи – одна за другой. Когда они убедились, что я действительно Гинзбург, меня опять позвали и еще часок припугивали: «Вы же понимаете, может ведь и кирпич на голову упасть…» Я говорю: «Чего мне волноваться – вы волнуйтесь. Меня теперь, даже если нечаянно ветер сдует – вы будете виноваты». И на этом мы расстались. (Расшифровка рабочего материала к фильму «Александр Гинзбург. Человек легенды»)
Александр Гладков: 4 дек<абря> [о разговорах в ЦДЛ] Оказывается, недавно в «Нью-Йорк таймс» была какая-то статья о процессе Син<явского> и Дан<иэля>. И напечатано пресловутое письмо 65-ти[65] в их защиту. Невероятный рассказ о том, что знаменитый Алик Гинзбург составил «Белую книгу» о процессе и распространяет ее, причем 1-й экз<емпля>р послан Семичастному. Думаю, все же, что это выдумка. (Дневник Александра Гладкова: 1966 год / публ., подгот. текста и коммент. М. Михеева // Новый мир. 2014. № 5)
Александр Гинзбург: Чтобы книжку опубликовать, ее нужно переправить на Запад. С другой стороны, надо было делать что-то еще. И с остальными экземплярами я начал ходить к депутатам Верховного Совета СССР.
Они читали, ахали, по ничего не могли сделать. Самое главное, что никаких других моих телодвижений родные чекисты не заметили. А вот то, что я хожу по депутатам, они увидели. А в это время книжка и ушла на Запад. Как уж эти книжки ходят, своими ногами, что ли? Не знаю. (Гохман М. История в лицах: Александр Гинзбург // Лица. М., 1998. № 3)
Но ко мне приставили хорошую слежку, и я с этой слежкой стал ходить по депутатам Верховного Совета СССР. А давайте вспомним, что это был за Верховный Совет. Кто-нибудь может вспомнить, чтобы какой-нибудь депутат проголосовал против? Да и собирался он два раза в год на два дня. Но зато там попадались ученые, писатели… Вот я выбрал себе там человек двенадцать-пятнадцать такого рода депутатов и показал эту книжку. Надо сказать, что я, слава богу, ни разу не промахнулся. Я не ждал, что они мне будут помогать. Мне это и не нужно было. Но, когда чекисты начали ходить к этим депутатам, то один из них, великий академик (я в бомбах не разбираюсь, но он, кажется, изобрел атомную – не Сахаров, а Юлий Борисович Харитон[66]) – спустил с лестницы агента КГБ. (Расшифровка рабочего материала к фильму «Александр Гинзбург. Человек легенды»)
Показания свидетеля Н.И. Столяровой на «процессе четырех»
11 января 1968
ПРОКУРОР. Приходил ли Гинзбург к Эренбургу <…>?
СТОЛЯРОВА. Да, он пришел к Эренбургу в ноябре 1966 года, чтобы посоветоваться с ним о книге документов по делу Синявского и Даниэля, над которой он работал. Он принес ему рукопись или отдельные документы, которые он хотел ему показать. <…>
ЗОЛОТУХИН. Как отнесся к этой работе Эренбург?
СТОЛЯРОВА. Он сказал мне потом, что кое-что ему в ней не понравилось.
ЗОЛОТУХИН. Знаете ли вы, что именно ему не понравилось?
СТОЛЯРОВА. Ему не понравилось, что Гинзбург привел в ней отклики буржуазной правой прессы, вместо того чтобы привести знаменитое письмо Арагона[67] и высказывания левой интеллигенции, что, по мнению Эренбурга, было бы более убедительным для нашей общественности. На этот упрек, по словам Эренбурга, Гинзбург ответил, что он рад бы использовать эти высказывания, но что левые газеты, в которых они были напечатаны, не поступили у нас в продажу. <…>
ЗОЛОТУХИН. Говорил ли вам Гинзбург, куда именно он собирается передать работу по окончании ее?
СТОЛЯРОВА. Да, он говорил, что хочет послать ее в Верховный Суд, кажется в Верховный Совет и в другие наши высокие инстанции. Он надеялся, что сможет таким путем облегчить судьбу Синявского и Даниэля.
ЗОЛОТУХИН. В каких вы отношениях были с Гинзбургом?
СТОЛЯРОВА. Мы были друзьями.
ЗОЛОТУХИН. Какого вы о нем мнения?
СТОЛЯРОВА. Я считаю его высокопорядочным человеком, мужественным, талантливым и, самое главное, патриотом – настоящим, а не мнимым. (Процесс четырех. Амстердам: Фонд им. Герцена, 1971)
Александр Гинзбург: Было начало ноября 1966 года. Я только что сделал «Белую книгу по делу Синявского и Даниэля», первую копию отправил на Запад, последнюю отнес в КГБ, а с остальными ходил по депутатам Верховного Совета. В тот день я был у Эренбурга, а вечером притащился к Ларе [Богораз] доложить о разговоре. Мне Эренбург сказал, что книга ему не понравилась, а когда через полгода его выспрашивал об этом Палецкис – заместитель председателя президиума Верховного Совета, тому сказал, что понравилась.
Лара была усталая, чем-то расстроенная, а тут еще этот нежданный звонок в дверь. Я пошел открывать.
За дверью стоял парень в темно-серой ушанке, еще не по сезону, в лагерном ватном бушлате, в руках фанерный чемодан. Вид его и для меня был очень непривычен. Я-то сидел в блаженной памяти 61–62 годах, мы лагерной формы почти не видели, разве что зимой на стариках-долгосрочниках, а их у нас мало было. Остальные ходили в своем, то донашивали, что из дому получали. А тут на человеке – все казенное и не новое притом. И глаза настороженные.
– Можно Ларису Иосифовну? – гость спрашивал как-то слишком громко.
Лара моментально втянула его в квартиру и захлопнула дверь.
– Вы из Потьмы?
Он не сразу ответил, сначала огляделся, потом стащил шапку, дождался, когда Лара повторит вопрос, а спрашивала она почти шепотом, и сказал: «Я слышу плохо. Освободился вчера и проездом здесь».
Скоро мы сидели у стола вокруг горячего чайника. <…>
За чаем Лара, а следом и я, засыпали Толю Марченко вопросами, причем очень конкретными. К этому времени через дом Лары Богораз уже прошли многие из зэчьих жен. Чаще других появлялись украинки, чьи мужья были арестованы в то же время, что Синявский и Даниэль. Как позже говорили, «набор 65-го года». От них мы знали многое из происходившего во Львове или в Киеве. А освободившийся зэк – был первый. (Гинзбург Ал-др. От Потьмы до Тарусы (Памяти Анатолия Марченко) // Русская мысль. 1986. 19 дек.)
Наталья Горбаневская: К моменту, когда Алик начал работать над «Белой книгой» (которую он, кстати, никогда сам так не называл), мы были с ним в крупной ссоре из-за его статьи в «Вечерней Москве»[68]. То есть мы встречались иногда, но формально, обсуждали только какие-то деловые вопросы. Тем не менее и я в «Белой книге» немного поучаствовала. Я получила (думаю, от Наташи Светловой) «Письмо старому другу», отдала его Галанскову, тот – Гинзбургу. Хотя это письмо и без меня бы до Алика наверняка дошло. (Видеозапись. Вечер памяти А. Гинзбурга в обществе «Мемориал». Москва. 21 ноября 2006)
Александр Гинзбург: В конце 1966 года, когда книга уже была готова и я показывал ее многим людям, я случайно встретил Шаламова в Ленинской библиотеке. Своей немного неверной, шатающейся походкой он расхаживал по галерее, где располагались каталоги, что-то приговаривал и как будто никого вокруг не замечал.
Увидев меня, он пошел навстречу и стал расспрашивать о книге. Он ее еще не видел. Я рассказал ему, что, как и где расположено, и, в частности, заметил, что кончается это все «Письмом старому другу». Тут он остановил меня резким вопросом: «И сколько Вы думаете получить за это?» Я ответил: «Нy, по статье не больше 7-ми». На его лице промелькнула тень: «Ваше счастье, в наше время минимум 25 схлопотали бы…»
В январе 1967 года меня арестовали. Мои следователи не сразу обратили внимание на это письмо. Потом они попробовали приписать его мне. Нo эта версия отпала довольно быстро – даже они поняли, что не мог человек моего возраста и с моим жизненным опытом написать такое письмо. Так что на суде обвинение выглядело уже так: «Автор тенденциозно составил книгу, включив в нее антисоветские документы – “Письмо старому другу” и листовку, подписанную “Сопротивление”».
А о том, что автором «Письма старому другу» был Варлам Тихонович Шаламов, окончательно я узнал, когда уже вышел из лагеря.
Мне сказал об этом Леонид Ефимович Пинский, известный профессор-литературовед, в доме которого и собирался кружок старых зэков – тех людей, благодаря которым появилась «Белая книга по делу Синявского и Даниэля». (Гинзбург Ал-др. Двадцать лет назад… // Русская мысль. 1986. 14 февр.)
Варлам Шаламов: Общественный обвинитель Васильев патетически взывал к памяти 73-х писателей, погибших на войне, на фронте, чьи имена высечены на мраморной доске в ЦДЛ. От имени погибших он обвинял Синявского и Даниэля.
Если бы на этом процессе дали выступить общественному защитнику, тот защитил бы Синявского и Даниэля именем писателей, замученных, убитых, расстрелянных, погибших от голода и холода в сталинских лагерях уничтожения.
Это – Пильняк, Гумилёв, Мандельштам, Бабель, Воронский, Табидзе, Яшвили – сотни фамилий включены в этот грозный мартиролог. Эти мертвецы, эти жертвы времени, которые могли бы составить славу литературы любой страны, поднимают голос в защиту Синявского и Даниэля!
По решению XXII съезда партии всем жертвам сталинского произвола обещана посмертная реабилитация и надписи на обелиске. Где этот обелиск? Где мраморная доска в Союзе писателей, где были бы золотыми буквами высечены имена погибших в сталинское время? Этих имен втрое, вчетверо больше, чем на мраморной доске, о которой упомянул общественный обвинитель. (Белая книга по делу А. Синявского и Ю. Даниэля / сост. Александр Гинзбург. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1967)
Отклики на «Белую книгу» стали появляться в литературной среде русской эмиграции первой волны: в парижской студии Радио «Свобода» состоялся круглый стол с участием писателей Гайто Газданова, Владимира Вейдле, Георгия Адамовича.
Гайто Газданов: Появились слухи, что в Советском Союзе циркулирует так называемая «Белая книга», где собраны документы по поводу дела Синявского и Даниэля. И через некоторое время эти тексты попали в Париж, я имел возможность с ними ознакомиться. Это, в общем, листки, напечатанные на пишущей машинке, их очень большое количество, и там приведено 185 документов. <…> Надо сказать, что чтение этих всех документов производит очень сильное впечатление, потому что впервые за последние годы появляется возможность убедиться в том, что так называемая советская общественность, которая до сих пор должна была только одобрять все действия правительства, в данном случае реагирует очень определенным образом и реагирует против правительства. (Факты. События. Мнения. Ведущий В. Шиманский // Радио «Свобода». 8 января 1967)
Георгий Адамович: У меня все-таки радость и грусть по поводу этих документов, я бы сказал, 51 процент радости и 49 процентов грусти. Потому что жертвы советского режима были и будут, и были гораздо более страшные жертвы, чем Синявский и Даниэль по своей участи. Радость, потому что совершенно явно, что что-то в России меняется и теперь происходит то, что не могло произойти 15 лет назад. Мне всегда представляется, что если когда-нибудь произойдет в России не революция, а настоящая эволюция, то под давлением новых поколений. Очевидно, это теперь происходит. (Факты. События. Мнения. Ведущий В. Шиманский // Радио «Свобода». 8 января 1967)
Л.И. Гинзбург – Первому секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу
25 февраля 1967
<…> В конце 1966 года сына вызывали в КГБ для беседы по поводу его заявления и собранных им материалов судебного процесса над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем.
Во время «беседы» от него требовали, чтобы он сказал, кто помогал ему собрать эти материалы, кому и с какой целью он их показывал. Угрожали, что за этот поступок его будут судить, если только он не «исправит» его (уговаривали: «Пожалейте вашу мать»). (Процесс четырех. Амстердам: Фонд им. Герцена, 1971)
Петр Григоренко: Первый взгляд разочаровывает: небольшой ростом, худой, щупленький мальчик, да еще застенчивый. Единственно, что производит хорошее впечатление – заразительный мальчишеский смех и умные, вдумчивые глаза. Но с каждой новой встречей он становился для меня все интереснее. Мальчик незаметно превратился в мужа. Между нами начала складываться дружба. Очень способствовало этому знакомство с его матерью Людмилой Ильиничной. Чувствовалась многолетняя взаимная дружба, любовь и забота друг о друге. И хотя жили они в неблагоустроенной комнате разваливающегося дома, было у них тепло… теплом душ. Это не могло не рождать уважения к обоим.
Мы встречались несколько раз. 26 декабря 1966 года я зашел к нему на работу – в русский Литературный музей на Большой Якиманке. Мы пошли, разговаривая, по улицам. Перешли Крымский мост. Я был рядом с домом. Ему надо было возвращаться. Но еще многое не переговорено, и я решил его проводить через мост. Проводил. Но он не захотел остаться в долгу. И мы еще раз прошли по мосту. Остановились, долго говорили. Я попытался еще раз проводить его, но он воспротивился, заявил, что он уже опаздывает, что ему бежать надо. Я смотрел ему вслед. И как-то тоскливо стало на душе. Расставаясь, мы сказали друг другу «до свидания». Свиделись ровно через 8 лет. (Григоренко П. В подполье можно встретить только крыс. М.: Звенья, 1997)
В декабре 1966 года Алик Гинзбург и Арина Жолковская подают заявление в ЗАГС Кировского района г. Москвы. Бракосочетание назначено на конец января 1967 года.
Ревекка Фрумкина: Точно так же я знаю только то, что один экземпляр Гинзбург сам передал в КГБ, дабы показать, что свою деятельность он считает легальной. Об этом его жесте… я узнала по телефону от Тамары Казавчинской. То, что она мне сказала, сегодня может показаться репликой из глупого шпионского фильма. Тогда же это было, если угодно, следование элементарным правилам гигиены. А услышала я следующее: «Для Иры (невесты Алика. – Р.Ф.) книга Фейхтвангера “Успех” стала теперь вполне актуальна».
Суть конфликта в этом романе в том, что в еще до-гитлеровской Германии главный герой – писатель – за свою статью (или книгу – уже не помню точно) попадает в тюрьму, а его невеста посвящает жизнь борьбе за его освобождение. Именно в те годы «Успех» многие из нас перечитывали. (Фрумкина Р. О нас – наискосок. М.: Русские словари, 1997)
Андрей Амальрик: – К жене писателя[69] заходил английский журналист и оставил свой адрес. Ты ведь умеешь общаться с иностранцами, не мог бы ты связать его со мной? – сказал мне Александр Гинзбург в декабре 1966 года.
Всего четыре месяца назад я вернулся из ссылки, о суде над писателями Даниэлем и Синявским знал, главным образом, по советским газетам, о демонстрации и письмах в их защиту слышал смутно, я слышал также, что Гинзбург заканчивает «Белую книгу» – сборник материалов о суде – и хочет устроить пресс-конференцию. <…>
Через несколько дней Гинзбург встретился у нас с журналистом, занавесок у нас еще не было, и мы заставили окна картинами, наивная конспирация на тот случай, если бы попытались сфотографировать нас. Договорились о новой встрече на 17 января – но у Гинзбурга с утра до вечера был обыск, в тот же день был арестован Юрий Галансков, составитель сборника «Феникс». <…>
Слишком уж спрессовано было время, отпущенное Гинзбургу оставаться на свободе… (Амальрик А. Записки диссидента. М.: Слово/Slovo, 1991)
С 4 января 1967 года Галансков и Гинзбург уходят в учебный отпуск для сдачи экзаменов. Эту сессию Гинзбург сдал хорошо, как следует из характеристики на уже «бывшего студента», представленной в КГБ 5 апреля 1967 года деканом факультета государственного делопроизводства Московского государственного историко-архивного института Л.Н. Качалиной.
В начале января органами КГБ арестован гражданин ФРГ Фолькер Вильгельм Шаффхаузер, который вез Александру Есенину-Вольпину «антисоветскую» литературу.
10 и 16 января 1967 года в приемную КГБ Головановым и Цветковым были сданы материалы: «Письмо Брежневу» и «Открытое письмо Шолохову», которое содержало «измышления, порочащие советский государственный и общественный строй». Материалы были получены ими от Павла Радзиевского, а тем – от Алексея Добровольского.
Леонид Плющ: …До нас дошли слухи, что провокатором оказался один наш старый товарищ, знакомый по Киеву, Павел Радзиевский. Я знал его неплохо и не поверил слухам. Решил поточнее разузнать о процессе и, в частности, о нем. <…>
Все доказательства провокаторства Радзиевского меня не убедили: уж больно много логических аргументов и мало фактов, да и Павла я все же достаточно знал, чтобы не поверить так быстро. Я поехал к Павлу и, делая вид, что я ни о чем не знаю, стал расспрашивать о следствии. Павел подробно рассказал о том, как попался, как вел себя на допросах, как был обвинен Петром Якиром в стукачестве.
Добровольский принес Павлу несколько статей самиздата:
– Отпечатай на «Эре».
– Здесь нет ничего опасного? Я не ручаюсь за печатников.
– Нет. Тут материалы заседания старых большевиков[70]. (Статьи были в папке с фамилией «Добровольский».)
Павел, идя на работу, просмотрел бегло статьи, одна показалась опасной, остальные – нет. Их он и отдал отпечатать на «Эре». Через неделю к нему пришли, нашли папку с фамилией Добровольского, взяли Добровольского и Павла, затем остальных.
Павел высказал подозрение, что провокатором был Добровольский («а может, просто сумасшедший, у него не все в порядке с головой»). (Плющ Л. На карнавале истории. L.: Overseas Publ. Interchange, 1979)
17 января 1967 года Вера Лашкова была остановлена у себя в институте лицами, предъявившими удостоверения сотрудников Министерства охраны общественного порядка. Они сообщили, что у нее на квартире произошел грабеж и необходимо поехать туда с ними. Однако они отвезли ее в приемную Управления КГБ по Москве и Московской области, где вскоре предъявили ей ордер на обыск и уже тогда поехали к ней домой для обыска. (Процесс четырех. Амстердам: Фонд им. Герцена, 1971)
Вера Лашкова: Они со мной не делали даже вида, что законность соблюдают. Они смеялись мне прямо в лицо. Было такое животное, из следаков, но и в обысках он тоже участвовал. Сережку Ходоровича мучал, забыла фамилию… Он просто гад был, воплощенный гад. Когда отбирал у меня что-то на обыске и я ему сказала, что не могу позволить это отдать, он на меня посмотрел с интересом: «А как это вы не позволите?» Более чем свободно себя вели. До хрена чего отобрали. Книжки хорошие. Жалко, конечно, машинки. Они в ту пору дорогие были очень, и, например, я себе машинку купить никогда не могла. В 60-е годы – в районе ста рублей – это были деньги, которые я даже не могла представить. Я понимала «рубль», «три рубля». Был случай, когда у меня – ну совсем не было денег. Ну совсем! А очень хотелось есть. Я шла по Кропоткинской и мечтала о еде. Еще точнее – мечтала найти три рубля – предел мечтаний – чтобы поесть. И так мечтала, что, когда зашла в подъезд своего дома – а у нас красивый подъезд был, старый, дворянско-аристократический, и увидела в начале лестницы три рубля – то я даже не удивилась. Просто обрадовалась.
Всегда забирали письма. Очень жалко писем Наташи Горбаневской (я же записалась ее сестрой, и она могла мне поэтому писать) – из института Сербского, из Казани. Мамины письма забрали – мы же с родителями отдельно жили. Ладно забирали, им это идет как оперативка, видимо, – просто не возвращали никогда, вот что обидно. Идти просить в эти казенные дома – ноги не шли. Одно дело, когда ведут… (Интервью составителю. Февраль 2016)
В тот же день, 17 января, были проведены обыски у Галанскова, Гинзбурга и Добровольского.
Павел Литвинов: Я совершенно случайно пришел со своей знакомой в квартиру Алика прямо во время этого обыска. Это был первый обыск, на котором я присутствовал в своей жизни. Нас не выпускали, и мы просидели там целый вечер, допоздна. Алика тогда не арестовали, арестовали Юру Галанскова, которого я знал меньше. И после этих дней я уже знал, что судьба моя решена. Я связан с этими людьми, я буду их защищать. После этого вечера Алик сказал: давай я возьму тебя с собой. Мы поехали в поздний час и приехали к Ларисе Иосифовне Богораз. Там был Толя Марченко. С Ларисой у нас сразу возникла большая дружба. И это все произошло в те короткие дни. Таково было свойство Алика – с улыбкой, легко, без нажима он связывал людей вместе. Так было и в лагере, и везде. (К 70-летию со дня рождения Александра Гинзбурга. Газета «30 октября». М., 2007. № 70)
Протокол обыска у А.И. Гинзбурга
17 января 1967
Ст. следователь следственного отдела УКГБ при СМ СССР по г. Москве и Московской области капитан Смелов и сотрудники того же управления ст. л<ейтенант>т Забалуев, л<ейтенант>т Барышев, Гутанов, Семашкин и эксперт Хоринов с участием понятых <…> произвел обыск в квартире № 25 дома № 11/14 по ул. Большая Полянка у Гинзбурга Александра Ильича с целью отыскания и изъятия антисоветских рукописей, а также других предметов, имеющих значение для дела. <…> Обыск начат в 13 час. 30 мин., окончен в 20 час. 15 мин.
Перед началом обыска следователем было предъявлено постановление об этом от 17 января 1967 года, после чего Гинзбург Л.И. (мать Гинзбурга А.И.) было предложено выдать указанные в постановлении рукописи и литературу, на что Гинзбург Л.И. заявила, что она о таких документах ничего не знает. В 14.00 в квартиру возвратился Гинзбург Александр Ильич, который также был ознакомлен с постановлением на обыск, после чего заявил, что рукописей и литературы антисоветского характера у него нет.
При обыске обнаружено и изъято для доставления в УКГБ по г. Москве и МО:
<…>
6. Машинописный текст на листе белой нелинованной бумаги, начинающийся словами: «В политбюро ЦК КПСС, в Президиум Верховного Совета СССР, Сессии Верховного Совета РСФСР, Сессии Верховного Совета СССР. Уважаемые товарищи! Мы, группа советских граждан, считаем своим долгом…” – и заканчиваются: “…может стать препятствием к осуществлению свобод, гарантированных Конституцией СССР”.
7. Машинописный сборник “Феникс” под редакцией Ю. Галанскова, Москва, 1966 год, на 379 (трехстах семидесяти девяти) листах в картонном переплете. <…>
19. Машинописный текст на 4 (четырех) листах под названием “Человеческий манифест”, начинается со слов: “Все чаще и чаще…” и заканчивающийся: “…На мраморе тела крест”. <…>
29. Магнитофонные пленки на кассетах, всего 27 (двадцать семь) штук, из них в кассетах на 250 м – 19 (девятнадцать), в кассетах на 180 м – 6 (шесть) и в кассетах на 100 м – 2 (две). Все пленки упакованы в мешок и опечатаны гербовой сургучной печатью.
В 15 ч. 20 м. в квартиру Гинзбурга А.И. пришли его друзья: Литвинов Павел Михайлович, 1940 г. рожд. <…> и Некрасова Татьяна Михайловна, 1938 года рождения <…>, которые были задержаны в квартире до окончания обыска. У Некрасовой было проверено содержимое имевшегося при ней портфеля, изъято ничего не было. По окончании обыска в 20 ч. 30 м. к Гинзбургу А.И. пришла Жолковская Ирина Сергеевна, 1937 г. рождения <…>.
Помимо занимаемой Гинзбургом в настоящее время комнаты, обыск был произведен также в двух принадлежащих ему комнатах, где идет ремонт, в сарае, а также в коридоре квартиры, где находятся вещи Гинзбурга. <…>
Протокол следователем прочитан. Записано все правильно.
Понятые: Денисов, Кирягина
Присутствовавшие: А. Гинзбург, Л. Гинзбург.
(Архивы Международного общества «Мемориал». Ф. 118: Александр Гинзбург)
Начинаются допросы задержанных. Реконструировать то, как они проходили, можно на основании сведений из книги «Записки адвоката» Дины Каминской, которая как защитник Юрия Галанскова имела доступ к материалам дела.
19 января состоялся допрос Галанскова, на котором он заявил: «Я составил “Феникс” и готов нести за это полную ответственность». Эти показания он никогда не менял.
19–21 января – допросы Добровольского, он пытается отвести обвинения от себя: «Я ничего не передавал Радзиевскому, пусть он сам отвечает за себя». На очной ставке с Радзиевским он утверждает: «“Открытое письмо Шолохову” передал Радзиевскому не я, а его автор Галансков».
Первой общественной реакцией на произведенные аресты была демонстрация 22 января 1967 года на Пушкинской площади в Москве с требованием освобождения Галанскова, Добровольского, Лашковой и Радзиевского. В демонстрации приняли участие около сорока человек, пятеро были задержаны и четверо предстали перед судом и были осуждены на сроки от 1 до 3-х лет – по новым статьям УК РСФСР, принятым 15 сентября 1966 года.
Александр Гинзбург: Для меня большим сюрпризом было активное участие смогистов, в первую очередь, Вадика Делоне, в демонстрации на Пушкинской площади сразу после того, как арестовали четверых моих друзей – Юру Галанскова, Веру Лашкову, Алешу Добровольского и Павла Радзиевского. Меня не тронули, хотя было совершенно ясно, поскольку уже прошли обыски, что я буду следующим. Больше всего мне не хотелось попасть не по любимой 70-й статье (за антисоветскую пропаганду), а по 190-й, с которой окажешься в уголовном лагере. И эту демонстрацию я наблюдал не так, чтоб издалека, – с другой стороны улицы Горького, и видел, как это все происходило. Арестовали меня на следующий день. Первое, что спросили, – почему вас вчера не было? (Крохин Ю. Что осталось за кадром // Сайт Юрия Крохина URL:http://yurikroh47.narod.ru/Krohin-kadr.htm)
Андрей Амальрик: Я увидел Гинзбурга на выставке неофициальных художников в клубе «Дружба». В течение часа, пока выставку не закрыли, едва можно было протиснуться сквозь толпу – и тут мелькнуло его лицо, оживленное, но уже с отпечатком обреченности, ясно было всем, а лучше всех ему самому, что его вот-вот арестуют. Здесь же я услышал о демонстрации на Пушкинской площади в защиту Галанскова и еще троих арестованных. Мне уже рассказывали о демонстрации в декабре 1965 года с требованием гласности суда над Даниэлем и Синявским, но я полтора года не был в Москве и возможность даже маленькой демонстрации казалась мне невероятной. (Амальрик А. Записки диссидента. М.: Слово/Slovo, 1991)
Людмила Алексеева: 22 января мы собрались у Ларисы [Богораз] отметить Толин [Марченко] день рождения, ему исполнялось двадцать девять. Он сидел за столом вместе с нами, но почти не говорил, больше слушал. Человеку несведущему могло показаться, что празднуется день рождения Алика Гинзбурга – к нему, составителю «Белой книги», каждый подходил и говорил что-то вроде: «Потрясающая книга! Ее ждет долгая жизнь». Гинзбург принимал похвалы с отстраненным видом. Как и все присутствующие, он знал, что на днях были арестованы трое его товарищей – активистов самиздата, и всем было ясно, что следующим станет он.
Наши похвальные отзывы о книге оказались прощальным словом ее автору. На следующий день его арестовали. (Алексеева Л., Голдберг П. Поколение оттепели. М.: Захаров, 2006)
Арина Гинзбург: Около двенадцати ночи Алик пошел меня провожать. К метро не пошли – мне надо было домой на Тверскую-Ямскую, к «Маяковке», проще было проехать поверху – через мост и повернуть на Горького. По абсолютно пустой Полянке мы дошли до Малого Каменного моста. Пустота поражала – как вымерло всё. Ни на улице, пока шли, ни на набережной, ни около «Ударника», ни в сквере напротив, насколько можно было видеть – никого. Только на стоянке такси перед мостом крутилось человек шесть, даже что-то вроде драки завязалось – Гинзбург, конечно, кинулся было заступаться (ему показалось, что женщину обидели), но я удержала. И как-то сразу драка рассосалась, уехали все, и – уже полная пустота кругом, ни души!
Он меня посадил на такси, я еще оглянулась, когда машина въехала на мост, увидела, как Алик, пригнувшись (от ветра?), руки в карманах пальто, пошел назад, в направлении Полянки. (Интервью составителю. 2016, 2017)
Всеволод Некрасов
***
А в Москве –
Как во сне
Москвы нет
Зато есть снег.
Кто такси берет
Кто пешком побредет
И никто не разберет
Назад ли, вперед
Сто, двести, триста лет…
То ли здесь просто лес.
По лесам, по полям, по Солянкам,
Полянкам ни берега, ни брода.
Есть дорога
Только лыжным патрулям[71].
(Архивы Международного общества «Мемориал». Ф. 118: Александр Гинзбург)
Арина Гинзбург: Там они его и схватили, я, наверное, еще до дома не доехала. Как он потом рассказывал, с улицы Димитрова вывернула машина, двое выскочили, заломили руки и запихнули на заднее сиденье. Опомниться не успел, как уже сидел промеж двух молодцов.
Людмила Ильинична его ждала всю ночь – он же вышел просто проводить, не собирался у меня ночевать, иначе бы предупредил. Паша Литвинов с ней еще был – то ли сам зашел (на Полянку можно было в любое время почти, такой был дом), то ли она ему позвонила, чтоб пришел, посидел. В общем-то, было понятно – уже ведь арестовали и Веру, и Юру, и Добровольского, но окончательно убедились, что это арест, только утром. (Интервью составителю. 2016, 2017)
Александр Гинзбург – Арине Жолковской
22 сентября 1969
А что обещал я не арест и не лагерь, это ж не совсем точно. Ты ж мне и вопросы не так ставила. Во мне надолго застрял последний твой вопрос – у такси ночью 23 января: «А тебя не обязательно арестуют?» Ну что я мог ответить? И, насколько ты помнишь, я никогда не отказывался от той самохарактеристики, которую когда-то выдал себе ночью в темном троллейбусе на ваших Тверских-Ямских. А та самохарактеристика никак уж лагеря не исключала. Я и сейчас от нее не отказываюсь. (Stanford, California, USA. Alexandr Ginzburg. Box 5)
[1] Полностью книга будет опубликована издательством «Русский путь».
Публикуемые здесь главы охватывают период с апреля 1961 по январь 1967 года: с момента начала первой «отсидки» Гинзбурга за самиздатский журнал «Синтаксис» до ареста за подготовку «Белой книги» о деле Андрея Синявского и Юлия Даниэля.
В журнальной публикации персоналии не комментируются, использованные источники указываются в самом общем виде, без детализации.
[2] Даниэль Александр Юльевич – правозащитник, публицист. В 1975–1981 годах был членом редакции неподцензурного исторического сборника «Память». С 1989 года – член рабочей коллегии (правления) общества «Мемориал». Автор многих статей, посвященных истории становления и развития независимой общественной активности в СССР.)
[3] 26 мая 1958 года известный футболист, член сборной СССР, Эдуард Стрельцов был арестован по обвинению в изнасиловании и затем приговорен к 12 годам лишения свободы. Для отбытия наказания осенью 1958 года прибыл в Вятлаг. Однако почти сразу у него случился конфликт с местными уголовными авторитетами, он был жестоко избит, провел четыре месяца в лазарете и в эту зону более не возвращался. 4 февраля 1963 года было принято решение о его условно-досрочном освобождении.
[4] Поэма Николая Заболоцкого «Деревья» была впервые опубликована в журнале «Литературная Грузия» (1965. № 11). Горбаневская, видимо, прислала Гинзбургу текст, имевший хождение в самиздате.
[5] Отсылка к последней фразе фельетона Ю. Иващенко «Бездельники карабкаются на Парнас»: «Труд – он и из обезьяны человека сделал, так что и у вас не все еще потеряно».
[6] Видимо, речь идет о подготовке книги Бориса Пастернака «Избранное», вышедшей в 1961 году.
[7] «Америка» – в декабре 1955 года по инициативе США было подписано соглашение о распространении в СССР иллюстрированного ежемесячника «Америка» на паритетных началах с советским журналом «СССР», распространявшемся в США. Журнал издавался Государственным департаментом США с 1956 по 1993 год. Тираж журнала формально составлял 50 000 экземпляров, однако ограничения по его распространению были сняты только во время «перестройки».
[8] Красильников Михаил Михайлович (1933–1996) – поэт. Будучи студентом ЛГУ, 7 ноября 1956 года арестован за выкрикивание антисоветских лозунгов во время демонстрации. Осужден по ст. 58-10 на 4 года. Срок отбывал в Дубравлаге в Мордовии, где вместе с Л. Чертковым и другими составил рукописные альманахи «Троя» и «Пятиречие».
[9] Лёня Ч. – Чертков Леонид Натанович (1933–2000) – поэт, прозаик, литературовед. Лидер одного из первых неофициальных литературных объединений, за которым закрепилось название «группа Черткова». В 1957 году осужден за «антисоветскую пропаганду» на 5 лет. Из лагеря присылал новые стихи, которые Гинзбург включил в не вышедший «Синтаксис» № 4. На момент написания этого письма продолжал отбывать наказание.
[10] Исходя из контекста, можно предположить, что речь идет о поэтах Леониде Виноградове и Михаиле Ерёмине, которые в то время учились на Высших сценарных курсах в Москве и выступали как соавторы пьес для детей и взрослых.
[11] См.: Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. М.: Наука, 1954.
[12] Литературный манифест Юрия Галанскова «Скальпель», в котором, по мнению КГБ, содержалась клевета на советское искусство и имелись призывы к борьбе с существующим в СССР строем, был изъят у А. Гинзбурга при обыске. Авторство на изъятом экземпляре указано не было.
[13] По-видимому, речь идет об обыске, санкционированном помощником генерального прокурора СССР Самолуковым по обращению майора А.И. Ушакова, о котором шла речь в гл. 3. См. также примеч. 19 к письму Юрию Галанскову от 15 мая 1961 года.
[14] Памятник Маяковскому в Москве был открыт 28 июля 1958 года, став местом спонтанных собраний любителей поэзии и чтения стихов. Власти не сразу отреагировали на это явление. Самый насыщенный период «Маяковки» начался осенью 1960 года, когда Гинзбург уже отбывал срок. Именно тогда участники чтений (включая Юрия Галанскова) стали постепенно переходить к формированию различных групп, ищущих новые пути развития общества. После арестов нескольких активистов (Владимир Осипов, Эдуард Кузнецов, Анатолий Иванов) 6 октября 1961 года собрания у памятника сошли на нет.
[15] Иващенко Юрий Данилович – журналист, на тот момент член редколлегии газеты «Известия», автор «разоблачительного» фельетона «Бездельники карабкаются на Парнас» о выпускаемом Гинзбургом самиздатском журнале «Синтаксис».
[16] Из стихотворения Бориса Слуцкого «Про евреев», ходившего в самиздате. Полностью строфа, откуда взяты строки, звучит так: «Не торговавши ни разу, / Не воровавши ни разу, / Ношу в себе, как заразу, / Проклятую эту расу».
[17] Сорта болгарских сигарет без фильтра, в СССР появились около 1959 года.
[18] Дело против Ольги Ивинской и ее дочери Ирины Емельяновой по обвинению в контрабанде возбудили в августе 1960 года, когда Гинзбург находился в следственном изоляторе КГБ, поэтому он ничего не знал о сути предъявленных обвинений.
[19] Валентин Хромов рассказывал составителю про обыск на квартире Галанскова на Ленинском проспекте, где тот жил со своей первой женой Галиной. При обыске был изъят сборник, который Галансков условно называл «Камин», а Хромов «Бразда» (окончательного решения принять не успели). Состоял сборник, со слов Хромова, из подборок стихотворений участников «группы Черткова» (Леонид Чертков, Станислав Красовицкий, Андрей Сергеев, Галина Андреева и сам Валентин Хромов), на титульном листе стояло: «Сборник предназначен только для настоящих любителей поэзии». Печатали его всю ночь, а утром пришли сотрудники КГБ с обыском. Формально ни Хромов, ни Галансков органами не задерживались, но оперативники их несколько часов возили в машине, пока на Лубянке знакомились с текстами сборника. Видимо, не найдя в стихах ничего явно предосудительного, руководство КГБ решило на этот раз никого к ответственности не привлекать.
[20] Имеется в виду «Указ об усилении борьбы с особо опасными преступлениями», согласно которому по статье «Антисоветская пропаганда и агитация», обвинение по которой было предъявлено Гинзбургу, но в процессе следствия снято, по отбытии срока теперь предусматривается ссылка.
[21] Имеется в виду книга В.В. Кожинова «Виды искусства» (М.: Искусство,1960), в которой, в частности, автор приводит в уточненном переводе одно из высказываний Ленина, записанное Кларой Цеткин: не «искусство должно быть понятно массам», а «искусство должно быть понято массами», что воспринималось как методологический переворот.
Ср. с ехидным комментарием в неопубликованной статье Сергея Чудакова «Красное и серое», отобранной у Гинзбурга при обыске в 1964 году: «Между догматиками и либералами произошел спор, в котором обе стороны оперировали дубинкой одной и той же цитаты из беседы Ленина с немецкой коммунисткой Цеткин. Либералы пытались восстановить подлинный смысл цитаты: “искусство должно быть понято массами”, заключая из этого, что Пикассо допустим в полном объеме, надо только его разъяснить, повысить уровень масс. Но после декабрьского идеологического погрома <1962 года> догматики отстаивали искаженный вариант, пущенный в оборот в годы культа: “искусство должно быть понятно массам, т.е. то, которое непонятно, массам не нужно и, следовательно, подлежит замалчиванию и уничтожению; из Пикассо наиболее полезен голубь мира”».
[22] Видимо, адвокат Гинзбурга Виктор Косачевский обращался за помощью к Илье Эренбургу с тем, чтобы тот помог добиться условно-досрочного освобождения.
[23] Статья с таким названием была посвящена критике стихотворений, публиковавшихся в стенгазете филфака Саратовского университета: «Любовь Краваль, ставшая чуть ли не “кумиром” некоторых эстетствующих молодчиков и девиц Саратова, в своем кривлянии докатилась до безыдейных, злопыхательских стихов. <…> Ефим Водонос в барабанно-крикливых стихах пытается подвести “теоретическую” базу под “нигилизм” безыдейных, пустых людишек, оторванных от жизни, презирающих тружеников, а заодно и тех, кто поет о них». Публикация статьи, к счастью, не имела серьезных последствий для упоминаемых в ней лиц.
[24] В газете «Известия» от 1 ноября 1960 года есть сообщение о задержании агента американской разведки Платовского Михаила Сергеевича (он же Крепс Андрей Андреевич и Сосновский Петр Иванович), который «получил задание обосноваться в Минске и заняться сбором секретных данных о дислокации частей Советской армии…». Каких-либо сведений о его раскаянии и прощении ни в этом, ни в последующих номерах «Известий» составителю обнаружить не удалось.
[25] На блатном жаргоне слово «шерстяник» имеет несколько значений. Здесь употреблено в значении «отбывающий срок за изнасилование» (ср. «шерстяная кража» – изнасилование).
[26] Выставка Льва Кропивницкого была организована друзьями Гинзбурга у него на квартире весной 1961 года. На ней также были представлены работы Владимира Вейсберга, Николая Вечтомова и Льва Нусберга. То, что Гинзбург называет выставкой Вейсберга, на самом деле являлось выставкой девяти художников: Н. Андронова, Л. Берлина, Б. Биргера, В. Вейсберга, Н. Егоршиной, К. Мордовина, М. Никонова, М. Фаворской, М. Иванова, прошедшей с 1 по 10 июня в помещении МОСХ на Беговой улице.
[27] В вечернем московском выпуске газеты «Известия» от 6 июня 1961 года опубликована статья «Г-жа Мосби в вытрезвителе», в которой имеется абзац следующего содержания: «Вскоре после того, как г-жа Мосби появилась в Москве в качестве официального представителя ЮПИ, ее обуяла страсть к приобретению произведений живописи – от абстрактных до иконописных. Найти любителя абстракционистской мазни в Москве не так-то просто, но г-жа Мосби нашла. Она свела знакомство с отбывшим наказание за уголовное преступление тунеядцем Игорем Холиным и так называемым художником Львом Крапивницким (sic!). У этих дельцов она приобрела за сходную цену пару красно-желто-зеленых “произведений” для своей коллекции абстрактной живописи». Что заинтересовало Гинзбурга в газете «Ленинградская правда», составителю установить не удалось.
[28] Косачевский Виктор Адольфович – адвокат Гинзбурга по первому делу.
[29] Эрнест Хемингуэй покончил с собой 2 июля 1961 года.
[30] «Лижи» – «Литература и жизнь» – газета, орган правления СП РСФСР. Выходила 3 раза в неделю с апреля 1958 до конца 1962 года. Реорганизована в еженедельник «Литературная Россия».
[31] Красовицкий Станислав Яковлевич (р. 1935) – поэт. Стихи Красовицкого предполагалось включить в четвертый номер «Синтаксиса». В начале 60-х Красовицкий отказался от поэзии, запретил публиковать свои ранние стихи. Позже вернулся к поэтическому творчеству, его новые стихи при содействии Гинзбурга были опубликованы в 1990 году в газете «Русская мысль».
[32] Для снижения расходов в зависимости от местных условий в Управлении исправительно-трудовых лагерей разрешалось вместо лагерных отделений открывать т.н. «подкомандировки». Как правило, они организовывались на удаленных производственных участках.
[33] В начале 1960-х годов советского критика Владимира Ермилова, непременного участника всех «проработочных кампаний» 1920–1950-х годов, практически в открытую называли виновником гибели некоторых советских писателей. В 1963 году на Западе опубликована (под псевдонимом) обличительная статья литературоведа Юлиана Оксмана, где он, в частности, писал: «…продолжают оставаться на руководящих ролях и другие клеветники и предатели, залитые кровью русских писателей и ученых. Таков прежде всего Владимир Васильевич Ермилов, сделавший карьеру как основной свидетель обвинения в троцкизме своих товарищей по Российской Ассоциации пролетарских писателей (РАПП) – Авербаха, Киршона, Селивановского, Макарьева и других» (Социалистический вестник. Париж, 1963. № 5/6 ).
[34] Гинзбург читал еще «самиздатский» вариант повести «Один день Ивана Денисовича», официально опубликованной только в ноябрьском номере «Нового мира» за 1962 год.
[35] Малиа Мартин (1924–2004) – американский историк, специализировавшийся на истории России и Советского Союза. В 1962 году был на длительной стажировке в Москве. После возвращения в США был обвинен советскими властями в шпионаже на основании того, что с его помощью «ОКСМАН установил нелегальную связь с проживающим в США белоэмигрантом Глебом СТРУВЕ, подозреваемым в принадлежности к американской разведке, и передавал ему клеветническую информацию. <…> Так, в одном из писем СТРУВЕ к ОКСМАНУ говорится: “Я приготовил для печати документ, который вы передали Мартину МАЛИА об ермиловых и самариных, и надеюсь, что он скоро будет опубликован, конечно, без всякого указания на вас”. <…> По тем же нелегальным каналам ОКСМАН получил от СТРУВЕ антисоветские печатные издания мюнхенского, парижского и нью-йоркского белоэмигрантских центров: повесть Н. АРЖАКА “Говорит Москва”, “Фантастические повести” Абрама ТЕРЦА и другие, содержащие злобную клевету на Великую Октябрьскую социалистическую революцию и советскую действительность» (из записки Филиппа Бобкова в ЦК КПСС).
[36] Вероятно, речь идет о Мартине Малиа. В интервью Раисе Орловой Гинзбург утверждает, что «запись Хрущева в Манеже» была передана на Запад Виктором Луи. Противоречие это устраняется, если предположить, что Виктор Луи просто познакомил Гинзбурга с Мартином Малиа.
Публикация в газете «Чикаго трибьюн» составителем не обнаружена. Следует также отметить, что неподписанная статья о визите Хрущева в Манеж была опубликована в первом номере журнала «Студент» за 1964 год, издававшемся на русском языке в Лондоне Алеком Флегоном.
[37] 10 июня 1965 года в «Grosvenor Gallery» открылась персональная выставка Оскара Рабина, включавшая 70 работ. Выставку, прошедшую в отсутствие автора, организовал известный коллекционер и арт-дилер Эрик Эсторик (1913–1993). Сам Рабин встречался с Эсториком только однажды, а свои картины продавал ему через Виктора Луи, который организовывал их вывоз за рубеж.
[38] Фильм «Таинство Пикассо» (фр. «Le Mystère Picasso», 1956) получил специальный приз жюри на Каннском фестивале 1956 года. В 1984 году французское правительство объявило фильм национальным достоянием Франции.
[39] Васич Ирина Николаевна (1922–2010) – выпускница ИФЛИ, в 1960-е годы – редактор издательства «Детский мир».
[40] Гинзбург обыгрывает то обстоятельство, что на завод железобетонных изделий он устроился с помощью своего знакомого, А. Ханукова, который в 1960-е годы уже занимал там высокую должность.
[41] Сравнение далеко не безобидно. Пеньковский Олег Владимирович (1919–1963) – полковник ГРУ Генерального штаба вооруженных сил СССР. Обвинен в шпионаже в пользу США и Великобритании и измене Родине. После проведения открытого судебного процесса, который широко освещался в центральной прессе, был расстрелян 16 мая 1963 года.
[42] Университет молодого марксиста (УММ) был создан в 1964 году при ЦК ВЛКСМ по инициативе Валерия Скурлатова, Игоря Кольченко и Юрия Лунькова. В брошюре, распространенной в 1965 году в комсомольских организациях, задачи УММ были обозначены в самом общем виде: «…продолжить самостоятельную учебу молодой интеллигенции после окончания высшего учебного заведения, готовить комсомольский актив к массовой политической работе среди молодежи».
[43] Из письма к Владимиру Ашкенази, изъятому при обыске у Гинзбурга 15 мая 1964 года. Письмо подписано только именем (Наташа), адрес Владимира Ашкенази был записан на отдельном листе, что дало возможность Гинзбургу уклониться от дачи показаний по этому поводу. Авторство письма, однако, легко устанавливается по почерку, а адресат – по содержанию письма. Вероятно, Гинзбург планировал переправить это письмо на Запад через Пола Секлочу.
[44] Цитата из предисловия к первому сборнику стихотворений Иосифа Бродского «Стихотворения и поэмы» (Нью-Йорк: Inter-Language Literary Assoсiates, 1965).
[45] Выставка экспонировалась в течение 1963-1964 годов в Алма-Ате, Москве, Ереване и Ленинграде. Название выставки не вполне соответствовало содержанию: на ней было много рекламных плакатов, встречалась абстрактная живопись. Многие американские художники, представленные на выставке, имели российские и украинские корни. Заместителем директора выставки также был потомок эмигрантов – американский дипломат Никита Моравский.
[46] Все письма Пола Секлочи написаны на английском языке на бланке Министерства иностранных дел США (т.е. отправлялись дипломатической почтой). Перевод на русский выполнен составителем.
[47] Позже, в письме от 20 апреля 1964 года, Секлоча даст подробный перечень материалов, которые он надеялся вывезти (только этот перечень написан Секлочей по-русски и воспроизводится в соответствии с оригиналом):
1. Две-три повести Владимира Максимова, который был недавно в печати в Штатах: «Двор посреди неба», «Баллада о Савве», «Дуся и нас пятеро».
2. От Солженицына, надеюсь, будут две повести и поэма. Ему точно не дадут Ленинскую премию.
3. Собрать и дать предисловие «Оберуты» (1926–37): Заболоцкий, Хармс, Введенский, Олейников; (явление более серьезное, чем Мандельштам).
4. Жорес Медведев, 1962 «Культ личности и биологическая наука» – история ученых-биологов. Книжка на 9 печатных листов (около 210 стр.) сделана для печати, но напечатана не могла быть, потому что Лысенко вернулся к власти. Книга его называет убийцей и доказывает это.
5. Антология современной подпольной поэзии от Гинзбурга.
6. Наталья Горбаневская, «Концерт для оркестра», книга стихов с предисловием А. Ахматовой.
7. И с надеждой «Смерч» Серебряковой. Ей тоже не дадут премию. (Stanford, California, USA). Gleb Struve. Box 13)
Отметим, что этот список почти полностью совпадает с материалами, изъятыми при обыске у Гинзбурга (см. протоколы допросов).
[48] Перечислим некоторые из них: М. Джилас «Новый класс» на английском языке; сборник стихов Вольпина-Есенина «Весенний лист» на русском и английском языках; «Записки для журнала» М. Литвинова на английском языке; альманах «Мосты» № 9 за 1962 год и № 10 за 1963 год; «США отвечают»; «Политическая система Соединенных Штатов Америки»; «История Соединенных Штатов Америки»; «Горькая жатва» на русском языке; Б. Пастернак «Доктор Живаго» на английском языке.
[49] В дальнейшем полные преамбулы к текстам допросов А. Гинзбурга опускаются. Очевидные орфографические ошибки в текстах допросов исправлены, стилистика сохранена.
[50] В архиве Глеба Струве в Стэнфордском университете имеется фотография А. Гинзбурга с П. Секлоча, сделанная (судя по книжным полкам) в квартире Гинзбурга, на обороте которой есть надпись: «Декабрь 1963».
[51] В протоколе слово «известного» зачеркнуто, причем без обычной в этих случаях пометки «исправленному верить».
[52] В шапке письма упомянуты также следующие адресаты: главный редактор газеты «Известия», заведующий отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ и Комиссия партийно-государственного контроля при ЦК КПСС.
[53] Верченко Юрий Николаевич (1930–1994) – комсомольский функционер. В начале 1950-х годов – зав. отделом «Московского комсомольца». В 1957–1959 годах – секретарь МГК ВЛКСМ, с 1959 по 1963 год – зав. отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ, в 1963–1968 годах – директор издательства «Молодая гвардия», затем – ответственный секретарь СП СССР.
[54] Советская потаенная муза. Из стихов советских поэтов, написанных не для печати / под ред. Б. Филиппова. Мюнхен: Baschkirzew, 1961.
[55] Речь идет о работе Ж. Медведева «Биологическая наука и культ личности. Из истории агробиологической дискуссии в СССР» (1962).
[56] На обложке журнала «Грани» № 58 как месяц выпуска обозначен июнь 1965 года, однако это сделано в силу сложившейся практики редакции журнала выпускать номера с опережением. На самом деле журнал появился в продаже в конце мая.
[57] О вмешательстве в текст статьи Гинзбург говорил в письме к А.Н. Косыгину в декабре 1965 года, а также на процессе 1968 года.
[58] Sjeklocha P., Mead I. Unofficial Art in the Soviet Union. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967.
[59] Интервью А. Журбина с А. Басиловой, не опубликовано; сообщено составителю А. Журбиным.
[60] В «Русской мысли» № 3925 от 17 апреля 1992 года, однако, Гинзбург пишет, как Вадим Кожинов в 1962 году повел его в «Асторию», «где группа литературоведов из его института провожала домой американского стажера, ныне крупнейшего специалиста по русскому XIX веку, Мартина Малия. Я сидел между американским гостем и пригласившим меня хозяином, и в какой-то момент американец спросил меня шепотом, не знаю ли я писателя Абрама Терца. Я не знал. Через несколько минут приятель прошептал мне с другой стороны: “Ты знаешь, это Андрей Синявский”».
[61] Имеется в виду Церковь Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот, возведенная в 1876–1886 годах. Закрыта в 1929 году, переделана в кинотеатр. Взорвана в апреле 1972 года. Примерно на этом месте в 1999–2000 годах выстроена небольшая Казанская церковь-часовня.
[62] Демонстрация состоялась в марте 1965 года. По воспоминаниям Владимира Батшева, в ней участвовало человек двенадцать, плюс 40–50 сочувствующих, которые сопровождали основную группу демонстрантов при их движении от площади Маяковского к ЦДЛ. Смогисты двигались по Садовому кольцу, несли плакаты: «Мы будем быть»; «Оторвем от сталинского мундира медные пуговицы идей и тем»; «Будем ходить босыми и горячими». Плакат «Лишим соцреализм девственности» был развернут непосредственно у ЦДЛ.
[63] Имеется в виду «Феникс-66» (в отличие от просто «Феникса», выпущенного участниками поэтических чтений на площади Маяковского в конце апреля 1961 года). В «Фениксе-66» основное место занимала не поэзия, а литературная, философская и политическая публицистика. Туда были включены две статьи А. Синявского, одна из которых – «Что такое социалистический реализм» – была только что признана Верховным судом РСФСР «антисоветской». В сборник также вошли другие широко распространявшиеся в самиздате в середине 1960-х тексты. Программными для «Феникса-66» были две работы самого Ю. Галанскова: «Открытое письмо Михаилу Шолохову» и статья «Организационные проблемы движения за полное и всеобщее разоружение и мир во всем мире». Кроме того, сборник включал стихи молодых московских поэтов.
[64] Синявский и Даниэль на скамье подсудимых = At the Trial of A. Sinyavsky and Yu. Daniel / [вступ. ст. Э. Замойской и Б. Филиппова]. Нью-Йорк: Междунар. лит. содружество, 1966.
[65] Более известно как письмо 62-х писателей, опубликовано в «Литературной газете» от 19 ноября 1966 года.
[66] Харитон Юлий Борисович (1904–1996) – советский и российский физик-теоретик. Академик АН СССР. Основатель, главный конструктор и научный руководитель первого отечественного центра по разработке ядерного оружия. К работе над реализацией ядерно-оружейной программы под его руководством были привлечены лучшие физики СССР. Эти работы завершились испытанием атомной бомбы 29 августа 1949 года.
[67] Письмо Луи Арагона «По поводу одного процесса» было опубликовано в газете французских коммунистов «Юманите» 16 февраля 1966 года. В письме, в частности, говорилось: «Но если их лишать свободы за содержание романа или сказки – это значит превращать заблуждение в преступление, создавать прецедент более опасный для интересов социализма, чем могли бы быть опасными сочинения Синявского и Даниэля».
[68] «Ответ господину Хьюгесу» (Вечерняя Москва. 1965. 3 июня).
[69] Под «женой писателя» имеется в виду Лариса Богораз, бывшая в то время замужем за Юлием Даниэлем («писатель» – обычное именование Юлия Даниэля в письмах Гинзбурга).
[70] 26 июня 1966 года на заседании отдела истории КПСС Института марксизма-ленинизма состоялось обсуждение макета 3-го тома «Истории КПСС». Для обсуждения были привлечены старейшие члены партии. Благодаря присутствовавшим на заседании антисталински настроенным членам КПСС (А.Е. Костерину, С.П. Писареву) стенограмма заседания попала в самиздат, где получила большое распространение.
[71] Стихотворение опубликовано еще в 1959 году в «Синтаксисе» № 1 и, конечно, не имеет отношения к обстоятельствам ареста А. Гинзбурга в январе 1967 года.