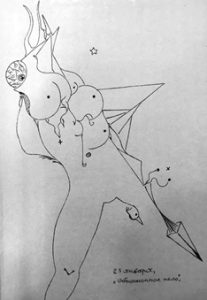История Михаила У. — гидроцефала, олигофрена и настоящего художника*
Опубликовано в журнале Урал, номер 4, 2024
Рис. М. Ураева
Яна Жемойтелите — родилась и всю жизнь живет в Петрозаводске. Окончила Петрозаводский государственный университет по специальности «финский и русский языки и литература». Работала преподавателем финского, переводчиком, заместителем директора Национального театра, главным редактором журнала «Север». В настоящее время — библиотекарь, директор издательства «Северное сияние», председатель Союза молодых писателей Карелии. Лауреат премии журнала «Урал» за лучшую публикацию 2013 года в номинации «проза».
1
Плавленые сырки в тюбиках — это да-а, это почти пища космонавтов. Но такие сырки в жизни случались редко. Чаще на столе бывали килька в томате, кабачковая икра или какая-нибудь перловка с мясом из жестяной банки.
И всякий раз, открывая такую банку консервным ножом, тронутым ржавчиной, отец произносил со странной радостью:
— Это тебе не хухры-мухры! По ГОСТу сделано, а!
И, пристально глядя на Мишу в ожидании ответа, добавлял:
— Ты чего, Миха, ГОСТу не доверяешь?
Миша опять молчал, потому что не знал, что же такое точно означает ГОСТ, но, наверное, что-то очень хорошее, потому что перловка с мясом была гораздо вкусней каши, которой кормили в продленке. Родители были на работе с утра до самого вечера, а бабушке было некогда за ним приглядывать: она готовила, стирала и убирала, поэтому все будние дни напролет Миша проводил в школе, и уроки делал там же, и ел там, в школьной столовой, все, что давали на завтрак и на обед. Мише очень нравились оладьи с повидлом, он даже по запаху в коридоре мог уловить, что сегодня в столовой оладьи, но их готовили редко. Чаще бывало пюре с котлетой и куском соленого огурца.
Дома отец частенько требовал огуречный рассол и даже Мише давал попробовать со словами: «На, приучайся. Голову здорово правит». Миша рассол пригубил, но голова осталась на месте, и он очень удивился, почему вдруг отцу рассол помогает, а ему нет. В столовой рассол наверняка выпивал рыжий повар с веснушчатыми руками: других мужчин в столовой не было, а женщины рассол никогда не пили, ни мама, ни бабушка.
Когда дома случалась перловка с мясом, отец выковыривал ложкой содержимое банки на сковородку, остатки добывал пальцем, а потом облизывал этот палец со всех сторон. А зубы у него были железные, и Миша думал, что хорошо иметь такие железные зубы: они крепкие и не выпадают. Когда Миша вырастет, он обязательно поставит себе такие же зубы.
Отец говорил, что консервов в магазине так много, потому что они входят в состав солдатских сухих пайков. Это значит, что военная промышленность в СССР работает четко и никакие враги не страшны советской власти. Армию отец уважал и всякий раз, когда случалось выпить водки, рассказывал про жуковские учения 51-го года на Тоцком полигоне, когда взорвали атомную бомбу. Он тогда проходил срочную службу и радиации хватанул по самое не хочу — на этих словах отец обычно проводил по шее ребром ладони. И зубы по этой причине пришлось вставлять металлические, потому что свои скоро рассыпались, и первый младший брат у Миши родился мертвым, ему даже не успели дать имя, потом второй младший брат Петя родился семимесячным, но живым, а сам Миша, старший, — тоже семимесячным, с мягким черепом и гидроцефалией, поэтому у него теперь на лбу шрам от трепанации черепа: лишнюю жидкость пришлось откачивать.
— Но ничего, Миха, мы с тобой худо-бедно да живы. А мои сослуживцы в земле лежат: у кого опухоль выросла, у кого кровь поганая стала, а у кого и мутации всякие обнаружились. Сорок пять тысяч людей облучили — и взятки гладки, зато теперь на нас точно никто не нападет, зуб даю, а он у меня железный!
При этом отец всегда громко хохотал, запрокидывая голову. Смех отскакивал горохом от потолка и распадался по комнате. Потом тыкал в Мишу пальцем и неизменно повторял:
— Ты — последствие деления ядер урана. Усек?
Миша не возражал. Дети ведь не возражают. Если их бьют — они плачут, а не бьют, так и ладно. А как там устроен мир и почему именно так, им еще неведомо. Вот и Миша не задумывался, почему они живут, как живут: две комнаты и кухня в бараке, огромная печь, которую топят дровами, у двери умывальник, а под ним склизкое помойное ведро, которое выливают в туалет несколько раз в день. Туалет был во дворе, общий на весь барак. Колонка с водой тоже была во дворе, воду в дом носили поочередно: отец, мама, бабушка. Мишу за водой не отправляли: он был еще слишком мал ростом. Даже на физкультуре замыкал строй первоклассников и за это не любил физкультуру.
У мамы с отцом была отдельная маленькая комнатка, в которой они спали, а Миша с Петей спали в гостиной вместе с бабушкой: бабушка на диване, а Миша и Пети на раскладушках. Бабушка сильно храпела и мешала им спать, но это тоже было частью жизни, как и огромный платяной шкаф, которого Миша боялся, потому что внутри в темноте пряталось чудовище, как и стол овальной формы, покрытый кружевной скатертью, трюмо и веерная пальма возле окошка, а еще книжная полка, часы с маятником и в углу телевизор «Рекорд». «Все, как у людей», — говорила мама, хотя соседи и предупреждали ее, что «телевизер» притягивает молнии. Передачи начались в семь часов вечера. Сперва показывали местные новости, потом передачу о недостатках нашей жизни «Телевизионный фитиль», в которой разбирали всякие жалобы, а затем обязательно показывали какое-нибудь кино, например, «Депутат Балтики» или «Мост Ватерлоо». Особенно пугали Мишу передачи штаба гражданской обороны. Но зато он знал, что надо делать, если взорвут атомную бомбу, как падать, поджав под себя руки, и также знал, что сено, на которое попали ядовитые вещества, сжигается, а если вещества радиоактивные, — то закапывается.
Сена в городе не было, лошадей держали разве что цыгане, но все равно информация была очень полезной. Телевизор отец купил с премии под новый, 1967 год. Он был шлифовальщиком высшего разряда на тракторном заводе и вот накануне праздника принес домой огромный ящик, который водрузил на стол со словами:
— Вот вам от меня подарочек. И ты, мать, не ворчи, что сильно дорого. Я бы эти деньги все равно пропил!
Мама, охнув, опустилась на диван и заплакала, а Миша испугался, что отец опять что-то натворил. Только этой осенью он кого-то избил по пьянке на улице, на него составили милицейский протокол за хулиганство и даже хотели судить. Но руководство завода взяло его на поруки, потому что он ходил в передовиках, к тому же пострадал от радиации в 51-м году…
И тут мама произнесла с улыбкой:
— Теперь у нас есть телевизор. Вот! Все, как у людей.
— А чего не как у людей-то? — подхватил отец. — Сегодня «Голубой огонек» посмотрим. Да, Миха?
Отец обращался вроде бы к обоим братьям, но всегда как будто бы только к Мише. И от этого Миша чувствовал себя виноватым перед Петей и перед отцом. Перед Петей — за то, что тот оказывался вроде как лишним. А перед отцом за то, что родился с гидроцефалией, и еще за то, что отец надеялся, что вот Миша пойдет в школу и станет отличником, потому что отличники — они все стукнутые. А Миша так и не стал отличником, хотя книжки любил и стихи здорово вслух декламировал, а вот по математике успевал плохо…
Еще случилось как раз перед зимними каникулами, что они с одноклассниками репетировали новогодний утренник — стихи читали и песни распевали хором, и так долго они репетировали, что Миша не выдержал и описался. И побежал в туалет, оставляя на полу капли. И тогда все дети, которые вместе с ним репетировали, сорвались с места и тоже помчались в туалет с дикими воплями: «Бей его, он обоссался!» Дома его потом сильно ругали за мокрые штаны и подштанники: «Мыла не напасешься твое ссанье отстирывать».
Хорошо, что вскоре начались каникулы.
Маме на заводе по случаю праздника выдали продуктовый набор для салата «Оливье» — так и сказали на профсобранье, что вот, дорогие рабочие, есть такое модное блюдо, которое подают в лучших ресторанах, и вы теперь сможете приготовить его у себя дома. Картошка, лук и соленые огурцы продаются в любом овощном магазине. А кусок колбасы, банку зеленого горошка и майонез вы найдете в вашем бумажном пакете. И там же есть еще пачка индийского чая со слоником…
Ну, мама приготовила «Оливье» по этому самому модному рецепту, хотя в соусе «Майонез» слегка и сомневалась: никто его никогда не пробовал, но отец прочел на этикетке, что изготовлено в соответствии с ГОСТом, значит, есть можно. Однако он ошибся: только попробовал этот «Оливье» и тут же сказал: «Фу, гадость!», а в Мишу с Петей салат с майонезом кое-как затолкали, не пропадать же добру. И вроде никто не заболел, только настроение немного испортилось.
Зато потом до самого конца каникул детям никто не докучал — с самого утра их выпускали во двор, а там — дровяные сараи, чужие бараки у железной дороги, стройка, ручей… Бегай, прыгай, кидайся снежками — никто не одернет. Правда, если братья задерживались к обеду, бабушка выходила их искать, что, впрочем, не представляло труда: с тыльной стороны соседнего барака, на фасад которого смотрел родной подъезд, находилась «запретная зона», куда никто из местных мальчишек не смел и ногой ступить. Еще осенью во время игры в казаки-разбойники мальчишки наткнулись в том дворе на гладкий камень, напоминавший человеческий череп с двумя углублениями-глазами, и Петя сказал, что этот череп лежит здесь еще со времен войны, когда в бараках располагался концлагерь, а во дворе якобы расстреливали заключенных, значит, если хорошенько поискать, можно найти и целый скелет. Но искать скелет как-то никому не захотелось, и с тех пор двор соседнего барака оказался для них закрыт.
Такой же мистической силой обладали и прочие места в ближайших окрестностях, стоило только обнаружить там мертвую птицу, серую жабу, брошенного котенка или что-то иное, пугающее и непонятное. Ребята из соседнего барака рассказывали страшные истории о стеклянной кукле, красных кружочках, белом пятне, черной перчатке, и эти истории, нашептанные в темноте, казались еще страшнее, чем передачи о ядерной войне. Потому что война была далеко, а страшилки — вот, буквально за углом. Почему-то считалось, например, что красные вазочки в витрине магазинчика возле железной дороги выглядели так привлекательно потому, что в стекло добавляли настоящую человеческую кровь, которую вытягивали из зэков. И пьяница тетя Надя из соседнего барака стращала мальчишек, что будете хулиганить — попадете в тюрьму, и там из вас высосут кровь для вазочек.
Зато в сарае хранились подшивки журнала «Огонек» конца 50-х, которые Миша читать еще не мог, но с удовольствием разглядывал картинки. Особенно если на картинках были танки, пушки и автоматы.
Детских книжек дома почти не было, не считая «Колобка», зачитанного и разрисованного до дыр. В детскую библиотеку за книгами родители не ходили, дома на полке стояли только «Человек-амфибия» и «Война миров»: отец говорил, что ничего другого и не нужно читать. И вообще можно жизнь прожить без всяких книжек, потому что в конце все равно помирать, так зачем же время тратить на какое-то вранье. В книжках одно вранье, Миха, запомни!
Миша запомнил, но все же решил, что когда вырастет, все равно будет читать. Потому что однажды по дороге из школы слышал, как два больших парня разговаривали о какой-то книжке, в которой капитан бороздил моря на подводной лодке. Но как называется эта книжка, он побоялся спросить у больших парней. Он вообще боялся что-либо говорить вслух даже на уроке, хотя знал ответ: почему-то на глаза сами собой набегали слезы, и это было тем более стыдно, потому что мальчишкам нельзя было плакать, даже если их убивали во время игры в войнушку. Поэтому в войнушку Миша играл сам с собой: лепил из пластилина солдатиков, матросиков, сержантов, старшин, боцманов, генералов, маршалов… У каждого героя была своя биография и свой боевой путь. Однажды вечером пьяный отец собрал в кулак его войско и запустил им в стенку. На стенке осталось жирное пятно, но войско Миша собрал по частям, каждого героя в отдельности, хотя глаза и застили слезы. Ему было так обидно, что он плакал до самого вечера, а потом сидел у печки в надежде, что от тепла слезы высохнут. Только они все никак не высыхали, текли и текли. Но плакать же было нельзя, тогда Миша решил выйти на улицу. Уже успело стемнеть, и слезы поэтому были не так заметны.
Накинув пальтецо, Миша выскользнул на улицу и устремился к сараям, в темноту, чтобы поплакать вволю над своим разбитым войском, над тем, что от каникул осталось всего дня, самый хвостик, а потом опять начнется школа, о том, что ему не разрешают завести котенка, потому что он все углы обоссыт, как говорит бабушка: живут же люди как-то без котов, ну и мы проживем, а еще — о том, что вот он такой маленький и бессильный Миша, которого обижают все, кому не лень. Даже соседские дети слушают Мишу только тогда, если он рассказывает истории про Черную руку. А у него уже иссякли эти истории, не будешь же каждый день одно и то же рассказывать… Миша плакал сначала тихо, а потом уже в голос, широко раскрывая рот. Морозный воздух затекал в рот, в горле становилось колко и сухо, но Миша намеренно глотал холод, чтобы заболеть и остаться дома, заново лепить свое пластилиновое войско и листать подшивку журнала «Огонек» с танками и ракетами.
Миша заболел. Ночью температура скакнула под сорок, каждый вдох отзывался болью в правом боку, мышцы крутило, под утром начался такой изнуряющий кашель, что крохотное тельце почти выворачивало наизнанку. Детский врач, который пришел на вызов, внимательно обследовав Мишу стетоскопом спереди и со спины, сокрушенно покачал головой: «Скорее всего, воспаление легких. Вот вам направление на анализы и рентген». То и другое делали в детской поликлинике, в которую Миша вообще-то любил ходить, потому что она располагалась в маленьком деревянном домике с башенкой, напоминавшем сказочный. Внутри пахло лекарствами и ходили грозные докторши в белых халатах, с высокими прическами. У Миши из пальца взяли кровь. Было немного больно, но более его мучил вопрос, куда врачи девают такое количество пробирочек с кровью. А вдруг и вправду отправляют на фабрику, на которой делают красные вазочки. Ну где-то же их должны делать!
В городе такой фабрики не было, а был только тракторный завод, на котором работали родители. А еще была фабрика валяной обуви, которая производила валенки и войлочные тапочки, и родители пугали Мишу тем, что, если он будет плохо учиться, в будущем сможет работать только на этой фабрике, потому что с плохими оценками на тракторный завод его точно не возьмут. А тракторный завод — это о-о-о! — это сила, силища, громада и опора страны. На этих словах отец, по обыкновению, потрясал кулаком в воздухе, и Мише от этого становилось по-настоящему страшно, как будто сейчас его в очередной раз побьют.
Завод Мишу вообще немного пугал. Недалеко от него в парке пионеров стояла облупленная статуя барабанщицы возле самых ворот. Когда ворота только построили, возле них стояло целых две скульптуры — барабанщицы и горниста. Однажды в горниста ударила молния и разрушила его. Рассказывали, что барабанщица стала тосковать по своему другу горнисту. С тех пор, как только стемнеет, она ходит по парку и ищет похожего мальчика. А ели найдет похожего, то превратит его в камень и поставит рядом с собой охранять вход…
Анализы у Миши оказались до того плохие, что его решили положить в больницу, которая называлась «стационар», врач так и сказала строгим голосом: «В стационар!» В стационар его отвезла бабушка, которая всю дорогу, пока они ехали в автобусе, утирала глаза платочком, и Миша подозревал, что стационар — это такое место, куда детей отдают навсегда, поэтому бабушка и плачет. Он прижался к бабушке крепко, как только мог, и постарался запомнить запах ее пальто. Оно пахло дымом, потому что висело не в прихожей, а в комнате возле печки. В прихожей было холодно, а у бабушки болели суставы, и она не могла надевать холодное пальто прямо с вешалки.
Стационар оказался маленьким домиком в самом центре города. Миша редко выезжал в город со своей окраины, поэтому ему все было интересно и совсем не страшно. У входа в стационар росли небольшие пушистые елочки, которые Мише тут же захотелось потрогать. Но стоило только коснуться еловой ветки, как вниз обрушился целый ворох яркого снега. Мише стало смешно, но бабушка его одернула: «Не балуйся». Потом она толкнула деревянную дверь с облупившейся краской, в нос дохнуло лекарствами и хлоркой. «Ну вот, Мишенька…» — бабушка начала было говорить, но так и не закончила, а только сокрушенно головой покачала.
Мишу взяла за руку веселая молодая медсестра, которая велела ему снять пальто и ботинки. Одежду она отдала бабушке и дальше ее не пустила, а велела возвращаться домой. Мише еще некоторое время было видно, как бабушка, переваливаясь, пересекала дорогу, потом она исчезла из виду, и на Мишу обрушилась огромная невыразимая тоска. Он только сейчас понял, что в стационаре придется провести неизмеримо долгое время, которое, наверное, и называется «навсегда». Вместе с Мишей в стационар отправились его резиновый котик, плюшевый мишка и несколько пластмассовых самолетиков, которые мама купила специально, чтобы Мише было не так скучно. А его пластилиновые солдатики остались дома. Вдруг отец опять скомкает их кулаком и швырнет об стенку? Он ведь считает, что они ненастоящие, значит, с ними можно делать все что угодно. Но для Миши-то они настоящие! У каждого есть имя, фамилия, звание и своя история: боцман Топорков, боцман Зюба, радист Никитский, мл. сержант Тигр Львовский, кок Шишка Жанковский, боевой волкодав Шарик… Все они остались дома, и еще неизвестно, выживут ли.
Мише выдали больничную пижаму, в три раза больше него. Плечи вываливались из ворота, но медсестра сказала, что меньше размера у них просто нет, ничего, можно немного потерпеть… Потом медсестра открыла дверцу высокого белого шкафа и сказала, что Мише придется пару дней провести в изоляторе: нужно убедиться, что он не заразный. Миша с опаской шагнул в шкаф. Внутри обнаружилась небольшая комнатка с белыми стенами и кровать с очень чистым бельем. И все. Больше ничего в комнате не было. Миша спросил, а можно ли тут рисовать. Медсестра ответила, что надо попросить бабушку принести альбом и карандаши. И если Миша захочет, например, апельсинов, об этом тоже надо сказать бабушке. В изоляторе, конечно, скучно, но, если Миша не заразный, его очень скоро отправят болеть в общую палату, а там много детей, и будет нескучно.
Но пока что Мише было совсем скучно и одиноко. Маленькое окошко изолятора смотрело во двор, в котором абсолютно ничего не происходило. Миша сидел на кровати, уставившись в стенку прямо перед собой. Через некоторое время медсестра принесла ему макароны с котлетой. Миша съел. Больничная еда показалась даже вкусной по сравнению со школьной, только вот было смертельно скучно — и больше никаких чувств. Миша прилег на постель, но смотреть в потолок было ничуть не веселей. Тогда он стал рассматривать трещинки в штукатурке, обнаружил кота, лошадь и еще какое-то чудовище с когтистыми лапами.
За окном быстро стемнело. В соседнем доме зажглись окошки, в окнах появились люди, и Миша немного понаблюдал за чужой жизнью, потом голова его сама собой приклонилась к подушке, и он заснул или не заснул, а погрузился в душное забытье. Его бросало то в жар, то в холод, кашель буквально душил, мышцы крутило. Так он промучился до глубокой ночи. Потом очнулся, присел на кровати, понял, что хочет в туалет и выскользнул из своего белого заточения в длинный сумеречный коридор. Туалет, как предупредила медсестра, находился в самом конце. Свет горел только над дверью Мишиного бокса, дальше сгущалась тьма, которую предстояло преодолеть. Миша осторожно двинулся вперед, держась за стенку, и так почему-то решил, что главное — добраться до дверей соседнего бокса: оставшееся расстояние можно одолеть в три шага. Крадучись и прислушиваясь к собственным шагам, он почти достиг цели, как вдруг уловил будто бы всхлипыванья. Звуки доносились как раз из-за дверей того бокса. Миша остановился: не почудилось ли? Не почудилось: за дверью явно кто-то плакал. Миша припал ухом к двери, потом, когда любопытство одолело страх, потянул за ручку и заглянул в щелочку: на кровати сидело что-то вроде тени и горестно плакало. Миша застыл на месте, ужас пронизал его с головы до самых пяток. Он крепко зажмурился, надеясь, что, когда откроет глаза, оно исчезнет. Так и вышло. Миша очнулся возле дверей соседнего бокса, в котором никого и ничего не было. Свет уличного фонаря, пробившись сквозь плотную штору, освещал пустую, гладко заправленную кровать. Переведя дух, Миша осторожно затек внутрь. В боксе никого не было! Совершенно точно.
Миша выскочил назад в коридор, плотно притворив за собой дверь. И, приседая и таясь, все-таки добрался до туалета, щелкнул спасительным выключателем и почти успокоился, но путь назад показался еще страшнее. Миша стремглав промчался по коридору к своему боксу, головой нырнул под одеяло и потом лежал, прислушиваясь к каждому шороху в коридоре.
Утром, когда медсестра пришла измерить температуру, ночные страхи выветрились, и Миша решил, что в больнице лежать очень даже ничего. Никто на тебя не ругается, по крайней мере. Напротив, все вокруг переживают, что у тебя высокая температура и в легких хрипы.
Когда его перевели в общую палату, стало гораздо веселей. Миша по десять раз пересказывал истории про черную перчатку и красные кружочки, а еще — про мальчика, который умер в этой больнице и теперь по ночам приходит сюда плакать, потому что он совсем не хотел умирать. Одно дело на войне умереть — это не так обидно. И совсем другое дело — умереть в больнице от какой-то там температуры. А тут еще строгая врачиха, которую абсолютно все боялись, припугнула, что, если не будете лекарства пить, помрете все как один, поняли меня? Миша понял. Он вообще не умел сопротивляться обстоятельствам, а только пытался приспособиться. Вот и теперь, когда бабушка передала ему альбом и карандаши, Миша нарисовал сперва черную перчатку, потом красные кружочки, а потом и мальчика, который умер и теперь бродит тенью по детской больнице. Парни смотрели и говорили: «Ух ты!», и тогда Миша нарисовал портреты всех, кто лежал с ним в одной палате. И веселую медсестру нарисовал, и даже уборщицу тетю Катю. Только строгую врачиху Галину Октябревну рисовать не стал, потому что боялся. Ее все боялись. А она сама случайно увидела рисунки и сказала: «Мишенька, а что же ты меня не нарисуешь?» Миша вздохнул, но все же нарисовал. Врач получилась очень некрасивая, толстая, с густыми бровями и редкими усиками, в общем, какая есть. А она посмотрела на рисунок и сказала:
— Мишенька, ты настоящий художник. Ты ходишь в художественную школу?
— Нет.
— Тогда тебе обязательно надо туда записаться. А что это за история про мальчика, который у нас якобы умер?
— Так это… Он однажды ночью в боксе сидел и плакал. Я сам видел, когда шел в туалет. А потом еще раз посмотрел — его уже не было.
— А как же он в боксе сидел, когда он уже умер? — не понимала Галина Октябревна.
— Ну, так это его привидение сидело. А сам мальчик умер.
— И привидение плакало? Почему?
— Потому что в боксе скучно и нет игрушек. Можно, я этому мальчику мишку в боксе оставлю?
— И тебе не жалко оставить здесь своего мишку?
— Жалко. Но у меня дома еще есть игрушки и солдатики. А у этого мальчика ничего нет.
— Хорошо, Миша. Ты очень добрый мальчик. Пойдем-ка вместе в этот бокс, оставим мальчику игрушку, — Галина Октябревна взяла Мишу за руку и вывела в коридор. И пока они шли по направлению к заветному боксу, Миша размышлял, что вот у Галины Октябревны зубы тоже не свои, а золотые. И это даже красивее, чем железные, но, наверное, гораздо дороже. Галина Октябревна уже пожилая, она всю жизнь работала, чтобы вставить себе такие зубы…
— Ну вот, — врачиха распахнула дверь в бокс. — Смотри, Миша, тут никого нет.
— Я знаю, что его тут нет. Он только ночью бывает.
— Ладно, я поняла. Положи своего мишку на кровать, и мы посмотрим, заберет ли его мальчик. Хорошо?
— Да, — ответил Миша и аккуратно уложил мишку на кровать.
Вечером Миша, задержавшись в коридоре после процедур, — там на стенке висел большой плакат с картинками про глистов, кто такие глисты, как попадают внутрь и как можно от них избавиться, — Миша случайно подслушал разговор медсестер, которые обсуждали, что этот, с гидроцефалией-то, совсем того, привидений по ночам ловит, а завтра к нему психиатр придет проверить, не шиза ли.
Миша осторожно, по стеночке добрался до своей палаты, только чтобы никто его не заметил, и сидел тихо до самого отбоя.
А назавтра его вызвали на пост, там сидел какой-то дядька в очках, у которого обильно росли волосы даже в носу. Дядька говорил очень громко, и если при нем говорил еще кто-то, то не давал тому говорить, а продолжал свое. Дядька, которого звали Авнель Исакович (Миша тут же про себя прозвал его Гавнель Исакович), долго и тщательно расспрашивал Мишу, сколько ему лет, где он живет, в какой школе учится, кто его родители, как пишется слово «колбаса» и что Миша ест на завтрак, потом показывал какие-то размытые картинки, которые напоминали то бабочку, то снеговика, потом барабанил по столику короткими волосатыми пальцами и что-то записывал в тетрадку. Миша, удостоверившись, что ничего страшного не происходит, потерял к Гавнелю Исаковичу интерес и принялся разглядывать ворон, которые дрались во дворе из-за корки хлеба.
По пути в палату Миша слышал, как Гавнель Исакович громко ругался на посту, что за привычка вызывать его по всякой ерунде, мало ли что там дети насочиняют, вы мне еще расскажите про черную перчатку и красные кружочки. Миша удивился: он и не знал, что взрослые тоже рассказывают друг другу такие истории. На всякий случай он еще заглянул в пустой бокс. Его мишка по-прежнему лежал на кровати и выглядел чрезвычайно одиноким и покинутым. Ночью за ним так никто и не пришел. Тогда Миша решил забрать мишку из бокса, раз уж так получилось.
Через два дня его выписали. Вместе с ним выписали в абсолютно здоровом виде резинового котика и весьма потрепанного мишку. Самолетики вернулись домой далеко не все.
2
— Какой будет окончательный диагноз? Олигофрения? — уточнила врач, которая вела запись на этой самой медико-педагогической комиссии.
Миша точно не знал, что такое олигофрения, как и затруднялся применить к себе другие сложные слова, которые услышал на этой самой комиссии типа «патология головного мозга, неспособность к социальной адаптации» и т.д.
Когда после больницы он вернулся в школу, уже весна проникала в окошки класса манящими лучами. Лучи высвечивали правила октябрят, развешанные на стенке, и картинку с веселым школьником, который заявлял, что таблицу умножения выучил на пять. Миша тоже выучил с горем пополам таблицу умножения, но вот как умножать и делить в столбик, он так и не понял, потому что два месяца провел в больнице и за все контрольные по математике получал твердые двойки. А это, со слов учительницы Зинаиды Константиновны, означало, что у Миши напрочь отсутствует абстрактное мышление, то есть он категорически не может себе представить, что из пункта А в пункт Б вышел некий поезд…
Нет, вообще-то Миша прекрасно представлял себе, как от вокзала отчаливает этой скорый курьерский, такой темно-зеленый, пыльный, пахнущий мазутом или чем-то еще тяжелым, чем там теперь эти поезда заправляют. Вот он мчится вперед на всех парах, возвещая о своем приближении пронзительным гудком, похожим на отчаянный крик обреченного. И вовсе не напрасно он кричит, предчувствуя, что всего через пару минут сойдет с рельсов из-за брошенных поперек дороги велосипедов, дефектного семафора или пьянства машиниста (наверняка среди машинистов тоже есть пьяницы, по Мишиным наблюдениям, они вообще встречаются среди всех профессий). И Мише уже хочется бежать наперерез этому составу с криком: «Остановись!..» Именно поэтому его совершенно не волнует скорость курьерского поезда и время нахождения в пути, потому что в конечном итоге никто никуда не приехал, а пассажиры вываливались из раскуроченного вагона прямо на рельсы.
Он, конечно, об этом никому не рассказывал, но решать подобные задачи отказывался. Ему так представлялось, что если он так и не вычислит скорость этого поезда, не найдет правильного ответа, то и аварии не путях не случится. И одновременно Миша понимал, что он попросту не умеет считать в столбик, но никто и не предлагал заниматься с ним отдельно, подтянуть по математике, а всем было наплевать, умеет он или не умеет считать в столбик, и Миша думал, что, может, оно и ничего. Стихи вон он с первого раза наизусть запоминает и изложение написал лучше всех в классе. Подумаешь, какой-то там курьерский поезд.
Однако Зинаида Константиновна была непреклонна: Миша родился с гидроцефалией, абстрактного мышления у него нет, считать не умеет и, кажется, вообще не понимает, что такое математика. Зачем нашей школе такой ученик? Да и в классе его не любят, можно было бы, так давно бы побили, а так старшие мальчишки просто дразнят девяносто вторым элементом. Всем давно известно, что Миша слегка того. Что? Почему девяносто вторым? Это порядковый номер урана. Рассказывают, что Мишин отец в армии облучился, а период полураспада теперь у Миши. Вон таблица Менделеева на стенке висит, полюбуйтесь. Уран под номером девяносто два.
Пожилая учительница Мария Никифоровна вставила вразрез, что у Миши необычное образное мышление, он хорошо рисует, работы даже на школьную выставку взяли. «Мой папа рабочий» рисунок назывался, у гардероба на входе висит.
— У Миши папа действительно рабочий-передовик на тракторном заводе, и облучение тут совсем ни при чем, товарищи! Как вам не стыдно заслуженного человека в чем-то обвинять? Он выполнял свой воинский долг…
— А вот не стыдно, Мария Никифоровна. Потому что никто никого и не обвиняет. Просто у олигофренов не бывает образного мышления. Мише будет сложно в нашей школе учиться, физику-химию изучать…
Зинаида Константиновна умела очень громко и доходчиво объяснять буквально все на свете и так, чтобы все вокруг убедились, что она безусловно права. В общем, отправили Мишу на эту самую медико-педагогическую комиссию, а оттуда прямиком в коррекционную школу для умственно отсталых. Школу № 16. Там ему и место. Абсолютно все в городе знали, что за дети обучаются в шестнадцатой школе, и что после восьмого класса выпускникам место разве что на фабрике валяной обуви. Ну а что? Стране нужны рабочие кадры, к тому же пролетариат — это почетно.
Школа № 16 находилась вблизи тракторного завода, и, если отцу случалось идти в утреннюю смену, он брал с собой Мишу. На остановке, штурмуя автобус, отец непременно говорил: «Не дрейфь, Миха, прорвемся!» — и, схватив Мишу в охапку, лез напролом. В переполненном автобусе, который развозил трудящихся по своим рабочим местах, Миша плотно прижимался к отцу, опасаясь, что без надежной защиты его раздавит народная масса. Отец занимал своим телом очень много места в автобусе, в эти моменты Миша любил и боялся отца одновременно. И еще ему было немного неудобно, что отец у него такой огромный, как ледокол, а Миша сам маленький.
Потом они молча шли к заводу через городской парк, который назывался «Ямка». Отец крепко держал Мишу за руку, ничего не говорил, а просто вел за собой вперед, и Миша очень любил эти мгновения. Смена начиналась раньше, чем уроки в школе, Миша приходил в класс самый первый, садился за парту и рисовал в альбоме, как они с отцом идут через парк. Фигура отца всякий раз выходила большой и грозной, высотой с самое высокое дерево, а Миша опять получался маленький и такой жалкий, что хотелось плакать. Миша и плакал, пока никого не было, — плакал оттого, что жизнь идет так, как она идет, не сворачивая с намеченного кем-то пути, что он теперь сидит за одной партой с девочкой, у которой изо рта постоянно капают слюни, и что она то и дело забирает у Миши альбом с рисунками, просто чтобы посмотреть, и слюни капают на рисунки, оставляя разводы, что учиться теперь совсем не сложно, даже по математике, что Миша даже написал небольшое сочинение: «В этом году я прочел великую книгу академика Обручева «Плутония». В этом фантастическом романе описывалась экспедиция внутрь планеты Земля, возглавляемая профессором-геологом Каштановым. Также в ней участвовали золотоискатель Макшеев, зоолог Папочкин, каюр, лайка Генерал. Внутри Земли была своя природа, там сохранились растения и животные, вымершие на наружной поверхности…» Мишино сочинение прочли перед всем классом, поставили пятерку, которой Миша вроде даже гордился… Но все равно это происходило будто не с ним, а с кем-то другим. Миша не ощущал, что вот он сейчас живет по-настоящему. Настоящая жизнь была в книжках из школьной библиотеки, которые Миша читал тайно, под партой, и никогда не приносил домой, потому что отец ругался: «Зачем тебе книжки? Ты все равно пойдешь работать на фабрику валяной обуви».
Иногда Мишу охватывала такая тоска, что по пути из школы он подходил к гипсовой барабанщице у входа в парк пионеров и вставал рядом с ней в надежде, что она превратит его в камень. Однако ничего не происходило. Наверное, Миша был недостаточно похож на того горниста.
День катился за днем, весны сменяли долгие темные зимы, потом случались каникулы, а следом опять наступала осень. Миша почти кожей ощущал, как наступает эта самая мокрая промозглая осень, топчет грубыми сапогами опавшие листья, превращая их в бурую кашицу. Осень наступала и давила свободные яркие деньки чудесного лета, внутри которого можно было сколько угодно носиться по дворам, исследуя заповедные уголки и сочиняя на ходу всякие страшные истории, которые так нравились соседским мальчишкам. Странно, но, когда Миша рассказывал страшилки, никто даже не вспоминал, что он «шишнарик», то есть ученик школы № 16, а все очень внимательно слушали, иногда даже с раскрытыми ртами. Особенно хорошо удавалась ему история про кровавые цифры.
Ну, это как школьники однажды пошли гулять во двор. Учитель не разрешал им уходить далеко от школы, а еще не разрешал залезать в сарай, который стоял возле школы. Но две девочки и два мальчика все-таки убежали к этому сараю. А двор был такой огромный, что учитель ничего не заметил. Ребята обошли сарай со всех сторон и увидели черную дверь. На ней были написаны кровавые цифры 85 и 91. Дети попытались проникнуть внутрь сарая — дверь поддалась. Они оказались в черной комнате, внутри которой валялись черепа и кости. Вдруг дверь захлопнулась. А снаружи на ней появились цифры 87 и 93, из которых полилась кровь.
К пятому классу Миша уже висел на Доске почета как лучший ученик школы для умственно отсталых. Открытое лицо, слегка асимметричный череп, ясные глаза, наивная улыбка. Он хорошо успевал по всем предметам и тапочки шил прилежно. Была у них такая дисциплина: шитье валяных тапочек по передовой технологии. У каждого ученика была заведена отдельная тетрадка, в которую он подробно записывал все оттенки мастерства. Миша тоже записывал, но — еще придумал проиллюстрировать, как делают вар из канифоли и минерального масла, как он кипит на электрическом примусе, как при изготовлении дратвы нитки наматывают на гвоздь. Потом нарисовал, как ставят заплаты в места сквозного износа деталей, как ремонтируют подкладку в пяточной части… Вообще-то шитьем тапочек школа лечила детей от зачатков воображения: при шитье тапочек существует определенная технология, набор действий, которые надо неукоснительно соблюдать. Проявишь малейшую фантазию — ОТК не примет. И вроде бы все ясно: дратву сматывают на вилку, образованную большим пальцем и мизинцем левой руки. Сматывают дратву для того, чтобы она при хранении не слипалась и не путалась. Чего мудрить-то? А вот Мише в шитье тапочек удалось поймать очень важную идею, идею одержимости художеством и даже какого-то невероятия, прорыва странного, фантастического мира в сермяжное бытие, сквозящее в самых простых действиях. И он сам удивился, как смог до такого додуматься, потому что никаких высоких идей никто от него не ждал. Ну, Миша и не стал никому рассказывать, а то опять будут ругать.
Солдатикам, правда, своим все рассказывал подробно. Слепил роту «Викинг» и регулярно проводил бои. Придумал для роты массу личных биографий солдат, сержантов, старшин, боцманов, прапоров, офицеров, генералов, маршалов, генералиссимусов, огромное количество удостоверений личности, военных билетов, личных дел офицеров, карт, планов, шифров, кодов, личных номеров, денег, дневников, вахтенных журналов. Иногда Петя тоже участвовал в игре, тогда отряд распадался на два отряда, сражавшихся друг с другом. Но чаще Петя целыми днями пропадал на улице. Потом, он же остался учиться в нормальной школе и теперь немного стеснялся, что брат у него шишнарик. Ну и ладно. Зато по телевизору крутили такое здоровское кино: «Четыре танкиста и собака», «Красные альпинисты», «Последний рейс “Альбатроса”», «Освобождение», «По следу тигра», а еще фильмы про индейцев! Книжки в школьной библиотеке тоже были здоровские: «Боцман с “Тумана”», например, «Батальон четверых» или тот самый роман академика Обручева «Плутония»… Миша каждую прочел по три раза. Заканчивал и начинал сначала. А потом стал сочинять комиксы «Приключения боцмана и его команды», а еще комиксы про индейцев. За эти комиксы его дома не ругали, по крайней мере, потому что ну чего еще ждать от шишнарика.
Однажды в самом начале осени Петя вынес комиксы про индейцев во двор, а Мише ничего не сказал про это. Миша только в окно увидел, как мальчишки столпились вокруг Пети, размахивают руками и громко смеются. Мише стало интересно, что же там происходит, он накинул курточку вышел во двор. Ребята захохотали еще громче.
— Эй, шишнарик! — окликнул его здоровенный Васька Мотин из дома напротив. Бабушка еще говорила, что по нему тюрьма плачет. — Шишнарик, а ты молоток! Не, честное пионерское.
— Отдай! — Миша побледнел: в руках у Васьки был его альбом с индейцами.
— Чё, жалко стало?
— Отдай! — в голосе у Миши сквозануло такое отчаяние, что Васька сдался.
— Да на! Держи свои каракули, больно надо!
Миша схватил альбом и, прижимая его к груди, бросился домой. А когда бабушка позвала Петю со двора ужинать, Миша налетел на брата и прямо в коридоре съездил тому по уху:
— Я тебе покажу, как без спросу брать мои вещи!
— Тоже мне вещи! Картинки дурацкие, а не вещи!
— Тогда зачем взял, если дурацкие?
— Буду я еще тебя спрашивать.
— А вот будешь! — наседал Миша.
— А то что ты мне сделаешь?
Как наказать брата, Миша так и не придумал. Но в этот момент бабушка появилась в коридоре, и Петя пожаловался ей:
— А чего он дерется?
— Эй, ты чего дерешься? — вступилась бабушка. — Не стыдно маленького обижать?
— Да где он маленький? Как чужие вещи брать, так не маленький. Мой альбом со стола свистнул — и хоть бы хны.
— Ладно, ступайте есть, — примирительно сказала бабушка, — пока отец не пришел.
Бабушка суетилась не напрасно: по пятницам отец возвращался с работы, успев пропустить с приятелями кружку-другую пива. Вроде и не пьяный, но на взводе. Так случилось и на этот раз. Хлопнула входная дверь, и следом тут же раздалось громогласное рыканье:
— Мать! Пожрать дай!
Бабушка безропотно выставила на стол сковородку с жареной картошкой, поверх которой красовался здоровенной круг подрумяненной колбасы.
Отец с жадностью набросился на картошку. С сальными взъерошенными волосами и следами трудовой грязи на лице он походил на фантастическое существо из другого мира, которое перемалывает добычу железными челюстями. В такие моменты Миша не желал смотреть на своего отца и таился за дверью либо уходил в туалет, сославшись на крайнюю нужду. Сегодня он притулился к стенке между кроватью и печкой и сидел тихо, боясь пошевелиться. В печи потрескивали дрова, в трубе ровно гудело, без свиста, Миша даже немного разомлел и успокоился. Тем временем, распростав перед собой газету и поставив на нее сковородку с картошкой, отец сосредоточенно водил коротким пальцем по строчкам, потом вдруг, прожевав кусок, цитировал вслух:
— Империалистические круги, — те еще суки! — военно-промышленный комплекс США, натовская военщина делают ставку на раздуваемую ими гонку вооружений, которая приобрела небывалые, по существу, глобальные масштабы и представляет собой серьезную угрозу миру! Во б…, конченые идиоты! Мало им всыпали по самое не хочу.
— Будет тебе, ешь! — осторожно вставила бабушка.
— Нет, ты прикинь, — отец продолжал как ни в чем не бывало, — чё тут пишут! Сегодня человечество расходует на вооружение более одного миллиона долларов в минуту, более полутора миллиардов долларов в день. В целом военные ассигнования поглощают примерно 5-6% валового национального продукта и в среднем 30% государственных бюджетов капиталистических стран. А? Один миллион долларов в минуту! Охереть, мать. А у нас до сих пор нужник во дворе. Зимой бумажка к заднице примерзает…
И отец громко захохотал, ткнув вилкой в газету.
— А меня сегодня Мишка побил, — неожиданно произнес Петя.
— Чего? — отец оторвался от газеты.
— Мишка, говорю, сегодня меня побил. Здорово. У меня до сих пор ухо болит.
Петя жалостливо скривился и прикрыл ухо ладонью.
— Э, да ты чего! — отец оторвался от газеты и пристально посмотрел на Мишу. — Маленького обижать, Миха?
— А чего он сам… — Миша осекся, понимая, что оправдываться бесполезно и что наказание неотвратимо.
— Ах, он са-ам? — отец, взревев, грохнув по столу кулачищем. — Ты за себя отвечай, щенок! Ну!
Миша скукожился, втянув голову в плечи, зажмурился.
— Отвечай!
Миша больше уже ничего не мог ответить и только ожидал, когда же на него обрушится карающий кулак отца.
— Петя его альбом без спросу взял, ребятам показать хотел, вот и вся беда, — вступилась бабушка. — Подумаешь, происшествие.
— Альбом, говоришь? — прогремел отец. — А ну, дай сюда этот альбом! Я кому сказал!
Миша трясущимися руками вытащил из ящика комода свой альбом и протянул отцу, стараясь не смотреть на его страшное, красное от гнева лицо.
— Ну и чего? — отец хапнул альбом огромной ручищей, перелистал страницы туда-сюда, пару раз хмыкнул, потом сгреб альбом кулаком и — больше ни слова не говоря — распахнул топку в печи и кинул альбом в огонь.
— А-а-а! — Миша заорал отчаянно, громко, выпустив крик из самой сердцевины и будто выпустив через горло само окровавленное сердце. — Отдай! Отдай мне!
Он кинулся к печке, сунул руку в огонь и вытащил на пол обугленные остатки своего детища. Теперь закричала бабушка. Она кинулась к Мише, смешно растопырив руки, — в этот момент Мишу почему-то резануло именно это, что бабушка растопырила руки смешно и нелепо, боли он не чувствовал вовсе.
— Мишенька, да что же это! — Она схватила Мишу в охапку и принялась дуть на его обожженную ладонь, которая только вот сейчас начинала саднить и на глазах покрываться пузырями. — Ничего, Мишенька, не плачь, мы тебя сейчас вылечим.
А Миша и не думал плакать. Сидя на полу возле печки, он с ненавистью смотрел на своего отца, который расхаживал туда-сюда по комнате, выпуская наружу грязные слова вроде того, что Миша стукнутый на всю голову и что следовало от него отказаться еще в роддоме, пускай бы государство воспитывало урода, а не простые трудящиеся. «Я тебя в интернат отправлю, если даже в шестнадцатой школе учиться не можешь! Я не нанимался такую обузу тащить по жизни!» Отец вещал таким зычным голосом, что наверняка слышно было на улице и прохожие вздрагивали.
Ожог оказался не таким уж страшным. Миша еще боялся, что руку ему тут же отрежут до самого локтя, поэтому просил бабушку не вызывать «скорую». Но врач оказалась доброй, она намазала Мишину руку какой-то мазью, перебинтовала, велела бабушке назавтра купить такую же мазь в аптеке и менять повязку не реже двух раз в день: «Дома такого шалопая разве удержишь, а на улице тут же измажется, сами понимаете». Врач говорила с Мишей так ласково, что ему сделалось от этого очень хорошо и даже немного радостно. Он даже не подумал обижаться на бабушку, когда та объяснила причину ожога, будто бы Миша баловался со спичками. Отец к тому времени ушел из дома, хлопнув входной дверью и грязно выругавшись на Мишу, на бабушку, на весь свет. А Петя слинял на улицу еще в самом начале скандала, чтобы отец и его не пришиб под горячую руку.
Мама вернулась поздно с вечерней смены. Миша уже лежал на своей раскладушке, но не спал, а слушал, о чем это мама с бабушкой разговаривают на кухне. Бабушка вздыхала: «Ну да, он грубый человек. Из армии таким вернулся. А ты о чем думала, когда замуж выходила?» И получалось вроде так, что мама сама виновата в том, что отец начал пить. Неласковая, значит, жена.
Отец вернулся домой не пьяный, но какой-то отяжелевший. Чугунными шагами пересек коридор, громко потребовал у матери чаю. Мама еще выговаривала ему на кухне:
— Мою жизнь изувечил, теперь его хочешь?
— А не твое дело рассуждать! — грубо отрубил отец. — Знал бы, что такой выродок будет, — в колыбели бы удавил.
Ожог заживал медленно, и Миша им даже гордился. Мальчишки на улице каждый день просили снять повязку и показать рану, покрывшуюся коричневой коркой. Ожог вызывал у них что-то вроде уважения, мол, вот ведь, человек не побоялся сунуть руку в огонь! Конечно, ради таких рисунков с индейцами еще не туда полезешь.
Но Миша больше не рисовал индейцев: правая рука была забинтована по самые пальцы. Даже в школе на уроках ему разрешали не писать, хотя он пробовал писать левой рукой, и вроде даже что-то получалось.
Когда рука зажила окончательно и на месте ожога под коркой выросла новая розовая кожица, повязку сняли, и Миша вроде даже немного расстроился: теперь он стал таким же, как все, и в школе приходилось писать наравне со всеми. А тут еще по пути из школы хулиган Васька Мотин подкатил к нему в промежутке между бараками:
— Шишнарик, а шишнарик.
Миша суетливо огляделся: вокруг никого не было, а Васька сейчас наверняка начнет требовать у Миши мелочь, оставшуюся от поездки на автобусе, или еще как задираться. Ему ж все равно, кого задирать, и ведь заступиться некому!
Однако Васька неожиданно предложил:
— Слышь, шишнарик, нарисуй мне картинки про индейцев. А, нарисуй, пожалуйста.
Миша очень удивился, однако кинул на ходу:
— Еще чего!
— Да тебе сложно, что ли? — ныл Васька. — Я тебе за это десять копеек дам.
— А у тебя есть? — Миша остановился и посмотрел на Ваську с интересом. Десять копеек стоило мороженое в бумажном стаканчике. Мороженое для Миши случалось только по праздникам, да и то остатками надлежало делиться с Петей как с младшим братом. Но Петя умудрялся прикончить свой стаканчик гораздо быстрее и тут же начинал ныть и клянчить у Миши.
— Десять копеек? — вслух прикинул Миша. Нет, если еще сдать стеклянную тару, можно было бы купить бутылку лимонада. И бутылку опять сдать. Но лучше купить мороженое. Потому что тару из дома не так-то просто вынести, отец сразу заметит.
— Ну! — Васька глядел на Мишу таким умоляющим взглядом, как будто от Мишиного «да» зависела его жизнь.
— А давай! — согласился Миша. — Нарисую. Только дня через три. Потрудиться нужно, ты же понимаешь.
— А то! Значит, заметано! — Хулиган Васька протянул Мише руку и крепко, по-мужски пожал. — И вот еще, если там кто тебя обижать вздумает, ты скажи, я с ним разберусь.
Остаток пути Миша недоумевал, как такое возможно, что из-за рисунков, над которыми отец издевался, Васька Мотин, самый авторитетный человек в районе, предложил ему настоящую дружбу да еще и десять копеек в придачу! Нет, он решительно ничего не понимал.
А индейцев Миша восстановил очень быстро. Попросил бабушку купить ему новый альбом и за три вечера изрисовал его вдоль и поперек. Альбом назывался «В поисках неизвестной земли». То есть землю эту все-таки нашли, и на ней жили племена индейцев, которые враждовали между собой. А когда пришли белые, то объединились и стали бороться против белых. Миша, естественно, был на стороне индейцев, как угнетенных. Хотя они были крайне жестокие люди: любой попавший на их территорию не просто умирал мучительной смертью — его хладнокровно разделывали, запекали на костре и съедали.
Последнее обстоятельство очень понравилось Ваське Мотину, он долго рассматривал альбом, читал подписи к картинкам слева направо и справа налево. Потом достал из кармана монетку, положил Мише на ладонь и сказал:
— Заслужил. Хорошая работа. Так бы все у нас работали.
— А что, у нас разве не так работают? — Миша очень удивился.
Родители только и говорили о работе, в автобусе тоже говорили о работе, по телевизору рассказывали, как кто работает, и в школе тоже говорили, что вот вырастете и пойдете работать. В вестибюле даже плакат такой висел: «Учись, готовь себя к труду». Ничем другим, кроме работы, вроде никто не занимался.
— Да ты чего? — в свою очередь удивился Васька. — У нас же социализм. А это не про работу как раз.
А про что? Но Миша не успел спросить, потому что Васька уже скрылся за углом, торопясь еще раз, уже внимательно, посмотреть альбом с индейцами. А Миша побежал в магазин, купил себе мороженое и тут же, на улице, съел. Хотя уже подмораживало и есть мороженое было тем более холодно. Но Миша мужественно терпел. А когда мороженое закончилось, он удивился, как же это так могло получиться, что вот бабушка купила альбом, он три вечера рисовал в нем индейцев, старался, высунув язык. Ну, и мороженое купил, конечно. Только теперь получается, что у него ни альбома с индейцами, ни мороженого. Обидно!
И Миша решил, что больше не будет рисовать индейцев. А лучше напишет роман про диверсантов. Когда-нибудь его обязательно экранизируют, заплатят Мише много денег, и роман при этом останется как бы при нем, то есть на экране.
В тот вечер Миша взял толстую тетрадь вроде той, в которую он записывал технологию изготовления тапочек.
«Шел 1941 год. Бурчук служил тогда на пограничном корабле «Туман», — Миша старательно вывел первые строчки и решил, что роман писать не так-то и сложно. — «Туман» охранял морскую границу, которая была в Северном Ледовитом океане. Война еще не началась, но враг к ней тщательно готовился. Немцы засылали диверсантов, шпионов, разведчиков. Попал один такой и на наш корабль. Он был опытный диверсант и шпион. Он носил звание обер-лейтенанта абвера.
Стояла темная ночь. Шпион переправлялся один. Он был одет в кожаный плащ и такую же фуражку с железнодорожным знаком. На корабле все спали, кроме двух вахтенных, капитана и Бурчука. Бурчук в это время читал газеты. Шпиону все же удалось перебраться под прикрытием темноты на лодке на нашу сторону. Лодка подплыла к кораблю, с борта другой немецкий разведчик, который уже второй год работал в тылу у наших, спустил ему веревочную лестницу. Шпион залез на корабль, и они сразу же обсудили план диверсионной акции.
«Значит, договорились? — спросил разведчик. (На корабле он числился боцманом, на корабле было тогда целых четыре боцмана.) «Смотри не забудь», — сказал ему шеф обер-лейтенант. Он хотел сказать: «Смотри не перепутай!» — «Завтра капитана не будет», — со смехом и злом ответил разведчик-фельдфебель.
Как раз эти его слова Бурчук услышал отчетливо, когда приложил ухо к двери, чтобы узнать, кто это там болтает. Он взял пистолет и тихонько вылез из каюты. Обер-лейтенант уже ушел куда-то. Боцман тихонько подполз к оставшемуся разведчику и вполголоса сказал: «Руки, господин!» Моряк-предатель сразу поднял руки, Бурчук завел его в свою каюту, связал руки и ноги цепью, остальное все обвязал веревкой длиной 10 метров, рот заткнул тряпкой, которой он растирал вар на дратве…»
Миша задумался, а умел ли Бурчук шить тапочки? Ну, конечно, умел! Он ведь тоже учился в шестнадцатой школе, после которой поступил в морское училище. Ну, еще до войны. Тогда всех желающих в моряки брали.
«Бурчук выскочил из каюты и, оставив там лежать под кроватью предателя в темноте, побежал искать шефа обер-лейтенанта. И вдруг он увидел, что немец стоит около окна капитанской рубки и целится прямо в висок капитану из своего пистолета с глушителем. Не раздумывая, боцман вскинул пистолет и выстрелил. Немец был убит наповал.
Услышав выстрел, капитан корабля испугался и сразу же нажал на сигнальную кнопку. Раздалась тревога. От этого испуга у него на длинной и черной бороде, которая была почти до пояса, появилось множество седых волосин. Сразу же с криками и свистом из разных дверей начали выскакивать матросы. Кто со штыком, кто с карабином, кто с автоматом, кто с пистолетом. А Бурчук заливался смехом: «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» — «Ты чего ржешь?» — рявкнул один из моряков, это был боцман Зюба, он служил уже шестой год. «Шпиона уже нет, — ответил Бурчук, — он тю-тю на тот свет». — «Зачем ты его прикончил? И где тот, который спустил этому трап?» — просил лейтенант Чурбатов. «Я должен был его прикончить, иначе он бы кокнул капитана», — сказал Бурчук.
На третий день после этого начался допрос. Помощник капитана спрашивал: «Зачем ты проник на корабль? Кто тебя послал? Кто ты такой? Кого из ваших здесь знаешь?» и так далее. А этот только свое: «Это ошибка. Ничего не знаю. Это недоразумение, клевета». Но боцман Бурчук все доказал.
Вскоре разведчика приговорили к 25 годам тюремного заключения, а ему было уже 35 лет, вряд ли он бы дожил до конца заключения. Бурчуку вручили Почетную грамоту и орден Боевого Красного Знамени. Орден вручал капитан корабля, а грамоту сам вице-адмирал.
Все это произошло в апреле 1941 года, а через полтора месяца наступило 22 июня. Началась Великая Отечественная война».
3
Мама стирала на кухне. Юбка обвисла, кофта рваная, волосы растрепаны, на глаза лезут. Она отводила их мыльной рукой и опять старательно возила отцову рубашку по доске. Мама всегда стирала на кухне, потому что там было светлей, просторней и можно было слушать радио. Мама слушала все радиоспектакли, а в настоящий театр она никогда не ходила, потому что у нее не было приличного платья. Почему же мама не купит себе такого платья, Миша не понимал. Вот их, например, только в прошлом году водили всем классом в театр. Там женщины в зале сидели, конечно, нарядные, но уж не больно-то расфуфыренные, ничего такого особенного, так что мама вполне могла сходить в театр, а стиркой можно было бы заняться в какое-нибудь другое время. Правда, не так давно умерла бабушка, и мама теперь только и делала, что готовила-стирала-убирала-штопала и постоянно ворчала, что превратилась в домработницу, к которой вдобавок еще презрительно относятся, как, впрочем, ко всем домработницам. Ей теперь даже голову помыть некогда, хотя и душ есть, и целая ванная, только к вечеру сил не остается на мытье…
Нет, когда в семьдесят пятом родителям только выделили новую благоустроенную квартиру, радость была несусветная, и Миша даже думал, что и вся жизнь пойдет по-новому, что прежде отец пил потому, что в бараке все соседи пили, так было принято, а в новой чистенькой квартире пить как-то не к месту. Родители купили в новую квартиру хорошую мебель, ковер повесили на стенку в гостиной, потому что без ковра эта стена была очень холодной, ветер продувал насквозь. В бараке можно было печку затопить — и согреться в самый жестокий мороз, а в блочном доме-то как? Батареи едва теплые, из каждой щели тянет, тьфу! Мама ругалась, а отец молча пил на кухне. Когда бабушка умерла, он целую неделю пил, на работе даже пять дней отпуска взял за свой счет…
Миша в дверях постоял-посмотрел на свою маму, и вдруг ему стало ее очень жалко. Старой она ему показалась в тот вечер. Помог вылить воду из таза в раковину. А она только спросила:
— Где тебя носило? Где ты шлялся так поздно?
— Где хочу, там и шляюсь, — отрезал Миша, потому что кому какое дело, где он там шлялся. В библиотеке сидел, между прочим. Лермонтова читал. Потому что в школе про Лермонтова рассказывали так, что скулы сводило. Вообще в школе было скучно, особенно на уроках литературы. На математике тоже. Дадут, например, задачку: «В двух ящиках было двадцать семь килограммов яблок. Когда яблоки из одного ящика пересыпали в другой…» И зачем их из ящика в ящик пересыпать? Ребята решали, а Миша яблоки рисовал. А впереди были экзамены за восьмой класс. Выпускной, между прочим. Что делать дальше, Миша не знал. Он, конечно, хотел бы поступить в худграфучилище, но туда олигофренов не брали.
На плите стояла кастрюля с картошкой, такой холодной, что аж чуточку синей. А Миша был голодный и спросил маму:
— Подогреешь на сале, мам?
— Ничего, и без сала пожрешь, — в ответ буркнула мама. — Мне еще простыни кипятить.
Без сала, так без сала. Можно вообще и так, холодную съесть. Миша взял в рот картофелину.
У соседей за стеной опять была пьянка. Тянули песни со слезами и руганью.
Мать покосилась на стенку:
— Не смей с ними водиться. Узнаю — убью.
— А что так?
— Ворюги они: шоколад едят, как мы хлеб, да еще «Москвич» недавно купили. Конечно, ворюги. На зарплату так жить немыслимо. Мы с отцом двадцать пять лет на заводе. А у нас машина есть?
Миша пожал плечами:
— Так а с чего вдруг мне с ними водиться?
— А я откуда знаю, где ты шляешься допоздна. Еще скажи, в библиотеке сидишь.
— Я сам за себя отвечаю!
Мише не хотелось продолжать разговор, потому что мать наверняка бы вспомнила про пластилин. Где-то с год назад Васька Мотин со старой квартиры попросил у Миши пластилин: Миша до сих пор лепил солдатиков. Васька сказал, что потерял ключ от квартиры и хочет сделать слепок с отцовского, чтобы отлить такой же. Жаба его душила: не покупать же целую коробку пластилина из-за одного ключа. И ведь совсем немного соврал: взял пластилин и сделал слепок ключа, только не от своей квартиры, а от магазина на станции. Ну, он, видимо, знал, где настоящие ключи лежат. Пальто там хорошее прихватил, пару костюмов, часы. Попался на этом ключе: выронил возле магазина, менты и просекли, что самодельный, вычислили, где такой ключ отлить можно, и на Ваську вышли. Ну, он попутно подельников сдал, Мишу в том числе. Мол, помог слепок сделать. Ваську загребли, а Миша олигофрен, с него какой спрос. Отпустили, но пригрозили, что только попадись еще раз…
Миша поставил на плиту чайник. Если б отец не пил, наверное, они бы тоже когда-нибудь смогли купить машину. Точно такую же, как у соседей, «Москвич», и ездить на ней на дачу. Дача осталась от бабушки — домик, обшитый вагонкой, и небольшой огород. Бабушка жила на даче каждое лето, выращивала картошку, морковку, горох и даже бобы, которыми с ней поделилась соседка. Бобы были такие крупные и красивые, что Миша решил высадить их дома в цветочный горшок и поливать растворимым кофе, чтобы стимулировать мутации кофеином. Вдруг вырастут огромными, как кофейные деревья? Или какао-бобы? Но бобы взошли как бобы, Миша отнес их на балкон и сумел еще снять урожай… А теперь вот отец вроде взялся восстанавливать эту дачу. Так что впереди было лето на даче, картошка, морковка, горох и бобы. Причем Петю собирались отправить на все лето в лагерь: на заводе в профкоме путевки давали на море. А таких, как Миша, в лагерь не брали. Ну и ладно.
С аванса отец всякий раз прикупал чекушку, а то и пол-литра и, если товарищей не случалось, пил дома на кухне. Мать даже не сильно ругалась: пускай себе на диване до утра дрыхнет. Все лучше, чем под забором валяться. Миша смотрел на него и размышлял, почему же рабочий класс считается самым передовым, как учили в школе, если вся радость — на дне бутылки. Однажды он даже нарисовал с натуры пьяного отца, но потом порвал рисунок, потому что получилось некрасиво. А искусство — это ведь когда получается красиво, а не так, как в жизни.
Чайник как-то слишком долго закипал. В ожидании Миша глядел в окно на полосу леса, которая начиналась прямо через дорогу: новый район выстроили на месте бывшего ельника, и во двор иногда еще заскакивали испуганные белки, так и не успевшие понять, что случилось. Асфальт во дворе, расчерченный черными смоляными полосами, выглядел уже довольно побито, хотя дом сдали всего-то год назад, однако после зимы вдоль и поперек двора пролегли трещины, которые углубили колеса личного автотранспорта. Мать одинаково не любила всех владельцев машин, а для Миши трещины на асфальте были чем-то вроде графики города, которую он частенько рассматривал с высоты своего окошка.
Наконец он заметил отца, который пересекал двор. Отец шел уверенно, твердо, хотя сегодня как раз был день получки, и Миша сразу заподозрил неладное. И точно. В подъезде задребезжал лифт, потом отец ввалился в квартиру — огромный, явно в тяжелом настроении, и сразу заполонил собой все пространство кухни. Выставил на стол поллитровку, отрезок колбасы и буханку хлеба. Мать тут же предпочла свернуть свою стирку и скрылась в ванной со всеми тазами.
Миша смотрел на своего отца, пытаясь обнаружить в лице хоть одну симпатичную черточку. Однако тщетно. Дело было даже не в обрюзгших щеках и тяжелых веках. Но вот это выражение жестокости, колючий взгляд, который будто ощупывал все кругом, недоверчивая ухмылка — могли оттолкнуть любого.
Отец молча накромсал колбасу большими ломтями, нарезал хлеб, зубами подцепил пробку на бутылке, взял два стакан и разлил водку: один стакан до краев, другой до половины.
Тот, что до половины, протянул Мише:
— Выпить хочешь? Пей!
— А я, может, не хочу.
— Что значит, не хочешь? Отец говорит: пей, значит, пей!
Миша едва пригубил водки и тут же закусил колбасой.
— Слабак ты, Миха, — захохотал отец, явив полный набор своих железных зубов. — Еще не у всех отцы есть. Не каждому вот так нальют. Так что цени, пока я жив. Я ж, по крайней мере, на свои пью! Я шлифовщик-профессионал с личным клеймом, а ты кто?
Миша пожал плечами. Отец подцепил короткими пальцами шмат колбасы и отправил целиком в рот. Железные челюсти сомкнулись, и Мише стало совсем не по себе.
— Ты, Миха, не дрейфь, — продолжал отец. — У меня к тебе, между прочим, мужской разговор. С тобой часто говорят по-мужски, а?
Миша опять пожал плечами.
— Ну, так слушай. Я тут на досуге покумекал. Тебе в коллектив надо, к рабочим людям. Пойдем с тобой на завод. Я с начальством поговорю, они мне отказать не посмеют.
— Как на завод? Так я ведь еще экзамены не сдал!
— А куда ты денешься? Сдашь. Я тебе, Миха, зла не желаю, — отец подмигнул Мише и залпом осушил стакан водки.
— А чего тогда ты мне желаешь, папа? — Миша с трудом выговорил последнее слово. Оно было слишком детским и нежным для его отца. — Может быть, счастья?
— Счастья? А это чё такое? С чем его едят? — Отец занюхал водку коркой хлеба. — Не видал я никакого счастья. Я, кроме картошки, колбасы и водки, всю жизнь ничего не видал, между прочим.
— Ну, уж не заливай. — Мать появилась из ванной, утирая передником мокрые руки. — Не видал он. Ни свежих огурцов, ни творога со сметаной — я вчера после работы два часа в очереди провела, чтобы вашу утробу набить. Куда там — прорва! Нет, главное, говорит, он в жизни ничего не видал такого! Господи, до чего же я несчастная!
— А ты меня жить не учи! — рявкнул отец. — Я из него хочу наконец мужика сделать. Хоть и дохляк, а руки-ноги на месте, пускай на заводе повкалывает, узнает, почем трудовая копейка. А без труда сам не проживет.
— Миша, — вклинилась мама. — Твой отец свою жизнь не сумел устроить, не бери с него пример.
— Значит, меня теперь слушать не стоит? — с подозрением спросил отец.
— Слушай, Миша, только думай сам. Тебе учиться надо, поступишь в какое-нибудь ПТУ, оценки хорошие у тебя…
— Да ни к чему все это, — в сторону сказал Миша.
— Что ни к чему? — переспросила мама.
— Ну, все эти разговоры воспитательные.
— Стало быть, договорились! — Отец хлопнул ладонью по столу, будто даже обрадовавшись. Может быть, он даже не расслышал, что сказал Миша. — Станешь рабочим — человеком станешь, и дисциплины от тебя потребуют, и за все промахи взыщут по-настоящему! Хватит уже играть в солдатиков.
Отец потряс в воздухе кулачищем, и в этот момент Мишу неожиданно кольнуло чувство, что для него еще может состояться что-то большое и светлое там, впереди. И само по себе это было чрезвычайно странно, потому что исходило от отца. Но чем конкретно он может заниматься на заводе, Миша пока не знал. Вряд ли его возьмут в рабочие: левая и правая руки у него жили сами по себе, несогласованно. По этой причине он даже не мог помочь матери отжать белье.
Школьные экзамены Миша сдал на удивление легко, даже алгебру умудрился сдать на «четыре», а за сочинение получил две пятерки: и за грамотность, и за содержание. Миша написал сочинение по Лермонтову, в котором сравнил его с Байроном. Гладко записывать свои мысли Миша научился, как ни странно, не в школе, а когда растил бобы на окошке. Регулярно заносил в дневник свои наблюдения, незаметно к ним добавились мысли о жизни вообще и даже первые робкие стихи вроде этих:
Я вылепил себя из пластилина,
Из глины, что на поле собирал,
Марал себя гуашью по картону,
Топил себя в экспрессии мазка…
Слово «экспрессия» Миша почерпнул в книжке про Ван Гога. Он вообще прочел все книжки про художников в школьной библиотеке и понял, во-первых, что на художника вовсе не обязательно учиться: художники произрастают сами собой, как бобы на грядке, а во-вторых… Во-вторых, он что-то еще такое понял, чего никак не мог облечь в слова, но оно точно было что-то очень важное. Например, то, что карандаши и гуашь у него никто не способен отобрать. Несмотря на то что Петя подтрунивал над ним: «Тоже мне Ван Гог». Ну, Петей родители вообще гордились. Он хорошо успевал по всем предметам и ходил в спортивную секцию при Доме физкультуры, даже на соревнования выезжал пару раз, поэтому и нос задирал. Рядом с Петей Миша был просто никто, так себя ощущал и не уважал нисколечко.
Миша завидовал Петиным волосам, которые были почти белые, и он так старательно их зачесывал на косой пробор. А еще Петя и говорил складно, без запинки, даже самые сложные фразы. И такая между ними была разница, что Миша уже и не думал рядом с ним встать. Один раз попробовал, правда, волосы зачесать, как у брата. И водой мочил, и мылом мазал — ничего не получилось. Про остальное не стоило и думать, если даже такой пустяк не получился. Взлохматил волосы и дунул во двор. А там мальчишки из кустов девчонок водой обливали из бутылки с дырчатой крышкой. Девчонки шли такие все из себя в нарядных платьях, а они их из бутылки прямой наводкой! Девчонки в визг, пошли родителям нажаловались, ну и влетело, конечно, Мише здорово! Эх, если б Миша только не придумал волосы зачесать, как у Пети…
Нет, так-то иногда случалось, что даже с Петей удавалось пообщаться, особенно если родителей не было дома. Вот как раз после экзаменов мама принесла из магазина пряников, Миша решил чаю с этими пряниками попить. А тут как раз Петя домой вернулся. Давай, говорит, вместе чаю попьем, я что-то проголодался. А хочешь, новый «Огонек» почитай, пока я бутербродов наделаю. Петя взял батон, достал из холодильника плавленые сырки… И так они хорошо посидели вдвоем за столом, накрытом чистой клеенкой, понемногу разговорились. Миша даже поделился с Петей, что вот если на завод его возьмут, так же всем деньги будут платить. И тогда он с первой получки купит маме новые туфли, настоящие, на каблуке. Она рада будет. Петя слушал и молчал.
— Чего задумался? — спросил Миша.
— Так, ничего. Я маму тоже жалею, между прочим. Зачем она за отца замуж вышла.
— Ну как? По любви, наверное.
— Разве можно любить такого отца?
— Ну, отец же.
— Это нам он отец, и нам от него никуда не деться. А маме он чужой. Мучает он ее, и нас заодно. Неужели мама не могла выбрать кого-нибудь поприличнее? Я фотографии видел, она совсем не такая была. Красивая очень, кудри еще завивала…
Миша искоса посмотрел на обложку журнала «Огонек». На ней было фото красивой девушки, на обложки всегда помещают красивых, улыбается, зубы показывает белые-белые. И Мише захотелось кому-нибудь рассказать, что он решил жить совсем по-новому, не как прежде. Посмотрел на Петю, тот как раз пряники достал из пакета. Нет, Петя разве поймет. Жизнь у него ясная, прямая. А у этой девушки? И почему-то Мише подумалось, что эта девушка его бы поняла.
Потом Петя поехал в лагерь на море. Миша на море никогда не был, поэтому и не завидовал ничуть. Его зато отвезли на дачу.
Миша не любил оставаться с отцом наедине, однако пришлось. Отец взял отпуск, чтобы поработать на даче, крышу подлатать, крыльцо починить. Жить на даче оказалось немного странно. Во-первых, потому, что отец совершенно перестал пить. И это было для Пети тем более удивительно, ведь с утра отцу не нужно было спешить на завод, значит, было время спокойно опохмелиться. По крайней мере, до того, как они переехали жить на дачу, было именно так, что по вечерам отцу обязательно нужно выпить если не рюмку водки за ужином, то хотя бы пива. А сейчас его будто совсем не тянуло пить. Сам отец говорил, что у него наконец появился смысл в жизни. Потому что бабушка при жизни не позволяла ему что-либо трогать на даче, а он, как ни странно, бабушку побаивался.
Трезвый, отец поутих, перестал ругаться матом и с головой ушел в строительство, он даже затеял пристроить веранду к дачному домику, потому что у всех вокруг в поселке были такие веранды, а у них не было.
Дни стояли жаркие. Тянуло на речку, но отец Мишу не отпускал гулять до самого вечера, а требовал ему помогать. Доску подержать, инструмент принести из сарая. Бойко и весело стучал его молоток, загоняя гвозди в свежую древесину. Как-то раз, починяя доску под окном, висевшую на честном слове, отец неожиданно спросил:
— Миха, а ты вообще кем хотел бы стать?
— Профессором, — ответил Миша, потому что вопрос был зряшный. Все вокруг прекрасно знали, что Миша хочет стать художником. Ну, или поэтом, если художником не получится.
— Ага! А милиционером случайно не хочешь? Тебя возьмут, ты у нас правильный. Толкуй с тобой, дураком! Давай-ка, Миха, без глупостей. Если серьезно работать решил, буду добиваться, чтоб тебя на завод взяли. А нет желания — нечего и огород городишь. В дворники пойдешь — работа непыльная и какая-никакая копейка.
— Сказал же: буду работать, — подтвердил Миша.
— Ла-адно. Поживем-увидим. Подай-ка мне гвозди. На это ты, надеюсь, способен.
Какое-то новое, острое и немного тревожное чувство рождалось в Мишиной груди, когда он смотрел на трезвого отца, и сердце его торопливо билось. Странным вообще выдался тот день. Отец даже не матерился, когда Миша уронил молоток ему на ногу, проглотил ругательство, готовое сорваться губ, только скривился и сказал: «Ла-адно».
Потом отец приготовил ужин из картошки с тушенкой, а сверху посыпали блюдо зеленым луком прямо с огорода. Отец еще ворчал, что тушенка нынче не та, один жир, вот раньше в армии была тушенка… И опять добавил: «Ла-адно». А за чаем отец рассказал, что не получил приглашение даже на свою собственную свадьбу. Мама тогда решила, что он своим трезвым видом испортит всем праздник, и велела не приходить в ресторан «Одуванчик». Гуляли без него, потому что никто не хотел лицезреть трезвого жениха. Рабочие тогда здорово квасили. И сейчас квасят, и сейчас это вроде как считается нехорошо, для здоровья вредно. А тогда даже советовали, отец с красного вина начинал, с полстакана, не больше: ему сказали, что вино якобы радиацию из организма выводит. А оно ни фига не выводит. Радиация — штука такая, что если попала в организм, так и бродит в нем туда-сюда, распадается, конечно, сама собой, но очень долго. Период полураспада у нее четыре с половиной миллиарда лет. Не, Миха, ты только прикинь!..
Миша прикинул и решил, что этого самого полураспада элемента под номером 92 ему точно не дождаться. Так и придется жить, излучая.
Ночью еще он во двор по нужде вышел. Светло было, ну, чуть-чуть только летние сумерки серели, мир открылся перед ним черно-белый, как на фотографии. Миша пристроился возле кустов сирени, а тут отец на крыльце появился и вдруг заголосил:
— Миха, да ты чего-о?
— Так а чего такого? — Миша прервал занятие и уставился на отца в недоумении: что такого он делал не так.
— Миха, сынок! Да ты же светишься! Нет, ей-богу, светишься! Я же трезвый сегодня, а ты все равно светишься! Тобой только чертей пугать!
— Да ла-адно, — Миша отошел от кустов. — Пойдем спать.
Утром отец не вспоминал происшествие, но был особенно сосредоточен, задумчив и молчалив, даже когда жарил яичницу.
1 сентября 1976 года Миша пришел на завод. Никто там особенно ему не обрадовался. В заводоуправлении долго противились отцовским уговорам. Мол, чего вдруг к нам? Рабочие руки, конечно, всегда нужны, но разве у него руки? Что он умеет делать? Ах, тапочки шить? Ни к чему нам это.
Отец уверял, что нужно думать не только о собственной выгоде, а мыслить широко, по-коммунистически. Если сейчас парня к делу не пристроить, он может по кривой дорожке пойти, а на заводе настоящие люди, могли бы на него хорошо повлиять. «Он, небось, молоток в руках держать не умеет», — отвечали ему. «Все не умели поначалу. Вас разве ничему такому не учили?»
Отца огорчало, что на заводе так прохладно отнеслись к его просьбе. Тоже мне пролетарии. Однако на работу Мишу все-таки взяли. Попробовали устроить в 6-й механический цех учеником к слесарю-сборщику, однако на деле оказалась, что у Миши в самом деле правая рука не знает, что делает левая. Покалечится еще на рабочем месте, кто будет отвечать? Тогда мастер придумал перевести его в том цеху на мойку деталей, на сделку.
Через две недели Миша получил свой первый аванс. По этому случаю дома устроили праздник с не сильно-то богатым столом, но что там удалось достать и приготовить: винегрет, картошку с тушеной курицей, салат «Оливье», который в семье наконец-то распробовали, а еще мама напекла пирожков с капустой целую гору и купила конфеты «Белочка». Ну да, получилось далеко не торжественно, и музыки не было, а по радио как раз передавали вовсе не подходящие к случаю отрывки из «Евгения Онегина», а потом включили «Полонез».
И все же это был для Миши один из самых чудесных семейных праздников в жизни, особенно поначалу, когда отец еще не успел крепко надраться. Так, только пригубил водки, а мама — настойки «Клюковка». Семья сидела за одним столом, все с аппетитом ели пироги с капустой, пышные, сочные, которые маме удались на редкость хорошо. Поначалу вроде и говорить было не о чем, потом мама наконец спросила:
— Как работается, Миша? Ничего?
Миша подернул плечами. На мойке ничего особенно интересного, конечно, не было, да и наука невелика.
— Сперва в день записывал по десять—двенадцать номеров деталей, — робко поделился он. — Теперь по сорок—пятьдесят…
— Пятьдесят? Ну ты даешь! — отозвался отец. — До тебя парниша едва ли тридцать в день успевал. Ну, выпьем за трудовые подвиги!
Отец прикончил рюмку, крякнул, закусил маринованным огурцом и, все еще сжимая рюмку в кулаке, уставился прямо пред собой, будто открыв для себя что-то во внутреннем мире.
И опять повисла пауза, внутри которой мама неожиданно предложила:
— А давайте споем!
— Чего? — выплыв из себя, хохотнул отец. — Еще скажи: «Подмосковные вечера».
— А я вот спою! — И мама затянула ровным высоким голосом: — Не слышны в саду даже шо-ро-хи-и…
Миша понимал, что плакать за столом очень стыдно, тем более рабочему человеку. Но ничего не мог с собой поделать — слезы набегали на глаза, и, как он ни старался, ему не удавалось их скрыть. Впрочем, зачем их было скрывать: вокруг сидели все свои люди.
В декабре 1976-го Миша получил на руки сто пятьдесят рублей зарплаты и десять рублей премии. Ему сказали, что парень до него зарабатывал максимум семьдесят. А тут к Мише подошли из профкома и разъяснили, что на мойке не может быть такой зарплаты, что это о-очень большая зарплата для мойщика.
Так а что такого-то? По штукам Миша намывал 5, 8, 10, 15, 20, 25 и 30 тысяч деталей в месяц! Выполнял, перевыполнял, переперевыполнял план, как настоящий ударник коммунистического труда. На Доске почета пока не висел, но вся жизнь ведь оставалась еще впереди! А жизни этой ему было отпущено четыре с половиной миллиарда лет. Не слабо, а!
Дома Миша по-прежнему лепил солдатиков и матросов, устраивая им бои посреди комнаты. Свою родную советскую армию, свою страну, свою родину Миша познавал и оценивал через боевые порядки игрушечных войск, хотя никому и не рассказывал об этом. Он строил доты и военные городки, пускал в атаку кавалерию и казаков, сочинял биографии высшему военному руководству, генералитету, служивые продвигались по службе, их награждали медалями и орденами. Писались боевая история частей, дневники походов и экспедиций… Героическую смерть приняла команда «Нормандии», но сохранились в архиве личные дела боцмана-мичмана Зюбы, главпома боцмана, сержанта Якуба Якубовского, Героев Советского Союза, орденоносцев Гуслика Маньковского и Карасика Окуневского, а также младшего сержанта Тирга Львовского и младшего сержанта Шишки Жанковского — кавалеров орденов Славы, Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды. Осталась память и от старшины Шмины, погибшего в бою еще на старой квартире в бараке. Потом еще Миша решил повторить силами своего отряда экспедицию профессора Каштанова из романа «Плутония». Экспедиция длилась 138 дней, оставив после себя журнал отряда, дневник экспедиции по горам и тетрадь особой важности, а также некоторые другие разрозненные документы.
Однажды по пути с работы Миша увидел в витрине цветочного магазина маленький кактус, который, как ему показалось, вперился в стекло всеми своими колючками, вглядываясь в улицу. Так дети, запертые в больнице, прилипают к стеклу в жажде обретения долгожданной свободы. И Мише представилось, что этот маленький кактус — будто бы он сам, его отражение в витринном стекле. Миша зашел в магазин и купил этот кактус, благо он стоил совсем недорого. Дома он сразу пересадил его в подходящий горшок, и кактус неожиданно пустился в бурный рост, а там и стал размножаться, производя новых и новых деток, потом взял и зацвел… В общем, Мише очень нравился этот колючий друг с острыми шипами. Неприветливый кругляш с твердым зеленым тельцем обладал каким-то странным магнетизмом, может быть, благодаря своей жизнестойкости и фантастическим цветам, неожиданным на скромном тельце. Цветы будто бы проявляли скрытую ото всех внутреннюю жизнь, которую можно доверить только самым близким. Мише кактус доверял, поэтому и цвел, а родители удивлялись: «Чем ты его поливаешь?»
Поливать кактусы следовало крайне редко, Миша изучил специальную литературу. Гораздо чаще, чем поливать, доводилось разговаривать с кактусом, а то и откровенно жаловаться ему на то, например, что на заводе дверцу Мишиного шкафчика измазали какой-то дрянью и замок сломали. Начальнику цеха Миша ничего не сказал, только с горем пополам починил замок и отодрал с дверцы дерьмо. Миша понял, что ему мстят за перевыполнение плана. Мол, все люди как люди, а этот… Через неделю замок опять сломали. На беду, Миша оставил в шкафчике альбом с рисунками, так этот альбом сволочи по листику разодрали и рисунки по стенкам развесили на пластилин, а потом ржали, что вот вам выставка живописи Ван Гога. И так громко ржали, что мастер Федор Николаевич услышал и зашел посмотреть, в чем там дело. А Миша тихонько сидел в уголочке в невозможности немедленно встать и уйти, просто боясь пошевелиться.
Увидев Федора Николаевича, супостаты притихли, каждый с головой зарылся в свой шкафчик, делая вид, что он тут совершенно ни при чем. Федор Николаевич порывался спросить: «Кто это сделал?», но на полуслове замолчал, потому что глупо, наверное, было поднимать шум из-за каких-то художеств. Рисунки он вернул Мише, а потом спросил:
— Ты где учился, сынок?
— В шестнадцатой школе, — Миша даже удивился вопросу: это же всем было с самого начала известно.
— Нет, я спрашиваю, ты где рисовать учился?
— Нигде. Рисую себе, и все.
— Так, значит… Да-а…
Федор Николаевич выглядел слегка растерянно, и Миша даже засомневался, а не уволят ли его теперь из-за этих рисунков. Однако Федор Николаевич прищелкнул языком и, выбрав из пачки один рисунок, спросил:
— Можно я вот этот возьму?
— Да пожалуйста. Берите хоть все. А зачем вам?
— Ну как зачем? Я его покажу завклубом. Может, выставку твою устроим. Персональную художественную выставку, а?
Миша пожал плечами.
Когда Федор Николаевич удалился, рабочие снова зареготали, что Ван Гога теперь заберут от них лозунги писать типа «Слава КПСС» или «Наш труд тебе, Родина». И, поскольку Ван Гог любит перевыполнять план, на каждом углу вскоре появится плакат, зовущий в светлое будущее, гы-гы-гы. Однако никто Мишу никуда не перевел, и выставку в ДК заводское начальство не одобрило, потому что «у него непонятно что там нарисовано».
Глубоко переживая свое выпадение из трудового коллектива и социальной жизни вообще, Миша задумал сходить по льду Онежской губы на Бараний берег и обратно, потому что идти куда-то с определенной целью было все же легче, чем странствовать изо дня в день неизвестно куда. Лед на озере стоял прочный, такой, что выдержал бы и танк, не то что Мишу, которого маломальский сильный порыв ветра с места сносил.
Положив в рюкзак термос со сладким чаем и бутерброды с чем попало, а также кусок отварной курицы, Миша ровно в восемь тридцать стартовал с набережной к далекому берегу, который в ясный день читался каменистой полоской вдалеке. Заснеженное полотно льда чертили вдоль и поперек свежие лыжни, устремлявшиеся в том же направлении. Лыжники, порой скользившие мимо и подозрительно косившиеся на пешего скитальца, чем-то напоминали Мише крупных чаек, возможно, потому, что стремительно неслись вперед, почти отрываясь от поверхности, будто высматривая добычу.
Ходу было двенадцать километров. Не так и много, если думать не о том, что идешь, а о чем-то совсем другом, просто смотреть вокруг и слушать. Миша очень хотел уловить «гад морских подводный ход», как и подобало настоящему поэту, но пока ничего такого не случалось. Изредка небо над головой пересекал реактивный самолет. Тогда Миша останавливался, чтобы проводить его взглядом, и представлял, что пассажиры самолета сейчас в свою очередь наблюдают за ним, как он стоит, задрав голову, на простыне заснеженного озера, и гадают, куда же направляется этот человек в одиночестве. Впрочем, Миша шел не один. За ним, сверкая амуницией, следовала целая рота «Викинг», правда, невидимая.
Навстречу Мише и викингам с того берега, вздымая лапами снежные вихорьки, двигались полупрозрачные и едва различимые на снегу белые медведи. Крупный самец, его медведица и двое медвежат, которые смешно кувыркались на снегу, а медведица раздавала им затрещины, чтоб не отставали от родителей и не замедляли движение. Поравнявшись с медведями, рота «Викинг» приветствовала их дружным громовым «ура-а!», прокатившимся раскатами от одного берега до другого, а медведи дружелюбно закивали в ответ, мать-медведица даже приблизилась к Мише и, наклонив огромную голову, дружелюбно лизнула Мишу в лицо. Язык у нее был шершавый и очень горячий.
Дальше Миша повел свою роту по медвежьим следам, и ход сразу убыстрился натоптанной тропой. Когда они наконец добрались до каменистых отрогов Бараньего берега, день бы в самом разгаре. У самой кромки воды, тронутые льдом и снегом, лежали драконы, окаменевшие много тысяч лет назад, в эпоху великого оледенения. Драконам недоставало короткого лета, чтобы оттаять в глубину, до самого своего сердца, поэтому они до сих пор жили в виде камней, омываемых волнами: драконы были земноводными и хорошо чувствовали себя в воде. Главное, что они больше никого не трогали и не ели.
Рота «Викинг» обосновалась на берегу. Миша подкрепился горячим чаем с бутербродами, еще и подкормил любопытную ворону, которая по случаю покинула высокую сосну и обосновалась поодаль, пристально разглядывая Мишу и покаркивая. Подобрав подходящую ветку, Миша начертил на снегу свой автограф и знак роты «Викинг». Побродив по окрестностям и хорошенько поразмыслив о том, где он находится в широком смысле этого слова, Миша решил, что в городе почему-то гораздо больше одиночества, чем на пустынном берегу озера, и что ему гораздо легче общаться с вороной и каменными драконами, чем с товарищами по цеху. Ну, вот хотя бы потому, что ворона и драконы не пили. А у рабочих на уме ничего другого не было, кроме выпивки, особенно по пятницам. И какой же толк куролесить в подпитии, если на следующее утро они даже не вспомнят, где и с кем куролесили… Эх, да что говорить!
Разделив с вороной остатки курицы, Миша пустился в обратный путь, уже не обращая внимания на снежные фантомы, которые вокруг носились во множестве, особенно четко проявляясь в подступающих сумерках, а настоящих людей по пути не встретилось вплоть до приближения к родному берегу. Фантомы были белые и полупрозрачные, как те медведи по пути к Бараньему берегу, а люди плотные, и читались они издалека черными букашками на полотне снега.
Потом Миша долго ждал автобуса на остановке, не переставая про себя удивляться, насколько же несуразно устроена городская жизнь по сравнению с натуральной, лесной. Там не нужно никого ждать. Там нужно смотреть, слушать и действовать! Но в городе никаких особенных действий от него никто не ожидал, кроме работы четко по графику цеха: пришел-отработал-положенное-ушел. А свою художественную самодеятельность засунь поглубже знаешь куда!.. Подобным образом на годы вперед была рассчитана его трудовая жизнь.
4
В феврале 1981 года Миша пришел в заводской турклуб «Снежинка». На Доске объявлений прочел о наборе и тут же решил записаться. А через неделю, в последний день зимы, впервые встал на лыжи. Лыжи выдали ему казенные, ботинки тоже, так что проблемы с амуницией не существовало вовсе. В поход вместе с ним отправилась рота «Викинг» в полном составе, естественно, в незримом виде, так что проблем и тут не возникло.
В тот день Миша сделал свои первые в жизни 24 километра по трассе Фонтаны, где дежурила у костра команда турклуба «Снежинка». Миша шел по трассе размеренно, не торопясь и в ритм своему движению складывал в голове строки:
Я в жизни первый раз на лыжах мчался,
А зимний день уже кончался…
Дальше придумать он не успел, потому что кончился не только день, но и забег.
На стихи прошибло год назад, когда с Петей ездили в Кутижму к родителям его невесты. В апреле уже была свадьба, на которой Миша впервые танцевал с девушкой. Раньше как-то не доводилось. Стеснялся он на танцы ходить в городе. С тех пор стали ездить в Кутижму. Ковыряли навоз, копали огород, сажали картошку, ходили в лес за грибами. Там же, в Кутижме, Миша всерьез влюбился в одну из младших сестер невестки Любу. И так ему показалось, что было чуть-чуть ответного чувства. В разгар мая после танцев, уже ближе к ночи, ходили к речке за водой…
А ты помнишь, как с тобой
Мы белой ночью после танцев
Ходили к речке за водой?
Взволнованный, дрожащий,
Ты помнишь голос мой?..
Конечно, это были еще не настоящие стихи, но таких строчек написано было много. А Мише как раз нужно было очень немного: один ее взгляд — и достаточно. И этого взгляда хватило на целый год.
А еще через год Люба приехала в город учиться и зимой записалась в турклуб «Факел» при заводе Тяжбуммаш, ходила на лыжах на Фонтаны. Начались тренировки, походы выходного дня… Именно поэтому Миша тоже решил записаться в турклуб, чтоб было о чем поговорить с Любой. Оба — спортсмены, оба туристы. Он даже написал Любе письмо, потому что боялся рассказать устно, что это Люба открыла ему целый новый мир: «В последний день зимы я совершил свой первый лыжный поход, отмахав целых 24 километра! Как это мне удалось, я сам не понимаю до сих пор, ведь я не умел ходить на лыжах! Но вот шел по лыжне и представлял, что на финише меня ждешь ты. Гибкая, стройная девушка в лыжном шерстяном костюме, плотно облегающем тело…» Люба обогнала его в том забеге на обратном пути уже в черте города. Пролетела мимо, как ласточка, даже не обернувшись, будто они не были знакомы. Поэтому Миша и сам понимал, что его письмо Любе — жест отчаяния, но иного придумать не мог, чтобы выпустить из себя горечь и боль первой любви.
Потом были весна и лето, были коммунистические субботники, вечера у костра с гитарой, ночевки в палатке под звездами, стихи и песни, но любви так и не случалось. Единственной любовью оставалась Люба, Любовь.
Уже осенью, готовясь к лыжному походу по Лыжне Антикайнена, Миша занялся бегом. То есть он так для себя решил, что готовится к лыжному походу, однако сам же понимал, что просто-напросто пытается сбежать от любви. Каждый вечер он совершал забег на шесть километров по улицам вечернего города, и что-то новое открывалось для него: темнота, огни вдалеке, яркие звезды над головой, ветер, мелкий дождь… А Миша бежал, бежал в одиночестве по пустынным тротуарам, изредка встречая таких же одиноких бегунов, парней и девчонок, одетых в красный, синий, голубой, черный нейлон…
Красный цвет — цвет огня,
Брошен свет на коня.
Сколько ж лет,
Как рассвет,
Твой нейлон на ветру
Поутру…
Вообще-то Миша бегал исключительно вечером, но «поутру» рифмовалось с «на ветру». Это стихотворение он посвятил Девочке в красном, незнакомке, которую он несколько раз встречал в районе площади Кирова, в заводском парке Ямка и на проспекте К. Маркса. Это опять была безответная любовь поэта к юной и неуловимой бегунье, невозможная, как и многое другое в мире, но все равно прекрасная, заставлявшая сердце биться чаще, а ноги — бежать вперед и вперед. Бег не был простым увлечением, он представлялся Мише формой инобытия, внутри которого все было возможно — и поэзия, и Девочка в красном. Руководитель клуба «Снежинка» Владимир Петрович считал, что Миша бежит только за счет физической силы, да-да, именно так, и на лыжах ходит тоже исключительно за счет силы мышц, каким-то образом таящейся в его хрупком теле. Миша еще не выработал ни техники скольжения, ни техники дыхания во время бега: он бежал на одной выносливости и упрямстве. И бежал легко, едва касаясь земли.
Будущий поход по Лыжне Антикайнена требовал врачебной комиссии. Миша на комиссию пошел, несмотря на подозрительные взгляды и шепотки товарищей по клубу. А они шептались правильно: на комиссии всплыла Мишина медицинская карта, в которой черным по белому читались его диагнозы. Врачиха, прослушав легкие и убедившись, что хрипов нет, все же с сомнением покачала головой:
— Я тебя отправлю на освидетельствование в психоневрологический диспансер.
— Зачем?
— Затем, что ты олигофрен. Как же ты можешь участвовать в лыжном походе?
— А-а… Какая связь?
— Самая прямая. Мало ли что тебе в голову придет на лыжне.
Мише на лыжне могли прийти в голову только стихи, но он не стал рассказывать об этом врачихе. И вот с направлением, которое выписали ему на этой комиссии, Миша направился в психдиспансер, высидел в общей очереди на прием в длинном коридоре, который украшал огромный плакат: «Шизофрения — не позор, а повод для обращения», зашел в кабинет, который ничем не отличался от обычного кабинета врача. В кабинете сидел доктор, точно похожий на Гавнеля Исаковича, насколько Миша помнил из детства, только помоложе. Может быть, даже его сын. Наверное, в психдиспансере, как и на заводе, существовали рабочие династии.
Гавнель Исакович-младший стал показывать Мише размытые картинки и спрашивать, что на них нарисовано. Миша ответил, что это просто размытые картинки, ничего особенного.
— А вот давайте лучше я вам свои рисунки покажу! — Он достал из рюкзака паку с рисунками и разложил на столе перед Гавнелем Исаковичем.
— Ух ты! — удивился Гавнель Исакович. — Это ты сам нарисовал?
— Сам. Не стану же я за собой чужие рисунки таскать.
— А вот это у тебя, например, что нарисовано? — Гавнель Исакович указал на композицию, нарисованную шариковой ручкой на тетрадном листке.
— А это абстракция такая в духе русского авангарда.
— Даже так? А ты откуда про русский авангард знаешь? — еще больше удивился Гавнель Исакович.
— Я про него читал. У нас заводская библиотека — знаете, какая?.. Очень большая. Но я почти все книжки из нее прочел по два раза. А в букинистике, представляете, на днях Ницше нашел 1921 года издания.
— Ницше? Как это, Ницше — и вдруг в букинистике? Фантастика какая-то.
— Не фантастика, а самый настоящий Ницше.
— Он же у нас запрещен!
— А кому он нужен, кроме меня… Здесь, где меж двух морей вырастает остров, в нагромождении скал подобный грубому жертвеннику, именно здесь зажигает под черными небесами свои высоко сложенные костры Заратустра…
— Это ты тоже сам написал?
— Нет. Говорю, Ницше.
— Ницше же о Гитлере писал.
— Гитлера еще не было, а Ницше был. Слушайте, доктор… Я зачем к вам пришел. Поставьте мне какой-нибудь другой диагноз. Олигофрения — слишком обидно.
— Как же я могу другой диагноз поставить, когда у тебя в карточке так написано? И стихи у тебя вон совсем непонятные.
— Это Ницше написал, говорю. А хотите, я вам свои стихи прочту?
И, не дожидаясь ответа, Миша с ходу продекламировал:
Поставьте к станку — буду работать.
Закопайте в окоп — буду стрелять.
Поставьте к окну — так и буду стоять.
Дайте мне кисть — будет картина.
Дайте мне кость — будет собака.
Дайте мне крест — будет странник.
Дайте мне есть — не будет голода.
Дайте мне стол — будут стихи.
Дайте стакан — будет похмелье.
Дайте дорогу — и я побегу.
Пригласите на марафон?
Пожалуйста! На лыжах! По озеру!
С рюкзаками, на острова? — И это могу.
Я — пишущая машинка изысканного стиха!
А жить — не умею. Не умею — жить!
Жить, говорю, не умею.
Я работаю, функционирую, а не живу.
Человек-поэт, человек-бегун, человек-турист, человек-художник,
Человек-художник, человек-рабочий, человек-машина, человек-солдат,
Последний солдат Ветра Бегов.
Последний герой северного ветра,
Взрывчатый материал самоубийцы,
Вытянутого в жизнь,
Родившегося от смерти.
Еще немного, и Миша бы воспарил и вылетел в окошко, пройдя невредимым сквозь стекло. Однако вопрос врача его остановил:
— Это чьи стихи? Маяковского?
— Мои, говорю. Простите. Вы, кажется, мне не верите? Но если из моей жизни вычесть письменный стол, дорогу, лыжню, завод, беговую дорожку, то от этой самой жизни мало что останется…
— Счастливый человек, — подытожил психиатр. — У других и этого нет. Ладно. Езжай своей Лыжней Антикайнена. Отдашь заключение в заводскую лабораторию. Только там не вздумай стихи читать.
— Почему?
— Лишних вопросов не задавай. Все! Шагом марш!
Миша внял последним словам Гавнеля Исаковича и бодро зашагал домой, уверенный, что теперь-то уж лыжня для него состоится абсолютно точно.
А дома отец, вернувшись со смены, вслух зачитал справку, которую Мише выдали в психдиспансере. Сделал он это потому, что сам не раз советовал Мише посетить психдиспансер, пускай там скажут, что с ним не так. Отец не раз говорил матери, что пьет из-за Миши, мол, бог наградил, дал сына-художника. И брат прямо советовал «сменить ориентацию», то есть спуститься с небес на землю и жить земным, а не тонкими сферами. Брат недавно выучился на инженера и во всяких сферах разбирался прилично, а вот в искусстве — нисколечко. И только мама, всю жизнь проработавшая на заводе, уважала Мишины художества. Она вообще всех людей уважала одинаково, независимо от должности и зарплаты.
Итак, отец, нацепив очки, торжественно прочел заключение Гавнеля Исаковича, писанное аж на двух страницах:
— …по данным личностных методик, выявляется дезинтеграция личностных характеристик, высокий уровень внутренней напряженности. Характерная обособленно-созерцательная личностная позиция, склонность к раздумьям превалирует над чувствами и действенной активностью, инертность в принятии решений, творческая ориентация, — ишь ты! — своеобразие интересов и увлечений, недостаточная зрелость, субъективизм суждений и оценок, высокая потребность в актуализации своей индивиду-а-лис-тичности, — последнее слово отец едва выговорил по слогам, но, прокашлявшись, продолжил: — Отмечается недостаток рационализма и практичности, оторванность от реальных жизненных проблем. Коммуникативные потребности несколько снижены, в контактах выражена избирательность. Характерны ощущение своей непонятости, одиночества и наличие депрессивных переживаний…
Оборвав чтение на полуфразе, отец отхлебнул прямо из носика чайника, крякнул и высказался:
— В общем, все, что я из этой бумаги понял: голова у тебя, Миха, — не жопа, на ней не сидеть. Так что, сынок, отправляйся смело в поход Антикайнена, авось не пропадешь по пути. А пропадешь — в снегу найдем и откопаем. Лопат на заводе предостаточно.
Странно, Миша ожидал, что отец скажет что-нибудь погрубее. Совсем недавно он бухтел, что это из-за Миши семья оказалась в изоляции, никто с отцом дурня даже выпить не хочет, и что давно пора «прекратить заниматься детством», то есть смять в комок пластилиновых солдат и выбросить в помойное ведро, и туда же отправить свои записочки, альбомчики и тетрадки комиксов. Отец частенько грозился, что сам сделает это, однако только грозился, осуществить задуманное рука не поднималась, что ли. А может, он просто маму боялся. Мама бы не дала Мишу в обиду. Но свои сокровища Миша на всякий случай перекладывал из одного укромного места в другое.
Перед лыжным походом случился еще марафон заводской молодежи от клуба любителей бега «Онежец». Бежать откомандировали Мишу, потому что больше-то оказалось некого, никто не бегал в свое удовольствие. И Миша согласился, хотя до сих пор он бегал только по улицам по десять километров туда и обратно.
Погода выдалась на редкость мерзкая. С утра моросил мелкий холодный дождь, из тех, что если зарядят, так на целую неделю без продыху. По этой причине зрителей на стадионе «Юность» было человека четыре-пять из числа родственников бегунов, которые за них сильно переживали. А за Мишу никто не переживал: всем было некогда, и это, конечно, его немного задевало. Но ничего, терпимо.
Марафонцев привели на стадион «Юность», выставили по линеечке на старте. Противный дождик моросил уже со всех сторон: сверху, сбоку и снизу, от него вот именно что хотелось убежать подальше. Миша принял позу «на старт», отфыркиваясь от холодных противных капель, наконец раздался выстрел, Миша сорвался с места и побежал вперед. Он рванул на пять тысяч метров, как будто на пятьдесят, и сразу ушел в отрыв, обогнав почти всех участников. Сделал первый круг, второй, оставив соперников далеко позади. Миша легко перебирал ногами, едва касаясь земли. Он бежал почти без всяких усилий, не чувствуя даже, что бежит, а будто просто стремительно плыл вперед, как большая рыба внутри дождя. Но вдруг что-то случилось, сердце поднялось в груди к самому горлу, бронхи едва не разорвались на вдохе, и Миша, взяв вбок и сойдя с дистанции, прислонился к забору стадиона и медленно сполз на землю под злые холодные струйки.
В заводской амбулатории врач, выслушав грудную клетку Миши сзади и спереди, сказала, что у него сердце. Она именно так и сказала: «Сердце у тебя, сердце». Конечно, у него было сердце, кто ж этого не знал! Не репа же в самом деле стучала в Мишиной груди, гоняя по жилам кровь. Нет, сердце в том смысле, что наблюдается аритмия, пояснила врач, то есть бьется Мишино сердце не равномерно, а вообще вне какого-либо ритма. Ну, предположим, в этом Миша давно не сомневался, потому что ему очень хотелось победить в этом забеге, вот он и переживал, и сердце билось неравномерно.
— Обследоваться надо, — сказала врач. — Кардиограмму снять.
— Что снять?
— Кардиограмму. Ну, зафиксировать ритмы твоего сердца.
— А на лыжах потом можно будет ходить?
— Кардиограмма покажет. Хотя на лыжах всем можно.
Врач выписала Мише неделю больничного, в течение которой он должен был обследоваться. Миша сделал в поликлинике кардиограмму, которая, как ни странно, не выявила серьезных нарушений. То есть это врачу показалось очень странным, что все в порядке. А Миша был уверен, что на марафоне он просто-напросто переволновался, вот и все дела. Он хотел попросить у врача свою кардиограмму на память, не каждый же день ритмы сердца рисуют на бумажной ленте, очень красиво, кстати, получилось… Но врач сказала, что кардиограмма будет подшита в медицинскую карту, без этого никак. Тогда за время больничного Миша нарисовал эмблему клуба «Онежец», слегка похожую на кардиограмму, ну, сердце бегуна же стучит усиленно. Причем, чтобы вышло симметрично, рисовал сразу обеими руками, и слово «Онежец» тоже писал обеими руками одновременно. Действительно, получилось очень красиво.
Миша отнес эту эмблему руководителю клуба Сергею Степановичу, тот Мишу похвалил, но и поругал немного за то, что тот дыхалку не рассчитал на дистанции:
— Пять тысяч метров — это тебе не хухры-мухры, мог и коньки откинуть.
— Да не-ет, где там.
— Ага! А меня бы потом за тебя, дурака, в тюрьму посадили. Что я больного на марафон выпустил. Как там у тебя с сердцем?
— С сердцем у меня все в порядке. И бегать я все равно буду.
— Вот это правильно. Весной чтобы всех обошел на дистанции, слышишь меня? Ты же сильный, Мишка, жилистый! Не подведи!
Мише хотелось ответить: «Так точно!», как ответил бы пластилиновый Герой Советского Союза Гуслик Маньковский, но вовремя сдержался.
От станции Масельская до Кимасозера 1100 километров. Лыжному отряду предстояло преодолеть это расстояние за две недели, как некогда красноармейцам в далеком 1922 году. В свое время в Кимасозере красноармейцы разгромили белогвардейский штаб, уничтожили склады с боеприпасами, спасли от расстрела группу карельских крестьян, которые отказались сотрудничать с интервентами, и без единой личной потери взяли в плен более тридцати белофиннов.
Отправляясь в поход, Миша подспудно надеялся, что им тоже, может быть, удастся кого-нибудь спасти. Ну, не от расстрела, а вообще от всяческих житейских происшествий. Случается же всякое по сей день и без белофиннов. А еще лучше выручить из беды какую-нибудь девушку. Например, она провалится под лед, а Миша подползет к проруби, лежа на лыжах плашмя, и кинет ей веревку… Дальше дофантазировать он не успел, потому что совсем не к месту выдернулось из памяти: «За мною веревка бежит по пятам, и мыло встает на дороге» — такое стихотворение Миша начал писать только этой осенью, но тоже не закончил просто потому, что впереди маячил лыжный поход, и жизнь представлялась не такой уж никчемной.
На вокзале в ожидании поезда до станции Масельгская Миша купил томик Маяковского, чтоб было чем заняться в дороге. До сего дня он еще никогда не покупал поэтов целенаправленно, а этот томик будто сам в глаза полез в витрине киоска, такой новенький, ярко-красный. И строчки в нем так и пылали огнем, каждое слово сыпало искрами, отвлекало от вагонных разговоров и перестука колес.
Парни в вагоне успели выпить, разложили на газетке соленые огурцы, бутерброды и вареные яйца. А Миша, устроившись на боковом сиденье, читал Маяковского, ловя косые взгляды, потому что какой бы нормальный человек стал вот так, по доброй воле, в вагоне читать Маяковского? Маяковский — это же планов громадье, серпастый и молоткастый паспорт, это двое в комнате — я и Ленин, ну и так далее. Ничего интересного, в общем. А парни тем временем рассуждали о том, что рано или поздно советский режим должен рухнуть, тем более что Брежнев откинул коньки, а он, что ни говори, был оплот, несмотря на полный маразм…
Миша краем уха улавливал крамольные речи, которые, впрочем, произносили уже повсюду и даже без оглядки. Но вот почему маразматик Брежнев… Ну, в этом давно уже никто не сомневался, что он маразматик, отец, например, его иначе и не называл… Так вот почему маразматик Брежнев мог руководить целым государством, а Миша вынужден по каждому случаю идти за справкой в психдиспансер? Он вовсе не собирался руководить СССР и даже в собственной семье до сих пор находился в подчиненном положении. Почему он самостоятельно не мог сделать практически ничего?
Однако задавать такие вопросы в поезде оказалось совершенно некому. И тогда Миша — параллельно чтению Маяковского — принялся рассуждать, почему это советский режим должен был рухнуть? Какие перед ним стояли трудности? Режиму ничего не угрожало. Заводы сутками пускали дым в небо, производили необходимые всем машины и механизмы, выполняли и перевыполняли план. А что еда практически исчезла с магазинных полок, так ведь у каждого дома в загашнике стояли неприкосновенные запасы закруток и консервных банок. И несмотря на то, что и в касте рабочих случалось немало гопников, чего, следуя учению Маркса, никак не могло быть, однако они все-таки были… Так вот, несмотря на гопников и пьяниц, среди рабочих были настоящие умельцы, которые к тому же не пили, не курили, занимались спортом и даже моржевали, то есть всем своим видом создавали образ такого рабочего, каковым он и замысливался при социализ…
Поезд дернуло, Миша сильно стукнулся головой о простенок, бутылку водки выкинуло со стола. Она шлепнулась на пол и разлетелась на мелкие осколки, распространив алкогольный дух по всему вагону. Парни, громко ругаясь матом, вытянули проводницу из служебного купе, заставили ее принести тряпку, совок и веник, чтобы ликвидировать происшествие, и еще долго зачем-то ходили туда-сюда… Дальше Миша плохо помнил, потому что уснул, свернувшись калачиком на нижней боковой, подложив под голову шапку с шарфом и укрывшись курткой.
Миша все еще неуклюже ходил на лыжах, выезжая исключительно на своем упорстве, поэтому шел в самом хвосте лыжной группы. Впрочем, так только казалось окружающим. На самом деле за ним следовала в полном составе рота «Викинг», так что тыл был надежно прикрыт, и Миша даже не оборачивался, чтобы проверить, не засел ли в заснеженных кустах какой-нибудь белофинн, не добитый отрядом Антикайнена.
На спуске с горы Миша упал, рюкзак провалился в снег, вдобавок дужка крепления улетела неизвестно куда. На счастье, на помощь ему пришел Валерий Савельев, активист клуба, чему Миша обрадовался вдвойне, потому что Валерий Савельев, капитан советской армии, некогда служил штурманом ТУ-16 морской авиации Тихоокеанского флота и внешне был очень похож на боцмана Топоркова. Валерий Савельев умудрился найти в снегу дужку, они вдвоем собрали крепление, привязали обе дужки к лыжам и в радостном настроении двинулись догонять группу. В радостном — потому что все разрешилось на редкость удачно, и Миша за поисками этой дужки даже успел рассказать Валерию историю своей жизни, что он родился недоношенным и, скорее всего, облученным еще до рождения, то есть его отцу генный материал облучили во время ядреных испытаний. А Валерий посетовал на то, что да-а, на жуковском полигоне в тот раз облучили 45 тысяч военнослужащих и десять тысяч населения, он читал секретные сводки. И при этом никому ничего не сказали, не предупредили о последствиях, а их дети теперь страдают, то есть большинство уже не страдает, потому что попросту умерли, а Миша, гляди-ка, еще живет и даже ходит на лыжах. Молоток, Михаил, так держать!
Подбодрив Мишу, Валерий Савельев умчался вперед, а Миша снова остался в замыкающих и шел замыкающим до самого вечера, до того, как на привале разбили палатки, развели костер и после ужина пели под гитару. Миша очень любил такие моменты, потому что у костра он ничем не отличался от остальных, пел вместе со всеми и вместе со всеми рассуждал о том, что есть и что будет дальше. Он был счастлив. И ему казались мелочными и несуразными разговоры о том, что где-то за границей в обычной рабочей столовке и шницели тебе, как у нас в ресторане, и кофе из кофеварки, а не из бачка, и что простой рабочий может в рассрочку купить себе целый дом. А кто-то возражал, что вон у некоторых, например, дача есть. Чем не дом? И картошка своя к тому же. — Ага. Потому что магазинную в рот не возьмешь, гнилая напропалую. Вот чем кормит рабочего человека советская власть. — Зато никто никого не эксплуатирует. И в магазине сыр целых трех видов в свободной продаже. — Это чё? Голландский, пошехонский и еще какой? — Да финский же! А в промтоварах на полках свободно стоят кассетники и кроссовки, а колготок этих женских — завались за какие-то копейки…
Какие там колготки? Какой еще кофе, когда так хорошо было сидеть у костра с друзьями и смотреть в огонь, в котором перегорали все мелочные обиды и недомолвки. И Миша так размышлял параллельно всяким разговорам, что жить вообще хорошо и что некогда отряд Антикайнена отвоевал у белофиннов эту хорошую советскую жизнь, в которой все равны и дружба стоит дороже всяких там кассетников, а в киоске на любом вокзале можно запросто купить томик Маяковского, например. Что еще-то людям нужно? Чего недостает? Ну, разве что у коммунистов слово с делом расходится, так это не только у коммунистов, а вообще у всех. Наверное, мир именно так устроен, что надо говорить одно, а делать другое. И почему нельзя поступать иначе, этого до сих пор никто не сумел ему объяснить.
— Миша. — Он неожиданно услышал вкрадчивый голос. К нему присела Аня Богданова, опытная бегунья, которая осенью победила в городском марафоне. За Аней ухлестывали все без исключения парни в их отряде Антикайнена.
— Миша, а вот рассказывают, ты стихи пишешь. А можешь нам сейчас почитать?
Миша не уловил в ее голосе ноток иронии, поэтому с радостью согласился.
— Так я могу. Вот я как раз перед самым походом написал. Ну, о том, что мы продолжаем дело защитников нашей родины.
И опять он не уловил полуулыбок, которыми в предвкушении наградили его сидящие у костра, поэтому смело, едва взяв дыхание, продекламировал:
Матрешки и «Калашников». Икра.
Прославленная нищая держава.
Врагов веками у границ держала,
А дети замерзали на ветрах…
…Не страшно было, но, обиды множа,
Пощечины горели на щеках,
А женщина жила без мужика,
Детей кормила собственною кожей.
Кожанка в прошлое ушла и молоко,
И городом прикинулась деревня,
Но, вспоминая о преданьях древних,
По зеркалу тихонечко рукой
Проводишь ты, и восстает былое,
Забытое, но только до поры,
И светят в ночь монгольские костры,
И тянет, тянет Золотой Ордою
Из прошлого. Ты снова меч берешь,
Сражаешься с тевтоном и поляком…
Гражданская, тифозные бараки,
«Пантеры» и пылающая рожь. —
Но, розовея, русская заря
Встает и движется с востока.
Ты вновь стоишь у милого порога,
И ордена как золото горят.
Выделив голосом последнюю фразу, Миша обвел взглядом товарищей, на лицах которых застыло крайнее изумление. Кто-то даже приоткрыл рот, и теперь Миша не понял, понравилось им или не понравилось, и сник, втянув голову в плечи, ожидая издевок.
— Так это ты… это ты сам написал? — робко выдохнула Аня.
— Не ври, это Маяковский! — выкрикнул кто-то по ту сторону огня. Миша не разглядел, кто именно.
— Какой Маяковский? Блок это… Ну, нищая держава — нищая Россия… — предположила Аня.
И ребята зареготали, какой там Блок, когда «Калашников» и икра.
— А что, разве икры тогда не было? Паюсной?
— Не, икра как раз была…
— Да тише вы! — осадил спорщиков Валерий Савельев. — Михаил, признавайся, у кого слямзил.
— А чего сразу слямзил? У меня целая тетрадка стихов, между прочим, только не все наизусть помню!
— Ладно, ладно, не кипятись. Хорошее стихотворение, это я тебе говорю как штурман морской авиации, то есть серьезно. Вернемся, обязательно опубликуем в газете «Онежец». А, ребята?
Ребята согласились. И Аня Богданова даже попросила, чтобы Миша показал ей и другие стихи из этой тетрадки. Однако Миша тетрадку в поход не взял, и Аня сильно сокрушалась по этому поводу: «Значит, ананас не для нас. Так?»
Про ананас частенько еще говорил один Мишин родственник из Вологды, Федор Кулаков, только наоборот: «Ананас не для вас», то есть не для простых трудящихся. Федор руководил тамошним пимокатным заводом, той же фабрикой валяной обуви, и, когда Миша еще учился в 16-й школе, отец частенько шутил, что ему одна дорога — к Федору на завод, а чего, обязан родственника пристроить, или я его прижучу, сатрапа. А шутка была в том, что до революции этот пимокатный завод принадлежал Мишиным предкам, и Мишина бабушка, как бывшая буржуйка, даже сидела тюрьме в 1932 году, уже беременная мамой. И так по всему выходило, что Миша должен был продолжить династию, валенки валять. Потому что ни поэтов, ни художников в семье не было. А этот самый Федор Кулаков хоть и был большой начальник, но очень противный тип, под себя греб обеими ручищами. И дачу себе под Вологдой отгрохал в два этажа, и настоящий пруд на участке вырыл с карпами, что вообще фантастика какая-то при советской власти. А рабочих при этом ни в грош не ставил, так и выражался даже при родителях, что работяг надо держать в черном теле, чтоб не забывали, кто над ними начальник, и отец по пьянке всякий раз грозился зубы ему выбить фарфоровые, ничего, новые сделает, у него денег куры не клюют. И над Мишиными художествами Федор здорово посмеялся, когда отца на пенсию провожали. Мол, тоже мне Ван Гог. Давай, Миха, в Вологде тебе вернисаж устроим и будем твои художества по рублю продавать. А чего? У тебя их много, глядишь, и подзаработаешь чуток.
Миша рассказал Ане про Федора, ну, что есть у нас такая семейная история, что фабрика была в Вологде и что бабушка по этому поводу даже в тюрьме сидела. И пока Миша про это рассказывал, ему параллельно пришло в голову как-нибудь подстроить Федору Кулакову аварию на трассе, чтобы потом у него донорские мужские органы взять, добровольно-то кто такое отдаст? А органы Мише бы пригодились, потому что как-то не срасталось у него с девушками, он уже подозревал, что что-то с ним не так, и девушки это чувствуют нутром. Ну, вроде поначалу шуры-муры, до дому провожал, даже пару раз с хулиганами вступал в перепалку, а дальше — ничего, кроме искренней дружбы, так и говорили напоследок: «Мы ведь друзья»…
Вот и с Аней так случилось в конце концов, что «мы ведь друзья», хотя до этого она говорила, что Миша симпатичный и отзывчивый, не пьет и матом не ругается, и что она даже завидует девушке, которая станет его невестой. Миша было припустил за ней на лыжах: постой, куда ты! Я же тебя, тебя выбрал своей невестой. А потом парни ему сказали, что Анька просто дурачилась, не бери в голову, она со всеми так: поматросит и бросит. Так ведь даже не поматросила, эх!
По возвращении из похода, когда Мишино стихотворение и в самом деле появилось в газете «Онежец», да еще на первой странице, рядом с передовой статьей, по цеху пошел рыскать парторг-алгоколик, приставал к Мише, почему тот находится на территории завода в спортивной форме клуба любителей бега, и кто тебе сказал, что ты поэт, ну и все такое прочее. И отцу еще настучал, мол, что такое этот недоумок про себя вообразил.
5
Миша бережно хранил грамоты и вымпелы, которые давали ему за спортивные достижения. Однажды, правда, надпись на вымпеле за марафонский бег на 20 километров его смутила. Странная на нем была написана дата: «02.32.05», и Миша было уже решил, что попал в свое особенное смещенное измерение дней и лет, не совпадающее с земным. Потому что с утра на календаре был 1990 год, однако каким-то образом, пока Миша бежал из пункта А в пункт Б, что-то случилось с мировым временем, и в году вдруг стало 32 месяца.
Впрочем, удивление прошибло Мишу только первый момент, и он сразу же понял, что на вымпеле написана не дата, а время, за которое он преодолел двадцать километров. То есть за два с половиной часа с копейками. Хороший результат. Мишу, кроме как вымпелом, тогда еще наградили бутылкой шампуня «Зеленое яблоко».
И все же пространство-время стремительно менялось вокруг, переоценке подвергалось буквально все: от почетного статуса пролетария до развития заводской художественной самодеятельности. Как-то на волне демократии и митинговщины председатель рабочего комитета профкома завода обещал коллективу буквально все, вплоть до триумфа массового спорта и выхода на международные соревнования. А рабочие потом подходили к нему и говорили: «Я колбасы купить не могу, а ты — о спорте». Миша понимал, что даже при всеобщем стремлении к демократии холодильник победит прекраснодушные устремления, но художественные опыты не оставил, более того: получил номинальный титул председателя клуба любителей бега «Онежец» как постоянный автор заводской газеты. Миша писал на туристическую и марафонские темы, освещая каждый вздох бегунов на стадионе «Юность», писал о Лыжне Антикайнена, о пробеге памяти Марии Мелентьевой, о турслете «Золотая осень», писал и печатался все больше и больше — до тех пор, пока его заметки печатали в заводской газете. А потом перестали, потому что простые трудящиеся вдруг стали откровенно не понимать, зачем-то кто-то еще ходит на лыжах, бегает, поет у костра и покоряет непроходимые леса и болота. Кому это надо? И сколько денег профсоюз расходует на эту белиберду, когда рабочие вот именно не могут купить себе колбасы.
Угораздило Мишу как-то выступить на собрании, что кому помешала Лыжня Антикайнена, и он услышал, что, мол, некоторые у станка вкалывают с утра до вечера за гроши, а кто-то знай себе лыжными палками машет. Какой в этот смысл? Вот не просрали бы финны в свое время Беломорскую Карелию, глядишь, довелось бы и нам сытно пожить, не то что нынче, когда за нормальные ботинки в «комке» всю зарплату отдашь, а в магазине одни резиновые боты-говнодавы и валенки с галошами. Нет, тебе, Миха, предположим, все равно, в чем ходить. Ты у нас идейно воспитанный недоумок. Вот что хорошего было при советской власти, так это то, что при ней можно было убогим ходить, никто не возражал, потому что главным в человеке считался коммунистический дух, ну, это когда он согласен трудиться за просто так, лишь бы быть в коллективе. И даже в многотиражке тебя упоминали как участника заводского субботника.
После этого собрания Миша ехал домой в троллейбусе и, чтобы слегка остыть, читал сборник Франсуа Вийона, за которым гонялся несколько лет и вот только накануне купил в букинистике. Вийон как-то убеждал его, что не все так уж и страшно вокруг: «Отныне мертвый я скиталец, среди возлюбленных — святой, среди любовников — страдалец». Миша только запнулся на строчке: «Еще селедка никогда такой не вызывала жажды…» Почему? Миша любил селедку под шубой, которую мама готовила на каждый праздник. Или Вийон выражался образно? Селедка — это такое состояние рыбы, когда ее солят, но можно ведь и не так круто солить… Внезапно перед ним выросла фигура гражданина в темным очках и кожаной куртке.
— Ты кто? — спросил гражданин. — Проповедник? Иегова? Сатанист? — и попытался вырвать из рук книгу Вийона.
— Это французский поэт, — робко отозвался Миша.
— Сейчас же выбрось в окно эту книгу!
— Почему?
Гражданин не сразу захотел отвечать на этот вопрос, а прежде грубо притиснул Мишу к дверям троллейбуса:
— Твои стишки мне отравили все детство, — прорычал он. — Зачем меня заставляли их учить наизусть?
В этот момент троллейбус подъехал к остановке, двери распахнулись, и Миша выпал на тротуар, сильно ударившись об асфальт.
Особенно обидно было оттого, что разгоралась весна. Сейчас бы пробежать марафон на 9 Мая, съездить на дачу, в очередной раз безответно влюбиться — но Миша загремел в больницу. Причем отвезли его туда прямо с остановки с сильным ушибом головы, а в больнице уже обнаружились стенокардия, гипертония, вегето-сосудистая дистония, тахикардия и т.д., о чем Миша даже не подозревал, что все это у него есть. Думал, что просто устал за зиму от работы и от жизни вообще. К концу смены накатывала невыносимая усталость, но домой не хотелось. Там отец — пьяный ли, трезвый — кричал на мать: «Скотина! Ты понимаешь, что ты скотина? Скотина! Скотина!» Отец работать больше не мог, окончательно выработался, завод выпил его кровь до последней капли, как он выражался, вышел на пенсию, на выпивку пенсии ему хватало, а ничего другого он и не хотел знать. Мама, которая иногда за целый день так и не удосуживалась переодеться из ночной рубашки хотя бы в халат, сидела на кровати и лила слёзы. Лицо у неё было всё красное, опухшее, волосы висели сосульками, и Миша ничего не мог с этим поделать. А теперь вот выяснилось, что комочек сердца, который бился у него в груди, устал еще больше, чем сам Миша.
В больнице его не обижали. Благо там все лежали увечные, у кого что болело. А у Миши будто уже ничего не болело, в больнице он будто бы не лечился, а был в эмиграции, сбежав из враждебного ему мира. Мама принесла Мише в больницу альбом и фломастеры, так что лежать было к тому же нескучно. И соседи по палате развлекались, рассматривая его рисунки. Миша рисовал свои мысли, и на бумаге они получались не то что в жизни — красивые, гармоничные, такие, что «Пикассо отдыхает», как выразился пожилой шофер дядя Костя. Потом Миша Корчагина нарисовал, каким он себе его представлял по книге, не по кино, и дядя Костя перед выпиской даже попросил этот портрет на память, сказал, что вставит в рамочку и повесит на стенку. Будет у него дома настоящая картина, да еще портрет Корчагина! А то в магазине все какие-то унылые пейзажики продаются, рисованные будто соплями. И зачем их на стенку вешать, если в окно выглянешь — а там то же самое.
Вечерами Миша записывал в большую тетрадку «Исповедь любителя бега», и мысли в тетрадке получались такие же ровные и красивые, как на его рисунках. Почему только он так же красиво не умел высказываться вслух?
Засыпал он поздно, долго ворочался в постели, потому что те самые мысли, которые он умел выражать только на бумаге, лезли в голову. Однажды ему приснилось, как его принимают в партию на заводе и выдают огромный пластиковый партбилет вроде заводского пропуска. К чему бы это? Оказалось, что быть принятым в партию во сне — плохо. На обходе врач сказала, что Мишу будут готовить к выпуску, но терапия ему нужна до конца жизни, потому что от сердечной мышцы осталось всего ничего, процентов тридцать, а остальное — уже не сердце, а тряпочка.
С таким вердиктом Миша вышел из больницы с твердым намерением вернуться в строй.
С братом сразу поцапался из-за племянницы. Петька теперь не хотел, чтобы Миша Машеньку учил рисовать. Знаем, мол, твои абстракции. У тебя что в башке, то и на бумаге. Зачем это Машке? Пускай зайчиков рисует, лис, волков и медведей.
— Так ведь они жрут друг друга. Зайцев то есть.
— Значит, зайцы пускай быстрее бегают. Понял меня? У нас теперь так: шевелиться надо, вертеться, иначе сожрут и косточек не оставят.
Брат еще к бутылке прикладываться стал. У тестя в деревне всегда самогон на столе, а Петька каждое лето в деревне — картошка там, рыбалка, огурцы тепличные. Теща банок накрутит за лето штук пятьсот, огурчики хорошо на закуску шли, ну и пристрастился Петька. А чего, в деревне все пьют. Кто не пьет, тот нос задирает, городской выпендрежник, значит. Уважать перестанут… А Машенька рисовать любила. Нарисует что-нибудь и Мише несет показывать: «Дядя Миша, у меня хорошо получилось?» Жаль, в общем, что Петька взбрыкнул. Главное, повода не было.
На свое рабочее место Миша вернулся, и к нему сразу цеховые слесаря подкатили: «А чем это ты болел? Ты дома случайно не вешался?» И Миша понял, что, по рабочему разумению, он должен был повеситься еще тогда, когда местные «демократы» на митинге объявили трудящимся, сколько профсоюз расходует на общественную деятельность и всякий там туризм — в то время как рабочий человек колбасы на ужин купить не может.
Что-то основательно сдвинулось в мире. Пробег вот организовали на День города. Раньше настоящий праздник был, а теперь как-то так, скучно, вяло. И бежали вяло, всего-то четыре километра, а Миша пробежал все шесть и дальше бы бежал, если б не остановили. Бежали обычным составом: заводские ребята и поэты-марафонцы, новенькой была только Таня Лаврухина. Именно тогда Миша впервые ее увидел.
Потом было награждение грамотами и вечер поэзии, на котором Миша читал новые стихи как бы для всех, но обращаясь исключительно к Тане.
А потом День города завершился, и возникла новая пустота. Ну, разве что Мишин репортаж о забеге напечатали в газете «Онежец». Так парторг-алголик опять отцу нажаловался, хотя отец уже и не работал: «Он опять печатается в газете. Хотите, чтобы над ним смеялись? Примите меры, потому что он позорит весь цех». Чем позорит? Картинками своими и стишками.
А дома отец говорил: «Какого хера ты все за коммунистами бегаешь?» А Миша так решил, что, когда придет зима и выпадет много снега, он обязательно встанет на лыжи и побежит на Фонтаны за коммунистами. Потому что больше бегать не за кем. Он даже возразил отцу, что коммунистам спортивные клубы были нужны, и они даже служили для рабочих парней социальным лифтом.
— Чем? — отец встрепенулся и очень удивленно посмотрел на Мишу.
— Социальным лифтом. Придумали такое новое выражение, я в газете прочел. То есть это когда человек, простой рабочий товарищ, может значительно продвинуться. Даже не по службе, а вообще. Ну, почет и уважение там всякое, потому что он за честь завода и города выступает, призовые места берет…
— Ну и чего? Ты сильно продвинулся, Миха?
Миша сник и совсем тихо произнес:
— Зато нам в клубе форму давали бесплатно, лыжи, талоны на питание, ну и так далее. По Лыжне Антикайнена мы ходили. А теперь чего? Культурный отдых с водкой?
— Ну ты сказанул! — отец грубо и отрывисто захохотал, а потом закашлялся, но, сглотнув слюну, продолжил: — Водку прежде еще попробуй достань. Вот я, например, на заводе вкалывал сорок лет, хмырь какой ко мне подойдет: «Слушай, дядя, такая деталь нужна». Я говорю: «Бутылка с тебя». — «Ну, лады». И будь в стране какая инфляция-хреняция, а деталь как стоила бутылку, так и стоит. Понял меня?
Миша понял, что нынче именно тот человек считается настоящим мужиком, который смолит и за воротник заливает, так что перегарный выхлоп можно спичкой поджечь. И еще Миша понял, зачем именно отец рассказал ему, сколько стоит любая деталь. Затем, что Мишины художества вообще ничего не стоят, за них разве что в глаз дадут. Вон на днях опять во дворе пристали: «Отдавай деньги, нам на бутылку недостает». Хорошо, что у Миши в сумке кошелька не было, а был только томик Артюра Рембо, на который он последние деньги потратил. Сумку у него отобрали: «Ах, ты еще и шпион!», и Рембо в урну закинули к окуркам и презервативам.
Так случилось, что период полураспада изотопа по имени Миша совпал с аналогичным периодом советской родины, и ведь обратного порядка в природе не существовало. Миша больше в темноте не светился. По крайней мере, никто ему об этом не говорил, что, мол, ты чего? Давай-ка угасай поскорей. Значит, распад перешел в следующую стадию.
Тем вечером, когда у него во дворе отобрали Рембо, Миша приложился к отцовской заначке: достал из буфета бутылку бальзама и отхлебнул прямо из горла. Он знал, что отец за это его ругать не станет, а может быть, даже и похвалит: давай-давай, Миха, может, наконец себя мужиком почувствуешь! Однако Миха вместо этого опять засел за стихи:
Хохочу, как юродивый:
Родина! Я урод твой,
Родительница и полицай,
По лицу бью всю улицу,
С дураками воюю и вою,
С головой не дружу,
Вот — лежу с ней, покрытый не пеплом, а снегом.
И во сне снова молодость вижу.
Люблю! Ненавижу! Живу!
На живом рву не тельник, а тело.
И в постели от боли сжимаюсь в кулак,
Дурака выпуская на волю.
Мать как раз надоумила Мишу, что сходил бы ты, сынок, к психиатру. Может, тебе инвалидность выпишут. Будешь от государства пенсию получать, какая-никакая копейка. Мы пенсионеры с отцом, сам понимаешь, а на заводе теперь такие зарплаты, что слезы, а не зарплаты, не разгуляешься. Ну, дадут тебе третью группу инвалидности, будешь по-прежнему детали мыть, группа-то рабочая.
Отец прямо заявлял:
— Дурак! С государства надо драть три шкуры при любой возможности. Инвалидность получишь — чаще на больничном будешь сидеть, чем в цеху вкалывать. Оно тебе так надо — вкалывать?
Инвалидом Миша совсем не хотел становиться, но родителям отказать не мог, вот и пошел опять в психдиспанер. Врач перво-наперво спросил у него, что общего между карандашом и ботинком. Миша смутился. На его взгляд, ничего общего у этих предметов не было. Ну, разве что и то и другое в магазине больше не продается, то есть если есть желание купить карандаши хорошего качества… Доктор его прервал: а вот чем отличаются лыжи от коньков? Миша задумался. Вроде бы ответ очевиден: на лыжах бегают по снегу, а на коньках по льду. И еще на лыжах он бегать умеет, а вот на коньках нет. Нет, наверняка в вопросе содержалась какая-то подковыка: какие-то уж слишком простые получались ответы, но другие в голову не приходили, поэтому Миша ответил, как думал. А врач вдруг возьми да заяви, что Миша — не его пациент. То есть не наблюдается у него психических отклонений. Кстати, этот психиатр вовсе не походил на Гавнеля Исаковича, чему Миша очень удивился: до сих пор все психиатры были на одно лицо. А тут вдруг: не его пациент. Видно, молодой был психиатр, неопытный. Или, может, в последние времена у людей мозги настолько поотшибало, что на этом фоне Миша еще выгодно смотрелся. В общем, психиатр ему сказал:
— Я вижу, что вы очень странная, но все же целостная, целеполагающая личность. Лечить вас не от чего, разве что от самого себя.
— Как же так? — возмутился Миша. — Вот мой диагноз: олигофрения. Я, между прочим, в шестнадцатой школе учился, для умственно отсталых.
А психиатр так нервно ему ответил:
— Я вам этот диагноз не ставил и к умственно отсталым не отправлял! На что конкретно жалуетесь?
— Так у меня отец алкоголик, и в армии он облучился, между прочим. В 1951 году.
— Отец облучился, а не вы. Педагогическая запущенность, может, и наблюдалась, если отец у вас алкоголик. Однако перевоспитывать уже поздно. Выросли — и слава богу. Идите дальше трудитесь на благо родины, перевыполняйте план. Поняли меня?
А Миша сдуру еще взял с собой на прием ксерокопию предыдущего медицинского заключения, в котором было написано про творческую ориентацию, своеобразие иерархии ценностей, тропизм к абстракции и т.д. То есть где было официально зафиксировано наличие художественных и литературных способностей. Справку эту психиатр изъял и подшил в карточку, и теперь Миша не мог никому доказать, что он настоящий художник, ведь от него только что отказался даже психиатр!
Вот те на! Миша так разволновался, что долго бродил по улицам и даже на какую-то художественную выставку в музей завернул, чтобы в себя прийти. Там неизвестный ему живописец работы свои экспонировал, все на тему Севера, снега, ранней осени, поздней весны и перелетных птиц. И Миша нашел, что это вообще тоже неплохой художник: у него краски размыты, и отсюда возникает впечатление долгого пасмурного дня. Вот живут же некоторые! Выставляют свои работы на всеобщее обозрение, и никто у них справку от психиатра не требует!
Миша долго бродил по выставке, проникаясь впечатлением всеобщей облачности и все еще переживая отсутствие психиатрического диагноза, и тут вдруг возле одной из картин он заметил Таню Лаврухину. Правда, он прежде видел ее только в спортивном костюме, такой и запомнил, а сегодня она была в легком платье в горошек, но тоже удивительно хороша, и Миша с разбегу подлетел к ней, произнес восторженно:
— Таня!
Имя эхом отозвалось в гулком музейном зале. Таня вздрогнула, обернулась и тоже, кажется, обрадовалась:
— Миша, вот не ожидала!
— А что такого? Я часто на выставки хожу, между прочим.
И Миша рассказал Тане, что этот художник, на его взгляд, хорошо чувствует Север, потому что краски размыты. Есть еще такой живописец Черноволенко, его работы совсем недавно реабилитировали, так вот у Черноволенко тоже краски размыты. А у Малевича, например, есть только впечатление размытости оттого, что линии налезают друг на друга, а у Сальвадора Дали краски замкнуты в себе.
— Надо же, — поразилась Таня. — Я вот до этого бы не додумалась. Я просто люблю красивые картины смотреть, но серьезно в них не вникаю.
Миша вызвался Таню проводить до остановки, по пути купил ей мороженое и прочел свои стихи. Таня сказала, что стихи хорошие, только очень длинные, сейчас таких не пишут, и что она хочет посмотреть Мишины рисунки. Троллейбус уехал, а Миша остался в растерянности, что же это такое случилось.
Возвращаясь домой, он понял, что так ни о чем и не договорился с Таней конкретно. Не взял у нее телефон, не назначил свидание. Неужели ждать следующего забега? Но когда он теперь? Да и любителей этого самого бега становилось все меньше и меньше. Почему-то стало не модно бегать и на своих двоих, и на лыжах. Лыжню Антикайнена теперь называли мероприятием, которое воспитывает дух милитаризма, а тех, кто по ней ходил, совками, оболваненными туристскими песнями. А ведь почти десять лет назад, в 82-м, в «Онежце» вышла статья на целую страницу под названием «Суровые километры» — о том самом его первом лыжном походе:
«…Отлично проявили себя новички. Миша У. из механического цеха № 6, например, обладает не очень хорошей лыжной техникой, но в походе шел отлично, не отстал, не “перекуривал”…»
Миша помнил эту статью наизусть. Он вообще запоминал абсолютно все, что когда-либо читал… Ой! Он вот сейчас невзначай поймал себя на том, что вроде как думает о Тане, а все равно получается, что о Лыжне Антикайнена. Почему?
Уже поворачивая ключ во входной двери, Миша вспомнил, что ровно год назад, день в день, купил в букинистике толстенную «библию» Байрона 1951 года издания и потихоньку читал эту «библию», периодически возвращаясь к ней в течение года. Как Байрон соотносился с Таней? Вроде бы опять никак, если только Байрон не был для него таким же предчувствием вселенской катастрофы.
Я видел сон, который не совсем был сном —
Окном распахнутым. Я потреблял вино —
В нем медленно светило угасало,
И стаи черные блуждали без лучей
В ночи по бесконечному простору
В пору без ветра и без штиля поутру,
Путь потеряв свой, не имя цели.
И зацепиться не за что им было…
Это Миша так Байрона переложил на ритмизованные строки. Ну, Лермонтов же этим занимался, то есть так и писал: «из Байрона», значит, и Мише тоже так можно.
Он чувствовал всем телом, что грядущая катастрофа была абсолютно точно связана с Таней Лаврухиной. Как ураганам принято давать женские имена, так и это стихийное бедствие имело теперь имя и фамилию. Та-ня — звучало на две ноты. Слог «Та» тянулся долго и низко, а «ня» был короче и выше. Хотя ведь еще ничего не случилось, они просто случайно встретились на выставке. Но зачем они встретились? Зачем Таня сказала, что хочет увидеть его рисунки, сказала же сама!
С девчонками Миша умел дружить. Провожал, дарил стихи, ходил вместе с ними в походы, однако был не в состоянии перешагнуть ту самую невидимую черту, произнести те самые единственные слова, не мог даже представить, как это — совокупиться с молоденькой хрупкой девчонкой, с которой бегал марафон, прошел километры по тайге, столько сопок преодолел на лыжах, столько скал преодолел… И что? Вдруг взять и заговорить с ней о сексе?
Когда он видел девчонок в спортивной форме, ему нестерпимо хотелось куда-то бежать вместе с ними, хотелось, чтобы они его увели, взяли с собой в другую жизнь. Он переживал жесточайшую муку из мук. Однако единственные сексуальные отношения, которые представлялись ему, — это лететь вперед на двух жеребцах, как в Гражданскую, как некогда летели в атаку тела, затянутые в плотные кожаные тужурки, в буденовских шлемах. Стоило подумать о сексе, как ему сразу вспоминался Корчагин. Для секса Миша ощущал себя слишком красным, слишком советским человеком, и все же внутри него сидел дикий животный голод, заставлявший его «марать бумагу», как выражался отец, то есть высказывать себя красками, линиями, точками, странными знаками, которые он сам себе не умел объяснить…
Миша понял, что сегодня пить бальзам из отцовской бутылки не имеет смысла, потому что он все равно не уснет.
И не уснул. Ворочался в постели до утра, прислушиваясь к звукам с улицы. Вот мимо проехало какое-то авто, вот отчаянно прокричала ночная птица, где-то вдалеке залаяли собаки. Вся эта чужая ночная жизнь не имела к нему никакого отношения, но все же было не так обидно, как быть вырезанным из жизни дневной, которая кипела и бурлила где-то совсем рядом, но только не там, где был Миша.
На следующий день работа не шла. Миша едва держался на ногах. Сославшись на слабость, сходил в амбулаторию, померил давление. 140х90, жить можно. Врач дала таблетку. На обратном пути завернул в клуб «Онежец», справился, планируются ли какие-либо мероприятия. Ничего особенного не намечалось, разве что традиционный осенний марафон, да и то бегунов недостает. Нет, ты скажи, Миша, вот каким образом связаны эти гребаные коммунисты и марафонский забег? При коммунистах от желающих отбоя не было. Кто только не бежал. Куда они все подевались и почему?
По пути домой Миша заметил в парке девчонку. Издали показалось, что это Таня. Пустился следом, догнал — не она. Тревога разрослась в груди колючим чертополохом. Такие точно заросли он недавно корчевал на даче за туалетом, теперь они оказались внутри него.
Пришел домой и рухнул спать, даже телевизор не стал смотреть и к Байрону не приложился.
В таком состоянии пролетела неделя. Стихи по вечерам приходили сами собой, крайне депрессивные:
Не думай о завтра, если хочешь повеситься сегодня.
Будущего нет. Прими как объективную реальность
Его отсутствие.
Впрочем, это стихотворение он прямо в цеху сочинил и записал на том, что под руку попалось. А попался журнал учета профилактических прививок, который кто-то из медперсонала случайно оставил в цеху. Там страницы были исписаны только с одной стороны, а с другой совершенно чистые, вот Миша их и исписал вдоль и поперек, потому что тетради в магазине давно не продавались, и писать вообще было не на чем.
На волне стихотворчества Миша даже отпустил кудрявые бакенбарды, интуитивно ощутив тягу к русской, а не советской поэзии, но бабки во дворе принялись уговаривать его эти бакенбарды сбрить, потому что он стал похож на Пушкина.
В таком пушкинском виде Миша наконец вышел в отпуск и поехал на дачу окучивать картошку, а по вечерам доверял бумаге стихи, которые в течение дня аккумулировались внутри, подобно электроэнергии. Прямо перед ним на столе стояло маленькое зеркальце, в котором он видел свое пушкинское лицо, чуть правее — керосиновая лампа, рядом с ней томик Пастернака, а в углу на стене в полумраке — плакат с Владимиром Высоцким на черном фоне. Так создавалась особая аура, внутри которой Миша воспринимал информацию, шедшую изнутри, то есть она уже существовала там в свернутом виде, а теперь только разворачивалась и поднималась на поверхность. При этом Миша размышлял, зачем стремиться в космос, который там, наверху, если внутри каждого из нас есть точно такой же бесконечный, неисчерпаемый космос, или внутренний мир. Некоторым, правда, он так и не открывается никогда, а вот Мише очень помогал в работе: «Развернут мозг, как радиолокатор, космическая пыль на волосах…»
В то лето на даче он научился сочинять символические тексты на ходу, в автобусах, поездах, уцепившись за случайную фразу и вытягивая из себя, как за ниточку, целое стихотворение. Сперва он работал вот именно как радиолокатор, а потом как печатная машинка и механический редактор. Стихи писал на тех же репортерских скоростях, что и журналистские материалы, стремительно нарабатывал ритм строки, когда рука писала быстрей, чем ему думалось.
Вернувшись с дачи, Миша зашел в заводской музей к Валерию Савельеву, который теперь заведовал фондами. Несколько стихотворений взяли в газету «Онежец», но до настоящей поэзии было еще очень далеко, Миша сам это понимал и писал как заведенный — стихи, репортажи, статьи. Каждый газетный материал на заводе становился хитом. А попутно, между писаниной, Миша делал абстрактные наброски в качестве стрессовой разгрузки, аварийно сбрасывая на бумагу лишнюю нервную энергию. Миша и раньше что-то такое чертил на бумаге просто так, а тут задумался, а вдруг это зачем-то да пригодится?
К октябрю клуб любителей бега зачем-то раскололся на два лагеря: «Онежец» и «Айно». Причем «Онежец» критиковал «Айно», а «Айно» — «Онежец» за то, что их участники как-то неправильно бегают. Миша в эти дрязги не влезал, поэтому принял участие сразу в двух марафонах Машезере, бежал и за «Айно», и за «Онежец».
На воскресном марафоне за клуб «Онежец» Миша наконец-то опять увидел Таню Лаврушину, и она будто обрадовалась встрече: «Ой, Миша! Где ты был? Почему мы так долго не виделись?» Миша замялся, принялся объяснять, что отпуск провел на даче, а потом на заводе случился аврал, как всегда происходит летом, когда половина рабочих в отпуске… Миша оправдывался, соображая при этом, что же он такое несет и почему прямо не сказать Тане, что он не забывал о ней ни на час, ни на одну минуту, и что все стихи, которые он написал за лето, и все работы, которые нарисовал, посвящались ей одной, исключительно ей… Он пристально и беззастенчиво разглядывал Таню, ее светлое, открытое лицо и с ужасом сознавал, что, к своему несчастью, никогда бы не решился поцеловать ее, ни за что! В то же время ему хотелось бежать и бежать рядом с ней куда-то вперед, подальше от нынешней непонятной запыхавшейся жизни.
Марафон на восемь километров Миша пробежал за сорок две минуты, придя к финишу третьим. После большого перерыва это был очень хороший результат, учитывая еще, что стартовал он с больными мышцами ног: в субботу целый день таскал на даче дрова. Даже Таня похвалила его, ничего не зная о том, что он бежал только ради нее.
В город возвращались вместе, в автобусе сидели рядом, и Миша сквозь спортивные штаны ощущал жар, который шел от ее бедра к его ноге. Таня жаловалась, что жизнь проходит впустую, тридцать лет стукнуло на днях — а ни семьи, ни детей, ни жилья, ни приличной работы, так, все на подхвате. Раньше как-то верилось, что еще чуть-чуть, и засияет вдали что-то хорошее, стабильное, а теперь вроде и верить не во что. Что же, счастья до старости дожидаться?.. Как же они были похожи в своей обреченности! На колдобинах, когда автобус подбрасывало, Таню кидало прямо на Мишу, его плечо упиралось в ее мягкое тело, и Миша размышлял, как это, верить не во что-то: вот же оно, истинное счастье!
Таня рассказывала попутно, что совсем недавно при редакции газеты «Комсомолец» открылась студия художественного слова под руководством артиста Колесникова. Таню пригласила туда подруга, которая любит выступать со своими стихами, и почему же Миша тоже туда не ходит? А Миша не знал, что открылась такая студия, ему никто ничего не сказал. И они договорились, что уже в следующую пятницу встретятся в этой студии, и что Миша принесет с собой не только стихи, но и рисунки. И с этого момента Миша уже думал, как пережить предстоящую рабочую неделю до пятницы.
А в ночь с воскресенья на понедельник Миша вылил на бумагу стихотворение на 32 строки, в котором были такие строчки:
Мне кажется, мы просто влюбились друг в друга,
И не важно, будем мы вместе иль нет…
Потом понял, что это исключительно важно — быть вместе, и написал еще два стихотворения, адресованных Татьяне.
В понедельник вечером никак не мог усидеть дома: вышел на пробежку и сделал десять километров за 46 минут и 05 секунд. После этого наконец спал крепко, видел во сне Татьяну, целовал ей, спящей, глаза и думал — опять-таки во сне, — что вот оно, настоящее.
Наконец наступила пятница. Миша с вечера еще упаковал в рюкзак три папки со стихами и папку с рисунками. Смену отработал — как будто кому-то отомстил: марафонцам, коммунистам, заводскому начальству. За что? В основном за предательство, потому что привычная жизнь, в которой были спортивные клубы, Лыжня Антикайнена, казенная форма и лыжи, массовые забеги, — все это на большой скорости уносилось в небытие, в коммунистическое прошлое, которое на чем свет стоит ругали все подряд: «А нам это надо, когда с получки бутылки не купишь? С завода увольняться надо!» Само имя Антикайнена теперь стояло в одном ряду с презренными словами типа «Мурзилка», «пионер», «трезвенник», «комсомольско-молодежная безалкогольная свадьба»… Тьфу!
После смены Миша направился прямиком в эту студию художественного слова, несмотря на то что странная такая получалась история! Повсюду — в цеху, в столовой, на улице, в автобусе — слова употребляли в основном матерные, а тут вдруг кто-то захотел заниматься художественным словом, чтобы выражаться исключительно красиво. Интересно, какая там соберется публика? Да какая разница, если там была Таня!
Однако публика собралась самая разная: кроме Тани была тут ее подруга, которая работала на трикотажной фабрике, и поэты-марафонцы из «бывших», то есть из тех, что бегали еще при советской власти, а теперь переключились исключительно на стихи, и несколько студентов пединститута, и бабушки со стихами про внуков и котиков, последние вообще не конкуренты… Но руководитель, артист Колесников, Мише понравился: лысоватый интеллигентный дядька, очень вежливый, который умел произносить каждое слово зримо, выпукло и, наверное, хотел, чтобы все вокруг умели говорить точно так же, чтобы не приходилось ничего переспрашивать. Колесников сказал, что задача художественного чтения — вызвать в воображении слушателей нарисованные автором картины жизни, выявить смысл и идею, донести в звучащем слове особенности стиля автора. Слова слетали с губ Колесникова как разноцветные птицы, каждое по-особому окрашенное, и Мише тоже захотелось что-то произнести вслух.
Однако это искусство его всегда подводило. Он продекламировал два стихотворения и по легкой гримаске, исказившей губы Колесникова, понял, что тот вообще ничего не уразумел из его декламации, то есть Миша так и не сумел выявить смысл и идею собственных творений. Однако Колесников весьма заинтересованно расспросил Мишу, где он работает, чем увлекается в свободное время. Миша достал из папки рисунки, разложил на столе. Так смыслы проступили нагляднее. А основная идея заключалась в том, что Миша — целеполагающая личность, как сказал тот психиатр, не Гавнель Исакович. С течением времени Миша убедился, что этот человек был абсолютно прав, когда отказался от него как от пациента.
— Ух ты! — первой отозвалась Таня Лаврухина, и этот возглас на разные голоса повторили все присутствующие.
— Ух ты! — Колесников выбрал один рисунок, поднес поближе к глазам. — Да у тебя талант, парень. Настоящий талант.
— А вы откуда знаете? — спросил Миша.
— А то я не вижу! Ты у кого учился в художке? Чья школа?
— Школа была не художка, а… — Миша прикусил язык. — Обыкновенная школа, общеобразовательная. А больше я ни у кого не учился, сам по себе.
— Надо же! Тебе выставку пора делать. А стихи где-то публиковал?
— В газете «Онежец», это наша заводская многотиражка. У нас еще и музей есть, я там со стихами выступал!
— А выставку в этом музее организовать не могут?
— Не знаю. Я не спрашивал.
— А вот спроси, обязательно спроси. Я первый приду на эту выставку.
Колесников еще что-то говорил о том, что эмоциональное отношение к явлениям нашей жизни — источник разнообразных интонаций, темпа и тембровых изменений голоса. Потом студенты пединститута громко читали свои стихи, но Мише эти стихи активно не понравились, потому что в них напрочь отсутствовали переживания. Нет, зачем, в самом деле, писать, что я влюбился и мне от этого очень хорошо? Это не тема для стихотворения. Вот если я влюбился и мне смертельно плохо — тогда да, тогда писать стоит.
После собрания студии Миша проводил Татьяну до остановки, а напоследок вручил ей все три папки стихов — он их заранее переписал, и дубликаты у него оставались дома. Миша так решил, что пусть хоть Таня прочтет его стихи вдумчиво, не торопясь, раз уж он сам не смог их вслух прочесть с эмоциональным отношением, таким, как надо.
Поздно вечером он еще зашел в «Букинист», купил сборник новелл Эрнеста Теодора Амадея Гофмана московского издательства «Правда». И день почему-то вновь закончился депрессией и опустошением, несмотря на лестный отзыв Колесникова о его художествах. Миша подозревал, что Колесников похвалил его из вежливости, только чтобы не хвалить за стихи.
По поводу выставки за целую неделю Миша так и не поговорил с Савельевым. Последнее время тот был очень занят, все куда-то спешил, на вопросы отвечал односложно, так что Миша даже не намекнул на то, что давайте-ка организуем такую выставку, музей все-таки…
Стихи в голову лезли по-прежнему депрессивные:
Одинокие души, спасите друг друга!
Мне сказала подруга, что тонет она….
Хотя никто ничего такого не говорил, но было бы хорошо, если бы Таня сказала, тогда бы он попытался ее спасти.
В пятницу утром на работу было к одиннадцати. В троллейбусе Миша думал о Татьяне и вдруг заметил ее в окошко. Бешено заколотилось сердце, перекрыло дыхание. Миша выскочил из троллейбуса и побежал ей навстречу. Он что-то такое предчувствовал с самого утра и загодя переписал подборку стихов для Танечки, целых пять текстов. Подборка лежала у него в кармане.
— Таня! — он воскликнул так громко, что прохожие одномоментно на него посмотрели.
Миша сказал, что очень жалеет, что не сможет сейчас ее проводить, передал стихи… Они немного поговорили о предстоящем пробеге Повенец — Петрозаводск, а это сто восемьдесят километров по трассе, и — расстались до вечера, до встречи в студии художественного чтения.
В тот день Миша опоздал на работу на десять минут и получил выволочку, но все-таки был чрезвычайно счастлив: у него была любовь, его любовь, к которой он готов был бежать даже не сто восемьдесят, а тысячу восемьсот километров! И в тот же день в свежем «Онежце» он не увидел своей статьи о предстоящем юбилейном слете туристов-онежцев: статью не допустили к печати, потому что было непонятно, состоится ли вообще этот слет и кому он нужен. Не было в газете и Мишиного стихотворения, которое начиналось так:
Во сне вам глаза целовал, а губы чувствовали,
Что вас я могу потерять, а вы меня — не найти.
Простите, если обидел, вы просто нравитесь мне,
Но в сердце не уместились…
и т.д. В редакции сказали, что стихотворение слишком личное, а это не очень-то нравится читателям, тем более что читатель у нас рабочий, ему мало дела до тонких материй.
Но как же так? Миша ведь сам был человек рабочий, поэтому точно знал, что тонкая лирика безусловно необходима каждому человеку, кем бы он ни был! А как же поэт Маяковский? Миша сам в сотый раз перечитывал его поэму «Облако в штанах», где-то так себя ощущал, что это он «не мужчина, а облако штанах». Но ведь Маяковский не стеснялся признаваться в этом на всю страну!
Вечером на занятиях студии Миша громко продекламировал это стихотворение и даже сорвал аплодисменты, которые теперь стали ему абсолютно безразличны: гораздо больше его интересовало, что же скажет Таня, его Таня. И он опять провожал Таню после студии. Она передала ему письмо в ответ на его «трехтомник» и утреннюю подборку стихов, в котором было написано: «Это здорово, что ты верен поэзии, спорту, традициям и себе. В нашей стране это настоящий героизм!» Письмо немного вдохновило, но все же Миша ожидал большего. Чего именно? Может быть, ответного признания в любви, потому что то, что происходило у него с Таней, не могло происходить ни с кем другим в принципе. То, что он прежде в кого-то влюблялся, не шло ни в какое сравнение с нынешним переживанием своего искреннего чувства. Миша только сейчас открыл для себя истинную любовь и наконец понял, почему у Павки Коргачина с девушками так долго не складывалось: потому что слишком велик был его нравственный максимализм, потому что он мог любить только «своего», товарища, который не предаст, не купится на чужие посылы.
А ночью ему был сон, будто бы в «Комсомольце» вышел его материал, подписанный, правда, одной-единственной буквой У. Миша в самом деле пару недель назад отправил в «Комсомолец» статью о пользе массового спорта, причем почтой, с центрального почтамта, так ему казалось надежнее. Но ответа из газеты так и не получил, а просто зайти и спросить Миша стеснялся: все-таки республиканская газета, не заводская многотиражка. С тем же успехом Миша посылал статьи и стихотворения в «Ленинскую правду» и журнал «Север», все как один издания игнорировали его. Миша подозревал, что его прекратили печатать принципиально, по какой-то таинственной, ему не известной причине. Это явно был социальный заказ. Возможно, из-за того, что Мишина бабушка при Сталине сидела в тюрьме, и мама с ней, то есть еще в утробе. Значит, Миша — враг во втором поколении. И хотя теперь тема репрессий вроде бы стала модной, но все-таки пимокатный завод и все такое, буржуев-то у нас никогда не любили.
Танину записку Миша перечитывал по нескольку раз в день и всякий раз открывал в ней новые смыслы. Вечерами он выходил на тренировочные дистанции, наматывая за раз по восемь-десять километров. Из Повенца ему предстояло бежать в паре с товарищем десять километров в сторону Медгоры, причем ночью. Местные жители с подозрением косились на бегунов, а ночью никто никому не мешал, и на трассе встречались разве что случайно заблудившиеся автомобили. Затем предстоял отдых в автобусе, пока марафон продолжала другая пара, а там дальше — опять вперед по трассе с небольшими передышками до самого утра. Миша надеялся, что перед забегом ему наконец удастся объясниться с Татьяной, потому что на трассе все равны, все движутся в одном направлении и каждый выкладывается по полной, и в конце-то концов надо же было когда-нибудь объясниться!
Но тут еще незадолго до забега сборный цех должен был посетить председатель исполкома горсовета Сергей Леонидович Катанандов. К встрече готовился весь завод, а Миша особенно. Слишком много себя он отдал родному городу, который теперь отвечал ему непроницаемо-черной, как плакатная тушь, неблагодарностью. Чем он заслужил такое отношение? И неужели такого человека, как Катанандов, не тронет его искренний, излитый на бумагу крик отчаяния? Миша ведь не умел выражаться устно, доносить до слушателей идею и пафос внятно, четко и ясно, даже студия художественного слова его этому не научила, в основном потому, что он ходил туда ради Тани, а не ради слова, однако сути это не меняло. Миша загодя написал письмо и вложил его в карман рабочей спецовки:
«Я враг во втором поколении, — заявлял в письме Миша. — Мать до рождения побывала в тюремной камере. В Вологде остался наш пимокатный завод. Бабушка, прожившая 96 лет, рассказывала про своего дядю, профессионального военного, она на всю жизнь запомнила его эполеты. В 1969-м, в 9 лет, я был исключен из второго класса и лишь спустя много лет получил официальный диагноз: «творческая ориентация» и официально подтвержденное наличие литературных и художественных способностей. В психиатрическом диагнозе мне недавно окончательно отказали. Я был постоянный автор «Комсомольца», «Онежца» и так далее. И вот сегодня я оказался под запретом на территории завода и города. Кто вернет мне неполученное образование и снимет 58-ю статью?..»
Встреча с Катанандовым состоялась в 11.10. Миша улучил момент, когда директор завода представлял рабочим председателя исполкома, а Катанандов спокойно стоял рядом с каской на голове, хотя сверху кирпичи не падали. Миша, протиснувшись сквозь плотный строй товарищей по цеху, вынырнул рядом с Сергеем Леонидовичем и, подергав его за рукав, вручил письмо прямо в руки. Конечно, со стороны простого рабочего это была неслыханная наглость, однако завод, со слов самого директора, до сих пор оставался общенародной собственностью и хозяевами его были рабочие, так что какой разговор.
Пока директор продолжал вещать на весь цех, Катанандов несколько раз перечитал письмо — Миша внимательно наблюдал за ним, но — ничего не случилось. Катанандов не стал зачитывать Мишино откровение вслух, а сунул в карман и стал говорить какие-то общие фразы о нуждах сельского хозяйства. В смысле, что в сельском хозяйстве нужны трактора во все большем количестве. А если прижмет, так можно будет быстро наладить выпуск танков для нужд обороны. Миша так и не понял, какой обороны, от чего? Но был крайне разочарован тем, что Катанандов так и не озвучил его письмо. Видно, времена действительно изменились, и голос простого рабочего уже никто не слышит. Правда, в самом конце Катанандов подчеркнул, что на заводе трудятся замечательные люди, и Миша принял это на свой счет. Значит, для него все еще состоится! Что именно? Ну, жизнь по большому счету. А другого не стоило и желать.
К ночной эстафете Повенец — Петрозаводск Миша готовился, как к войне. Незадолго до этого события он купил в букинистике двухтомник Джона Рида — две книжки в суровых черных переплетах, потрепанные и пропахшие табаком, как будто вышедшие оттуда, из двадцатых, когда все только становилось и туман скрывал ближайшее будущее.
Точно так же ближайшее будущее скрывал ночной туман грядущей эстафеты. Первые заморозки углублявшейся осени дышали паром, поднимавшимся с прогретой за день земли, не оставляя шансов на возвращение лета, пусть даже малейшего всплеска тепла перед огромной зимой. Миша предчувствовал, что сегодня ему предстоит бежать не просто против тумана и ветра, а против самого метафизического холода грядущей полярной ночи, наступавшей с Севера. Как он один мог противостоять ледяному дыханию невидимого зверя? Бойцы роты «Викинг» к тому времени успели состариться и разбрестись по свету в поисках лучшей доли, в строю оставался только их командир, потрепанный в боях за честь отряда и самого себя.
Автобус отходил от автовокзала в восемь вечера. Уже стемнело, причем основательно. На отдалении здание автовокзала выглядело ковчегом, который плыл в ночь сквозь непроглядную тьму, в которой таилось что-то загадочное и пугающее, поэтому очень хотелось туда, в спасительный электрический свет. И, наконец занырнув в зданьице со стеклянными стенами, за которыми не читалось абсолютно ничего, кроме тьмы и тьмы, Миша перевел дух и огляделся. Он одним из первых бегунов прибыл на место, поскольку было объявлено, что автобус не станет ждать опоздавших и отчалит от пристани точно в восемь вечера.
Миша слегка переживал поначалу, а вдруг Таня опоздает, и тогда что? Однако Таня явилась где-то без десяти восемь в компании троих бегунов, которые взяли ее в плотное кольцо, так что поговорить наедине никак не могло случиться. Устроившись в кресле, Миша издали наблюдал, как Таня смеется каким-то шуткам, наверняка пошлым, потому что Вася Творогов, который давно за ней ухлестывал, на другие шутки не был способен и вообще был человек чрезвычайно грубый, например, в походе мог есть лежа. Ему говорили, чтобы он сел, иначе подавится, а он отвечал, что он мужик и лучше знает, как ему можно есть и как нельзя. И вот теперь Таня, Мишина Таня, почему-то терпела грубые шутки этого дикаря.
У Миши внутри все кипело от ревности. Он же заранее написал объяснение, оно теперь находилось во внутреннем кармане куртки, возле самого сердца, но он не знал, как подойди к Тане, как отдать ей это письмо. Ненавистный Творогов сумел испортить такой момент! Наконец, не выдержав напряжения, которое готово было вылиться наружу каким-нибудь странным и необдуманным поступком, Миша оторвался от кресла, быстро приблизился к Тане, резко схватил ее за руку, выпалил: «Таня, нам нужно поговорить», — и почти выволок на платформу, оставив Васю и прочих бегунов в крайнем недоумении. Они даже не смогли возразить, что-либо сказать супротив.
В тусклом свете фонаря, бросавшего на платформу мертвенный зеленоватый свет, контуры Таниного лица расплывались, смешиваясь с воздухом, как на картинах Леонардо.
— Таня! — выпалил Миша и полез во внутренний карман куртки, будто за пистолетом. Впрочем, это письмо могло в самом деле убить его или помиловать, словом, решить судьбу и жизнь… — Таня! — повторил Миша. — Я написал письмо и хочу, чтобы ты его прочитала прямо сегодня, сейчас.
Таня с удивлением взяла из Мишиных рук уже чуть мятое письмо. Может быть, его желание и выглядело глуповато, но Миша больше не мог оттягивать момент объяснения, как и не мог, не умел высказать свое состояние простыми словами.
— Эти стихи? — спросила Таня.
— Нет. Проза. Прочти, пожалуйста, прочти прямо сейчас, здесь.
— Но здесь темно. Можно, я…
— Нет, нельзя. Там этот, Творогов. Ну, и другие…
Таня стояла растерянная, действительно не понимая, как поступить с этим письмом и с Мишей.
— Хорошо, — Миша собрался духом, как боцман Бурчук перед генеральным сражением, и выдал без передыха пулеметной очередью: — Таня, я тебя люблю и хочу, чтобы у нас с тобой все состоялось, как оно должно быть между мужчиной и женщиной, чтобы мы лежали в постели голые, и я ласкал тебя…
Темноту прорвал короткий смешок на высокой ноте. В следующий момент Таня искренне, от души рассмеялась, как только что она смеялась пошлейшим шуткам Творогова.
— Таня! — вырвалось у Миши.
— Миша! — подхватила Таня. — Хороший мой, глупый ты человек!
— Глупый? — Миша услышал только «глупый».
— Ну разве я давала повод так думать, что у нас… то есть…
— Таня! — почти выкрикнул Миша.
— Миша, — повторила Таня. — Я не знаю, что ты там решил… Но мы… Мы просто вместе ходили в студию, бегали марафон, обсуждали твои стихи…
— И все? — спросил Миша.
— Ну да. Мы с тобой дружили! А ты что такое себе вообразил? Ой, беда мне с тобой, Миша.
— Это у меня, Таня, беда.
— У тебя не беда, а так, дурь одна в голове. Брось! Все же хорошо. Сейчас мы с тобой марафон побежим, ну! Или не побежим?
— Побежим, — упавшим голосом ответил Миша.
Потом приехал автобус, и все как один бегуны загрузились в салон. Никто даже не думал опаздывать.
Миша устроился на самом заднем сиденье у окна, и за этим окном не было ничего, кроме непроглядной темноты и редких огоньков окраинных домов, в которых еще не спали. И на всем протяжении пути ему было откровенно страшно. Страшно за свою любовь. Спорт, бег, туризм, лыжи, работа, дача, поэзия — теперь потеряли всяческий смысл, потому что Таню, свою Таню, которая была темой всего его творчества на протяжении безмерно долгого времени, Миша окончательно потерял. Таня была его последней надеждой и последней попыткой. Вся жизнь раскололась на до и после ночного объяснения на вокзале в ожидании автобуса Повенец — Петрозаводск.
Автобус тем временем бежал вперед, в темноту, и в такт его размеренному движению в голове сами собой складывались строчки:
Жизнь сломал мечтой о постели
И, оправившись еле-еле,
Понял: счастье ушло.
Я его испугал,
Своею рукой искалечил.
Медицина меня не излечит,
Ни к чему утешения речи.
Я себе помогал
Спугнуть чайку любви,
И она улетела с плеча…
И еще 79 строк, последняя из которых сочинилась ровно в 22.00, когда автобус приехал на место и бегуны веселой шумной гурьбой высыпали наружу в самом центре поселка Пиндуши.
Пиндуши спали глубоким сном, молчали даже дворовые собаки, и никто в целом мире даже не подозревал о том, что случилось вот только что. А что такое случилось? Да попросту разбилась вдребезги чья-то жизнь, до которой и прежде никому не было никакого дела.
Для Миши это были самые тяжелые, по-настоящему страшные часы. На старт он вышел на негнущихся ногах, которые, впрочем, затекли еще от долгого сидения в автобусе. Его поставили в пару с Васей Твороговым, Творогов отпустил по этому поводу какую-то несмешную шуточку, но Мише было откровенно плевать, кто и что там ему говорил. У него больше не было Тани, и остальное на этом фоне вообще ничего не значило.
Стартовый пистолет выстрелил будто ему в самое сердце. Миша сорвался с места и рванул вперед, прекрасно понимая, что это не стометровка и что целых десять километров ему не отмахать в таком темпе. Ноги, однако, разошлись, вскоре он почувствовал их под собой и, сбросив темп, побежал вперед размеренно, ровно. Левый желудочек его сердца ритмично выбрасывал кровь в большой круг кровообращения, оттуда она поступала ко всем органам и тканям. А правый желудочек так же ритмично, без сбоев, выбрасывал кровь в малый круг кровообращения, в легких его кровь насыщалась кислородом, и большой круг кровообращения соответственно получал эту кровь, которую выбрасывал левый желудочек, главный «движок» сердца. Миша почему-то зримо представлял себе, как сейчас там, внутри грудной клетки, работает его сердце: систола-диастола, систола-диастола. Никакое оно было не «тряпочка», а настоящее, доподлинное сердце, подверженное страстям и переживаниям. Но ведь если сердце работало исправно, значит, Миша был до сих пор жив, что его очень удивляло. И он бежал вперед, вперед, уносясь по темной пустынной трассе куда-то в иную жизнь, в которой никто никогда не посмел бы над ним посмеяться и никто не назвал бы его любовь дурью, которую следовало выкинуть из головы.
Слева и справа из густого, непроглядного леса наползал туман, какой-то странно вязкий, тягучий, замедлявший его ритмичный бег. В некоторый момент Миша ощутил, как лопнула какая-то ниточка, удерживавшая его внизу, на земле. Он оттолкнулся ногами от влажного асфальта трассы, взмыл над дорогой и полетел, поднимаясь все выше и выше в небо. Что-то такое случилось с телом — оно превратилось в чистую энергию, и Миша стал ярким светлячком, которого подхватили восходящие потоки теплого дыхания земли. Он поплыл над лесом, объял его целиком обострившимся зрением, затем вошел в пояс облаков, но даже не ощутил их влаги. «Что происходит? — недоумевал Миша. — Я есть, или меня уже нет?» Но потом он понял: «Если я мыслю, следовательно, все еще существую».
В полном отсутствии сердечных сокращений и дыхания невероятная легкость охватила все его тело.
Он наконец-то был счастлив.
* В тексте использованы стихи и дневниковые записи художника М.А. Ураева.