Стихи и рассказы
Опубликовано в журнале ©оюз Писателей, номер 11, 2009
Анна Станиславовна Минакова
родилась в 1985 году в г. Светловодске Кировоградской обл. Студентка Харьковского государственного университета искусств имени И. П. Котляревского. Автор книг стихотворений и рисунков «Золотая зола» (Х.: Крок, 2000), «Дорогое моё» (Х.: Крок, 2002), «Ода радости» (М.: Поэзия.ру, 2004). Публиковалась в журналах «Новая Юность», «Континент», «Арион», «Дальний Восток», «Стороны света» (США), в «Литературной газете» и др. Обладатель 1-й премии литературного конкурса «Сады лицея» (Москва, 2004) в номинации «Поэзия». Лауреат «Илья-Премии» (Москва, 2005), Гран-при и Золотой медали литературного Всеукраинского конкурса молодых поэтов им. Л. Киселёва (Киев, 2005), лауреат Всероссийской премии им. С. Есенина «О Русь, взмахни крылами…» (2005). Живёт в Харькове.
ЧЕЛОВЕК КАК ЦВЕТОК
* * *
На столе-корабле раскраснелись гранат и ранетка,и гардина взлетела, взлетела, как парус, смотри,
за окном остролистая ласточка, чёрная метка,
заломила крыло в абрикосовом ветре зари.
Может, тихими быть? но не то чтобы не шелохнуться,
просто слышать, как множится пение тёплых полей,
или ветер жужжит, или беглые лютики гнутся,
или солнце горит за плечом у подруги твоей.
Или хочешь молчать, каменея, глаза опуская,
и не видеть, как землю заносит смирительный снег?
И когда я встречаю в тебе белолицего Кая,
то понять не умею, что думаешь ты, человек.
Только небу легко над тобой, дорогим, простереться.
Может быть, я узнаю тебя, так апрель узнаю,
и смогу, наконец, в кареглазом тепле отогреться.
Вот и кошка пришла потереться о руку твою.
* * *
ива твоей головы между ольхой и сливой
ветром осенена светится изнутривот бы с тобой глядеть видеть вовсю счастливой
как в облаках реки носятся пескари
бережно сочинять что же ты есть такое
речка или вулкан пламя или цветок
все имена твои перебирать ликуя
и подносить к лицу новое как платок
вот бы. дымок-белёк стелется струйкой тонкой
и в темноте плывут лица зверей и камней
и мураву-траву музыкой как гребёнкой
чешет ночной сверчок. только не потемней
вслед за землёй сверчком речкой травою мятой
не потемней. нигде света не раздобыть!
только подольше длись жизнью листвой объятый
вот как теперь! вот так! лучше не может быть
Да: и привидься мне сумерками согретый
тёплый как Божий день медленный и мирской
чтобы во тьме-потьме точечка сигареты
как светлячок живой шла за твоей рукой
Из цикла «Стихи Саши Лубянцева»
Данила, друг растений сорных,глядел на бересклет и донник,
из рукавов широких, чёрных,
струились белые ладони.
Он гладил камешек усталый
и клал за пазуху краюху,
он мыл лицо водою талой
и подносил ракушку к уху.
И спал во сне, где зло и зябко,
и ведал, до конца не веря,
что медленной горы хозяйка
открыла каменные двери.
Гори, гори, цветочек алый,
гори, не камень, а цветочек,
и ты, лиловый, запоздалый,
и ты, лазоревый, меж кочек,
укрытый веткой неутоплой.
И вздулась туча, как ветровка,
и на живот Данилин тёплый
упала божия коровка.
CНУКЕР
Слово «снукер» я отыскала аж только в словаре англо-русском, да и то: snooker — вид биллиардной игры. И всё. Никаких расширений и углублений. А советские словари вообще ни о чём таком не пишут, не знают. Зато, заглядывая встарь в Академический словарь в тщетных снукерных поисках, я узнала такое: Снулый -ая, -ое — неживой (о рыбе). — Да чтоб стерлядь-то живая была, не снулая, слышишь? (Мельников-Печерский. В лесах.) Есть ведь в этом что-то такое, к нам с вами обращённое.
Однако же, смекаю, что тема снукера в мировой литературе не затронута, и, уж тем более, не освещена. И в этом — пробел и упущение.
Посему я пишу:
О, зелёный снукерный стол, притягательное пространство, где глазу моему привольно и радостно! Лужок, малахитовая шкатулка, дно морское.
О, свет над столом, ибо неутолима тьма за его пределами!
О, разноцветные шары, собратья светилам небесным! Красные, множественные красные, их следует забивать через цветной — и только. Красный — цветной, красный — цветной, и так до последнего красного. А уж потом — цветные — в однажды установленном незыблемом порядке: сначала жёлтый, за ним — зелёный, после — коричневый… голубой… розовый и, наконец, самый дорогой — семиочковый чёрный! Последний одинокий чёрный шар!
О, брейки и дуплеты, о, неправильные зайчики, о, контртуши и карамболи!
О, вода в стакане снукериста, вода живая,
О, его махровое полотенце,
О, клетчатая бабочка (бяк-бяк-бяк) на его шее!
И странное это состояние, именуемое «снукер», состояние, близкое к невесомости, когда нужный вам шар, единственный шар, по которому можно бить, оказывается недоступным, когда он закрыт, безнадёжно спрятан. О шар! Невозможность удара и роковая сокрытость шара терзают вас, вы рвёте волосы и причитаете. Иное дело — снукерист. Он бьёт так и эдак, бьёт вопреки, когда, кажется, всё позади и всё кончено, бьёт от борта, от двух, от трёх, бьёт обводящим ударом — и попадает! попадает по нужному шару!
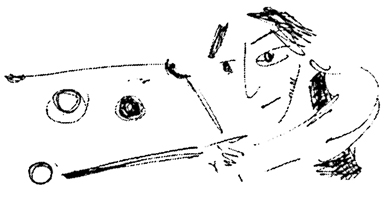
Я видела несчастных, так и не вышедших из снукера, бьющих и не попадающих раз за разом. Видела я и тех, кто выдумывает и тут же исполняет снукер за снукером, повергая соперника в трепет — не люблю я этих злодеев. Но и тех я видела, кто, преодолевая злодейские снукеры, твёрд духом и светел челом.
О’Салливан Ронни — выигрывающий и возвышающийся, проигрывающий и трогательный. О’Салливан Ронни, кто волен забить сначала этот шар, а уже после — вон тот, а волен не забить этот шар, и вон тот, О’Салливан Ронни, кто вертит в руках победоносный кий, готовясь к удару, кто сдувает пылинки со стола, зелёного, как небо, кто поражает снукерный мир мимическими способностями и особой розовостью снукерного своего языка, кто волен также к тому же в общем-то не забить ни тот шар, ни этот, никакой шар не забить (промазать, одним словом) — и повергнуть меня в растерянность и скуку.
Воспоём же снукериста, кто подобен не хлебопашцу, идущему за плугом, а, скорее, парфюмеру, плод чьего труда витает в воздухе, неосязаем. А не схож ли снукерист с монахом (хотя бы буддийским, для начала), исполняющим день за днём медитацию, урок. Вот ведь где невероятная сосредоточенность и точность, сосредоточенность, точность и медитативность: раскатывать шары один за другим в каноническом вековечном порядке.
Но мне ли рассказывать о таинстве снукера, о семантике его сакральной, мне можно ли разглагольствовать, базарить, трезвонить, когда и так совестно и грустно, что баклуши бью и в ус не дую, не читаю умных книжек, а только снукер смотрю и чай пью днями и ночами, заместо самосовершенствования и возвышения. А в это время на другом краю земли какойсь-там-нибудь славный сыктывкарец, сыктывкаровец свершает свершения и прозревает, и возвышается, и в корень зрит, и ткёт рушники из Господня света.
Всё так.
Теперь же философ из меня никудышный, и озариться мыслью великой не умею, а только вот на такое и горазда: О’Салливан, О’Салливанчик, О’Салливанчик дорогой — присядет молча на диванчик, болтая тонкою ногой. Удар не вышел — Ронни свищет и поедает бланманже. Увы, он счастия не ищет, мы это поняли уже. Хоть это труд и стыд напрасный (как нам решится свысока), он обольётся кровью красной, и задрожит его рука, покуда шар тара-ра-рарам, и ляжет в лунку, тру-ля-ля. Скажи-ка, Ронни, ведь недаром — и жизнь, и снукер, и любовь… Тьфу… И жизнь, и слёзы, и билья… рд. М-да. И лучше выдумать не мог. Ну и поделом, и ничего, и не важно. Ну не сложились слова и словечки, переживём. Главное — не быть снулыми. Не будем же снулыми, и тогда уж всё сложится, и птички запоют, и цветочки зацветут, и солнце-в-небе, и ещё что-нибудь такое хорошее.
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Слева — Бах, Бетховен, Моцарт и Шопен. Моцарт — как всегда самый красивый. Шопен смотрит на тебя, в какой бы точке зала ты ни находился. Справа — Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков и какой-то усатый дядька, предположительно Лысенко, хотя, возможно, Бородин. Сомнения. Светлые стены, веточки, провода и облачка в окошках, здоровенная люстра: всё обсмотрено уже сто раз.
Сегодня юные пианисты-конкурсанты все как на подбор были нудны и усыпляющи. Мы с Катькой стали потихоньку сползать со стульев. Такое всегда происходит на концертах, когда исполнитель недостаточно хорош. Он, надо понимать, не может поддерживать и подогревать огнь бессмертной музыки в сердцах слушателей, охочих до великого. Поэтому всякий слушатель размякает и начинает терять форму. Бывает — во время такого какого-нибудь концерта — окинешь зал пробудившимся невзначай оком, а все уж поползли, потекли и развезлись. Дремлют.
Мы с Катькой рисковали зависнуть и застыть — как пчёлы в мутном янтаре — в очередной серой нудной ноте, извлечённой кем-то очередным, как вдруг наш сомнамбулический трясинообразный дрейф был прерван. С переднего ряда повернулось лицо, чьи глаза, довольно косые, стали провокационно, нагло, нахально сползаться к носу, брови — бегать из стороны в сторону, уши — торчать и оттопыриваться, щёки — надуваться. На вид нашему круглоголовому косо-голубоглазому гостю было лет эдак восемь. Катька обрадовалась, махнула рукой на юных пианистов-конкурсантов, на почтенное жюри, на главу почтенного жюри Владимира Всеволодовича Крайнева, народного артиста СССР, на великую музыку — и принялась строить мальчишке ответные рожицы. Сие продлилось до перерыва.
В перерыве Катька убежала. А мальчик, чудик, побродив по залу, вернулся и обратился ко мне:
— А где та девушка?
— Ушла.
— А может, убежала?
— Хм. Может, и убежала.
— В п╗вденн╗ края или в п╗вн╗чн╗?
Я задумалась.
— Скорей, в п╗вденн╗.
— А может, в п╗вн╗чн╗?
— Может, и в п╗вн╗чн╗.
(А мало ли… — подумала я.)
И мальчик рассказал мне, что во время войны в здании муздесятилетки (где и проходил конкурс юных пианистов Владимира Крайнева), в подвале прятались солдаты, и рассказал, как он сам ходил по этому подвалу; рассказал, что Владимира Крайнева в детстве звали Владиком и что большущая люстра, висящая над нами, сейчас упадёт. Много чего рассказал.
Перерыв закончился, и члены жюри стали нехотя проползать на свои судейские места с минеральной водой. Мальчик охнул: «Ооо! Крайнев! Надо притвориться мёртвым!»
И притворился.
Продолжились конкурсные прослушивания. Но я была уже не та. Я слышала, как в подвале маршируют солдаты Великой Отечественной войны. А мальчик протянул мне кругленькую батарейку от часов, маленькую, блестященькую, с плюсом и минусом, и сказал:
— На, возьми.
— Спасибо, — говорю, — А что это?
А он говорит:
— Вечный огонь.