Опубликовано в журнале СловоWord, номер 65, 2010
ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
Инна Иохвидович
ЭФФЕКТ ПЕРЕЛЬМАНА
Светлана Ивановна Челомбитько начала работать в милиции сразу после окончания ею пединститута. Покойный родственник туда устроил: сначала в детскую комнату милиции, работать с трудными подростками; после уж пошла она, как сама говорила, по «канцелярской линии», в паспортном столе, а последнее десятилетие – в ОВИРе, опять же в районном, городском, а нынче уже и в областном отделе. И хоть званиями её не баловали, была всего лишь капитаном, а не майором, как ей самой по-справедливости представлялось, да что уж делать, не юридический же она закончила, и не школу милиции… А учёбой некогда ей было заниматься, даже на вечернем или заочном, сначала замуж по любви за хорошего человека пошла, потом и сынок родился…
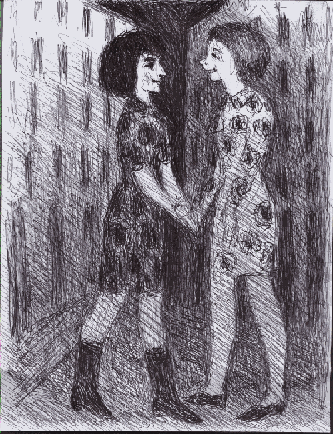
Рис. И. Шенкера
Зато на работу ходила она с удовольствием, ещё в паспортном ей понравилось, а в ОВИРе и того лучше показалось. Подчас случалось и такое, что и уходить со службы вечером домой не хотелось. Дома-то скучно было, всё одно и то же, муж любящий, во всём помогающий, сын-отличник, подраставший и всё более от неё отдаляющийся, со своими интересами и своими друзьями… То ли дело было днём на службе, особенно в приёмные часы.
– Наверное, моё призвание в работе с людьми, – сказала как-то Светлана Ивановна мужу.
– Да, ты у меня знаток человеческих душ, – шутливо заметил он.
– И это правда, – не шутливо, а серьёзно согласилась жена и подумала: «Особенно еврейских!» Тогда же она, может быть и впервые задумалась о своём сложном отношении к этой нации.
В детстве, по соседски, а потом и все десять лет в школе, лучшей Светиной подружкой была Лена Иоффе. Практически девчонки не расставались, встречаясь каждый день и проводя вместе время. Светины родители были довольны этой дружбой, в смысле девичьей безопасности. Девочка как-то слыхала, как мать говорила отцу: «Вот и хорошо, что наша Света с этой Иоффе дружит, по крайней мере, не пьющие они люди и не гулящие, плохому там не научится, недаром же евреи». Ей неприятно стало, что мать называет и Лену и её родителей таким будто бы плохо звучащим словом – «евреи». Каждый раз, когда мама произносила это слово, девочке, а потом и девушке становилось не по себе, словно дружба с Леной была чем-то постыдным, что ли. И не только Лена, но и её родители, отец – дядя Сеня-фотограф и мама – тётя Сима, работавшая библиотекарем в районной библиотеке, очень нравились Светлане, они всегда были гостеприимными и приветливыми. Правда, после школы пути их разошлись. Лена поступала в консерваторию по классу фортепиано, и не поступила, а пошла в музучилище, а Света сразу поступила на филфак пединститута. И видеться стали они всё реже пока не перестали совсем. Изредка, по праздникам поздравляли друг друга по телефону.
А встретиться им пришлось через много лет, когда Светлана уже в районном паспортном столе работала.
Поздней осенью замещала она заболевшего начальника. К ней, в кабинет начальника, и привёл дежурный женщину с опухшим от слёз лицом. Светлана ахнула, узнав в этой женщине Лену Иоффе.
– Что, что случилось? – только и смогла спросить она бывшую подругу.
Та, видимо не узнавая в женщине в милицейской форме свою Светку, пролепетала:
– Меня в поликлинике к вам послали, чтобы вы выдали мне форму один, так кажется называется, – женщина не могла говорить от душившего её плача.
– Лена, – схватив её за плечо, почти закричала Светлана Ивановна, – Лена, я же тебя спрашиваю, что случилось? Ты мне можешь толком объяснить?
Та по-прежнему неузнавающе глядя на Светлану Ивановну проговорила.
– У меня умер папа, – и она снова заплакала.
– Как? Дядя Сеня умер?.. – изумлённо-горестно прошептала Светлана Ивановна. И только тогда заплаканная женщина, взглянув на неё, сказала.
– Света, это ты? Это правда ты?
– Я, я, кто же ещё, – говорила сквозь слёзы Светлана Ивановна, она плакала горько и по дяде Сене, которого помнила ещё детсадовской девочкой, и по дорогим воспоминаниям детства и отрочества, по юношеской прошедшей своей поре, по себе самой, исчезнувшей в сумраке прошедших лет…
Оказалось, что у дяди Сени в последние годы его жизни не было паспорта, вместо него ему выдали временное удостоверение личности, до получения паспортов нового, уже несоветского образца. А когда появились новые паспорта, то дядя Сеня уже был прикован к постели, и Лена, работавшая в музыкальной школе да бегавшая по частным урокам, как-то всё откладывала «на потом» вопрос о получении отцом полноценного документа. К тому же и само удостоверение оказалось просроченным.
Теперь в поликлинике ей не выдавали «свидетельства о смерти», потому что отягчающим обстоятельством явилось и то, что в последние два года жизни отца не осматривал врач из поликлиники. Лена доказывала им, что к отцу ходил врач-частник, который его и наблюдал. Нет, качала головой заведующая терапевтическим отделением, он, дескать, мог умереть и насильственной смертью…
– Ваша квартира ведь в историческом центре города, вы, может быть, и пытались ею завладеть, – продолжала говорить завотделением, не глядя на плачущую, не в силах ей что-либо возразить, Лену.
– Вот мы и передадим дело в прокуратуру, – теперь она выразительно посмотрела на сидящую перед нею женщину, – на предмет того, была ли смерть беспаспортного гражданина Иоффе Семёна Ароновича вызвана естественными причинами или насильственной. А после того, как получим заключение судмедэкспертизы и форму один, то тогда и выдадим вам свидетельство о смерти. Вы меня поняли?
Обо всём этом и рассказала несчастная женщина Светлане Ивановне. Той было не впервые слышать подобное. Она приобняла Лену и сказала:
– Эх ты, недотёпа, она ж хочет, чтобы ты ей заплатила, только и всего!
– Как, она вымогает взятку? – с каким-то ужасом воскликнула Лена.
– Ну, уж ты так это по-газетному озвучила, – несколько раздражённо проговорила Светлана Ивановна.
Она обогнула стол и, сев в кресло начальника, которого замещала, набрала какой-то номер.
– Алло, это заведующая первым терапевтическим отделением? С вами говорит исполняющая обязанности начальника паспортного отдела Киевского райотдела милиции старший лейтенант Челомбитько Светлана Ивановна. Да, да, я в курсе, форма номер один нами будет выдана, правда, без актуальной фотографии. Что, что? Как это вы не можете? А вы что предлагаете – делать актуальную фотографию с покойника? Знаете что, если человек болел долгие годы, то ясно и без экспертизы и прокуратуры от чего и почему он умер! Это вы мне мозги не компостируйте! Я-то знаю, почему вы дочь покойного решили загнать в «пятый» угол! К нам уже сигналы поступали… Так что советую: пусть врач из вашей поликлинике съездит и освидетельствует труп, сами знаете, насильственная смерть определяется не так уж и сложно. В противном случае мне придётся подключить не только ваше начальство. Да, вот и хорошо, вот и добре, надеюсь во всём на ваше благоразумие. До свиданья!
Положив трубку, Светлана Ивановна сказала Лене:
– Езжай в поликлинику, я обо всём договорилась. Нет, нет, не стоит благодарности, – каким-то незнакомым Лене повелительным жестом руки Светлана Ивановна остановила ринувшуюся благодарить подругу.
На похороны дяди Сени Светлана Ивановна не пошла, «это ж дело родственное, семейное», – сказала она себе, и забыла и о покойнике, и о Лене.
Только на службе ощущала Светлана Ивановна свою нужность, просто необходимость, что ли. Ведь это она росчерком пера распоряжалась человеческими судьбами, от неё зависело, будет ли счастлив или несчастлив тот или другой человек, она решала, где жить тому или этому, словом в её руках были жизни, множество жизней! От чувства собственной силы у неё порою и дух захватывало, что там священники или врачи – она, она была чуть ли не Распорядителем человеков, во всяком случае, во вверенном ей районе. Незаметно для себя Светлана Ивановна начала брать. Нет, не деньгами, а поначалу коробками конфет, «киевскими» тортами, шампанским, коньяком и прочей мелочью, да это как бы и попросту прилагалось. Только снова по прошествии то ли двух, то ли трёх лет, после встречи с бывшей подругой Светлана Ивановна взяла, и взяла не по-маленькой.
Опять в её жизнь вошла Лена Иоффе. На сей раз она пришла хлопотать за свою знакомую, у которой были трудности с получением загранпаспорта для выезда на постоянное место жительства за рубеж. Естественно, что и эта знакомая, как и сама Лена, была еврейкой. Светлане Ивановне уже множество раз в своей паспортной деятельности приходилось иметь дело с евреями. Поначалу относилась она к этой нации равнодушно, дескать, есть такие, но с течением времени она стала раздражаться – вечно у них всё было не как у людей, то одни документы не в порядке, то с именами нескладуха, в разных документах не соответствующие друг другу имена, отчества, фамилии, а то и даты и даже годы рождения?! Хитрили больно, а потом сами из-за этого и страдали, думала она. Однажды, работая с посетительницей-еврейкой, она не выдержала и сказала:
– Вот обезьяна всё хитрит, хитрит, а в итоге всё равно с голым задом остаётся.
– Это вы к чему? – настрожилась дама
– Да так просто, – спохватилась Светлана Ивановна.
У Лениной знакомой оказалось и не такое уж большое несоответствие между паспортом и метрическим свидетельством, и скорее всего это была не вина её родителей, а оплошность паспортистки из домоуправления. Светлана Ивановна согласилась ей помочь и получила через Лену большую сумму в твёрдой валюте. Это её, правда, почему-то вовсе не обрадовало, а только вызвало озлобление против этих евреев-богачей… Им, видите ли, позволено уезжать, и уезжать, и уезжать туда, где легче да сытней, и они ещё неохотно при этом расстаются со своими деньгами?! Да не бывать этому, как-то бессловесно, но определённо решилось в голове и в душе Светланы Ивановны: да «их» обдирать нужно, унижать, нищими «туда» выпускать… Нечего попускать «им»! «Все они в золоте, да и при деньгах!» – пусть за всё и расплачиваются, говорила она себе, уже не думая ни о Лене и её семье, ни о своей когда-то любимой учительнице истории Мирре Петровне, ни о знакомых ей преподавателях-евреях из пединститута…
– Евреи деньги очень-очень любят, – как-то в разговоре со своим начальником вдруг и не к месту сказала она.
– Ой, где ты права, там ты права, Светлана Ивановна! – как бы и не удивившись этому неожиданному заключению, подтвердил он. – Так давай же и выпьем за то, чтобы не позволять им трястись над своими бабками, их у них нужно экспроприировать! – и он громко захохотал, доставая из сейфа коньяк и два пузатых (для бренди) бокала. Светлана Ивановна обрадовалась, это было не только её умозаключение.
И стала она брать, а оттого, что брала, ещё больше озлоблялась против них, проклятых, которые были вынуждены платить, платить, платить, и уезжать, уезжать, уезжать… так что ей даже стало казаться, что это самое настоящее бегство!!!
«Вот гады, – подчас думалось ей, – что им не так, чего не сидится, особенно теперь, когда графу «национальность» из паспортов убрали. Правда, – тут же вспоминалось ей, – при регистрации брака в «свидетельство о браке» вписывают национальности брачующихся, но всё равно…»
И жизнь Светланы Ивановны Челомбитько так и текла себе дальше в привычном русле, если бы… не гипотеза Пуанкаре! Ничего до поры до времени не знала она об этой гипотезе, да и про самого француза этого – Пуанкаре – тоже никогда не слыхала. Да вот ТВ, радио, газеты что-то начали толковать про эту самую гипотезу, да про самого француза, да про медаль какого-то Филдса, и ещё про какого-то питерского математика-чудака Григория Перельмана, чего-то доказавшего в этой гипотезе. Она не вдумывалась в эту не нужную ей информацию. У неё своих дел было невпроворот, чтобы ещё интересоваться всякой ерундой.
Ехала Светлана Ивановна со службы за рулём своей новенькой иномарки, когда увидала женщину, перебегавшую дорогу прямо перед её машиной. Она резко затормозила, чертыхаясь, готовая чуть ли не обматерить эту женщину, и… узнала в ней Лену Иоффе. На той, как и всегда, было старое, казавшееся ветхим пальтишко, да в руках авоська с книжками и пакет с молоком. Проводив её взглядом, Светлана Ивановна задумалась: «И отчего она-то не уезжает, живёт ведь скудно, бедно, и это при её-то знаниях и одарённости…» Но, тряхнув головой, словно отгоняя ненужные сантименты, она включила автомобильный радиоприёмник. А оттуда и понеслось, что будто бы такой он бессеребренник, этот Перельман, что не только не явился на церемонию вручения ему медали Филдса номиналом в семь тысяч долларов (!) – у Светланы Ивановны перехватило дыхание от этого сообщения, но в следующую же секунду диктор объявил, что Григорий Перельман отказался и от миллиона долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре. На этот раз Светлана Ивановна остановила автомобиль сама. Ей стало плохо физически, словно бы воздуха не хватало, будто что-то в груди душило её, казалось, что она вот-вот потеряет сознание… По мобильному она дозвонилась мужу… и вскорости лежала в палате больницы скорой и неотложной помощи.
На следующий день Светлану Ивановну, по её настоянию, выписали. Диагноз ей поставили «стенокардия».
– У меня грудная жаба, – объяснила она мудрёное название мужу, – и всё из-за них, сказала она уже самой себе, – из-за евреев, а в частности, из-за этого психически больного Григория Перельмана. Никакому здравомыслящему человеку не пришло бы в голову отказаться не только от миллиона, но и от семи тысяч тоже.
Это самообъяснение неожиданно успокоило её и вновь придало уверенность в собственной правоте. Но поговорить обо всём этом очень хотелось, но было не с кем, мужу это было бы скучно и неинтересно, с сотрудниками ОВИРа невозможно по причине того, что никто никому не доверял, и каждый, в том числе и сама Светлана Ивановна, считал, что его «подсиживают», и если «брали» с получателей загранпаспортов, то только наедине, как говорится, «тет-а-тет»…
И вдруг ей припомнился её бывший начальник в паспортном – тот, в ком она когда-то обнаружила единомышленника. К нему-то она и помчалась.
Поначалу Светлана Ивановна и не признала в исхудавшем (казалось, что только глаза светятся), человеке в подполковничьих погонах того самого бравого своего начальника, хоть и не виделись они всего лишь три или четыре года.
– Ничего, Светлана Ивановна, не смущайся, не ты первая меня не узнала, у меня ж клиническая смерть была, я уже ТАМ был, – он поднял вверх руку. – С чем пожаловала, ведь ты просто так не заходишь, только по какому-нибудь делу?
– Да ну что вы, Николай Фёдорович, – хотела было возразить Светлана Ивановна, но решила говорить напрямик, – вот я тут к вам по поводу Перельмана.
– Кого-кого? – у бывшего начальника вопросительно поднялись кустистые брови.
– Григория Перельмана, математика, – нетерпеливо заговорила Светлана Ивановна, ей хотелось побыстрей перейти к сути.
– Постойка-ка, если ты говоришь о том, о ком всё время по телеку говорят, то насколько я понял, он не из нашего города, а из Ленинграда, ну то есть из Питера.
– Да, да именно о нём, – закивала она.
– Тогда мне совсем ничего непонятно, – развёл своими слабыми руками подполковник.
– Помните, когда-то мы с вами говорили, вернее я говорила, – быстро и взволнованно проговорила Светлана Ивановна, – что евреи деньги любят?
– Да кто ж их не любит?– добродушно усмехнулся Николай Фёдорович, – их все любят.
– Да, все, – с досадой произнесла Сетлана Ивановна, – но вы ж слыхали, что этот Перельман отказался от миллиона, это даже обсуждалось в передаче у Андрея Малахова «Пусть говорят»!
– Ну и что?
– Как – что? – растерялась она, – он же – еврей! И от миллиона отказался?! Этого ж быть не может! Чтобы еврей, и от денег, таких денег отказался??? Он психбольной! – уже кричала она, забыв о всякой осторожности, – если бы он был в своём уме и при памяти, такое бы не произошло, этого бы не произошло… Этого не может быть, потому что быть не может… – забилась она в истерических рыданиях..
– Успокойся, Света! – и бывший начальник, как и много лет назад, плеснул ей в бокал коньяку, себе же наливать не стал, – выпей, пройдёт…
И она начала медленно отхлёбывать успокоительную жидкость.
– Да, я как и ты и сегодня бы думал, если б не заболел… – он замолчал. – К сожалению, а может, наоборот, к счастью, я не могу передать тебе ничего из того, ч т о я узнал во время болезни, а если попытаюсь объяснить, то ты или не поверишь мне, или решишь, что и я, как и ненавистный тебе Перельман, – психически больной, попросту сумашедший… – он замолчал снова.
– Но где вы видели еврея, отказывающегося от миллиона, таких нет, значит, он всего-навсего псих!
– Эх, Света, Света, записываешь ты в психи любого тебе непонятного. Да, я бы, наверное, тоже раньше так думал бы…
– А что же произошло? – совершенно не любопытствуя, скорее из вежливости, спросила Светлана Ивановна
– Да понял я, что Он есть, – тихо ответствовал и в самом деле непохожий на самого себя бывший начальник.
– Ах, – раздражилась она снова, – я вам про Перельмана, а вы? Я снова вас спрашиваю, жил ли когда-нибудь какой-нибудь жид, ростовщик, не ростовщик, сапожник, не сапожник, банкир, не банкир, часовщик, да кто угодно, нормальный, не псих, как Перельман, который отказался бы от миллиона???
– Достоверно известно об одном еврее, отказавшемся от всех предлагавшихся ему благ мира сего.
– И кто же этот очередной сумашедший жид? – усмехаясь, спросила Светлана Ивановна, – среди них, надо сказать, много сумашедших.
– Иисус из Назарета. Христос.
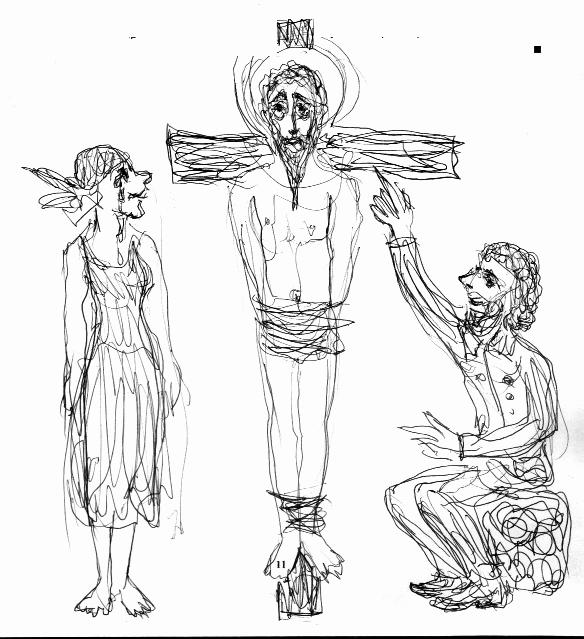
Рис. И. Шенкера
ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ
У САМОЙ ШТАММХАЙМСКОЙ ТЮРЬМЫ
Несколько общежитий – для ищущих политического убежища, а также для переселенцев из бывшего СССР находились на одной из городских окраин Штутгарта – в Штаммхайме, неподалёку от знаменитой тюрьмы, где когда-то сидели и окончили свои дни вожди «Фракции Красной Армии» – печально знаменитой в ФРГ террористической группировки 70-80-х годов ХХ века.
Штаммхайм, кроме тюрьмы, являл собою район малоэтажных строений, и наверное поэтому все садившиеся в трамвай на конечной остановке знали друг друга если и не лично, то, как говорится, «в лицо». И Ирма, несколько лет назад получившая здесь недорогое социальное жильё, тоже «знала» многих.
Но любимчиками её, конечно, была очень пожилая, скорее старая парочка. Оба аккуратные, идущие рука в руку, тихо разговаривавшие друг с дружкой, они будто светились взаимной какой-то тихой любовью. «Ну точно, как Афанасий Иванович с Пульхерией Ивановной, мои милые «старосветские помещики», Филимон и Бавкида, Пётр и Феврония, не погибшие, а состарившиеся Ромео и Джульетта… Те, чьё доверие и нежность не сломала жизнь с её нелёгкими испытаниями и даже жесточайший и страшный ХХ век…
Они, должно быть, нашли друг в друге эту самую пресловутую точку опоры, во взаимной поддержке, в неисчерпанности и неисчерпаемости своих чувств…» – часто думалось ей, когда она только видела их, неспешно семенящих к трамвайной остановке. Её трогала до умиления эта привычка пожилых немцев ходить за руку, а не под ручку, как было некогда в СССР. Эта их привычка будто бы шла из молодости, когда они ещё юными взялись за руки. Ирме тут же припоминался и Окуджава, и она повторяла и повторяла: «…Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке…» К тому же ей нравились почти все немецкие старушки своей ухоженностью, стремлением и в старости, которую в Германии часто величали «третий возраст», как и зубные протезы – «третьими зубами», выглядеть приятно и как-то даже весело. Все они, с уложенными в локоны седыми волосами, с неброским макияжем, а то и вовсе обходясь без оного, худенькие, с колечками и браслетиками, в брючных костюмах или в юбках с блузами и в пиджаках, и казались воплощённым весёлым бессмертием, что ли.
Ирма приехала в Германию «поздней переселенкой» (так почему-то с 1993 года называли приезжавших из бывшего СССР российских немцев). Там, в Караганде, она после школы и института работала учительницей немецкого языка в средней школе. А нынче, здесь уже, в Штутгарте, она преподавала на курсах русского языка для детей русскоязычных эмигрантов. Эти два языка, а в особенности две литературы, великие, как русская, так и немецкая и были для Ирмы настоящим Домом, тем убежищем, в котором только и могла укрыться она в своём одиночестве. И, если т а м, в Караганде, она часто вспоминала М. Хайдеггера с его: «Глагол – Дом бытия», то з д ес ь уже, на немецком юге всё чаще на ум приходил И. Тургенев: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» «Прекрасно, – думалось ей, – и никакого перебора эпитетов!» И всегда становилось ей хорошо на душе, внутри возникал лад, от которого её губы растягивались в тихой улыбке.
Как-то в штрассенбане (старом городском трамвае, который оставался единственным в Штутгарте, только в Штаммхайме, на остальных городских маршрутах ходили современные У-баны, некая помесь трамвая с вагонами метро), Ирме довелось разговориться со «своими» старичками.
При ближайшем знакомстве Герман и Доротея оказались милыми, общительными и симпатичными. Ирма только ахнула: надо же, ведь они были точь-в-точь как гётевские, тоже возлюбленные, их тёзки. Какая же всё-таки удивительная страна эта Германия, где по улицам запросто ходят герои великой немецкой литературы. Ирма была в восторге. А Доротея, которая попросила называть себя просто Теей, в свою очередь спросила:
– А ваше полное имя – Ирмгардт?
– Да, должно быть, – рассеянно ответила Ирма, как-то никогда раньше не задумывавшяся о происхождении своего имени.
– О, я так люблю старонемецкие имена, в них чувствуется германская сила, не то, что моё греческое «Доротея», растяжимое и мягкое в звучании, – как-то важно сказала Теа.
Множество раз ещё разговаривала с ними Ирма, встречаясь то на улочках Штаммхайма, то в долгоедущем штрассенбане, и каждый раз поражалась их привязанности друг к другу, ласке, что сквозила в них, когда не только обращались они друг к другу, но просто встречались взглядами.
«Вот где совершенно поразительное притяжение, которое даже десятки лет не смогли ни сокрушить, ни притушить, удивительно редко встречаемая форма любовно-семейных отношений…» – так размышляла она о своих прекрасных старичках.
А перечитывая здесь, уже в Германии, любимого Гёте, она нашла в его «Избирательном сродстве» строчки, просто посвященные Герману и Доротее: «…они производили друг на друга неизъяснимое, почти магическое действие… Только близость могла их успокоить и вполне удовлетворить; эта близость оказывалась совершенно достаточной; не нужно было ни взгляда, ни звука, ни жеста, ни прикосновения – одно только пребывание вместе. Тогда это были не два разных человека, а один человек, погружённый в бессознательное блаженство, довольный собой и всем миром…»
«Да они же не Герман с Доротеей, – воскликнула Ирма, прочитав этот отрывок, – а настоящие Эдуард с Оттилией!»
Она ощущала потрясение оттого, что воочию, наяву ей предстали люди, оказавшиеся и взаправду литературными героями.
Это случилось в штрассенбане погожим майским днём. Ирма зашла в него на конечной остановке, и сразу встретив землячку, старинную знакомую, тоже русскую немку и тоже пенсионерку разговорилась с нею. Женщины разговаривали между собою негромко, вроде бы как и ни о чём, и одновременно и обо всём, о покинутой родине, о тамошнем житье-бытье, и о своём пребывании здесь, о друзьях, уже умерших, о приехавших сюда, об оставшихся в Караганде… Неспешная беседа их была неожиданно прервана чьим-то почти истерическим криком:
– Вы в Германии, извольте говорить на немецком!
Женщины обернулись. И Ирма с изумлением увидела перекошенное от злости лицо своей Доротеи, Теи! Да и Герман смотрел на неё сурово-осуждающе…
– Тея, что с вами? Что случилось? – спросила она старушку.
– Обманщица! – завизжала та, – притворялись немкой, настоящей немкой, – «Дойче», с нажимом произнесла она, – а оказались русской! Р-у-с-с-к-о-й! – с каким-то непонятным бешенством скандировала она.
Ирма ничего не могла ответить, она только слушала чистую, без акцента, речь Доротеи, и ничего не понимала! А та продолжала что-то оскорбительное визжать на русском!
Наконец, оправившись от первоначального удивления, Ирма спросила:
– Тея, а я и не знала, что вы так чудесно говорите на русском!
– Во-первых, я вам не Тея, а фрау Шенке, а во-вторых, я ненавижу язык, ваш язык, на котором вы говорите… Ваш проклятый язык, язык оккупантов и поработителей! Если вы явились в великую Германию, чтобы говорить на нём, то убирайтесь вон! Здесь, в Германии, – и опять снова, с нажимом она проговорила, – в Дойчланде, где вы обязаны говорить на немецком, ауф дойч!
– Но, фрау и герр Шенке, мы тоже немцы, но мы русские немцы, и у нас два родных языка – и русский, и немецкий, – говорила, словно оправдывалась Ирма.
И старик со старухой, будто почувствовав это, уже вместе закричали:
– Вы не смеете говорить по-русски, вы живёте в Германии!!!
– Успокойтесь, – как-то устало сказала Ирма, – мы свободные люди и можем говорить на том языке, на каком сами захотим. Мы любим русский язык. Знайте, самоназвание русских немцев звучит удивительно, должно быть, для вашего уха – «русаки»!
– Фу!!! У-у, – как-то, как показалось Ирме, по-волчьи, завыли старички.
– Мы из семей депортированных, из республики немцев Поволжья в Сибирь, в Казахстан, в республики Средней Азии, но разве русский народ в этом виноват? Нет, виновата была власть, нечеловеческая власть…
– И мы и так всё знаем о русских, мы были там в лагере для военнопленных после войны, совсем молодыми мы там были, нам Советы жизнь сгубили, – кричали они вдвоём, перебивая друг друга, так что подчас было не разобрать, что они хотят сказать.
– Вот оно что, – задумчиво протянула Ирма.
– Да, да мы там дома строили, хорошие каменные дома, – подтвердили фрау и герр Шенке.
– Так вот откуда ваш прекрасный русский!
– Мы его ненавидим, как и всё русское, как и всех русских! – заверила от себя и от имени мужа Доротея Шенке.
– Вы, что оказались пленными, и вообще на фронте по своей воле? И как будто по своей воле мы оказались в Казахстане? Нет, во всём была виновата власть, что сталинская, что гитлеровская – обе дьявольские, нечеловеческие – продолжила Ирма.
– Но, – Доротея Шенке тряхнув своими седыми кудельками, строго сказала, – русские оказались победителями, а позже мы долгие годы боялись нападения русских на федеративную республику. К счастью, этот жуткий Советский Союз рухнул, и что же, теперь мы должны здесь слушать и терпеть русскую речь?!
– Фрау и герр Шенке, скажите, вы ведь познакомились между собою там, в СССР?
– Да, ну и что? – недоверчиво, не понимая к чему клонит Ирма, произнесла старая Доротея.
– Насколько я помню, вы – фрау из Гамбурга, с берега Северного моря, а герр Шенке из Лёраха, что у самой швейцарской границы, а свела вас обоих судьба в лагере, в Гулаге, в Советском Союзе! И вы во взаимопонимании, в ладу и в согласиии прожили жизнь, такую длинно-счастливую жизнь… И никогда вы не подумали о том, что не окажись вы оба там, то и не было вас двоих, как одного, единого существа, не было бы ни вашей любви, ни вашей взаимной привязанности. И вместо того, чтобы проклинать, вы должны благославлять русских за то, что они свели вас воедино… Неужели вы никогда не задумывались об этом? – Ирма задала им этот главный, наверное, вопрос их жизни, и победно, точно возвестив истину, посмотрела на них.
Старики посмотрели друг на друга, на неё, на Ирму, на её старинную знакомую, и вдруг, неожииданно для самих себя заулыбались. А улыбка приоткрыла, на мгновение, их молодые влюблённые лица…