Великие писатели Англии в фотопортретах
Опубликовано в журнале СловоWord, номер 62, 2009

Сто лет назад в Берлине в состоятельной еврейской семье родилась Жизель (Гизела) Фройнд, великий мастер фотопортрета. Гизела с детства мечтала стать писательницей. Но её путь в жизни определил случай. Её отец, сам интересовавшийся фотографией, подарил дочери к окончанию школы «лейку». В 1928 году «лейка» была новинкой, девушка увлеклась фотографированием. Но это было, как теперь говорят, «хобби», а получать высшее образование Гизела отправилась во Фрайбург. Однако в 1930 году она уже учится во Франкфуртском университете у известного философа и социолога Карла Маннхайма, одновременно посещая в Институте социальных исследований семинары Макса Хоркхаймера и Теодора Адорно. Она придерживается левой ориентации, входит в группу Красных студентов. Её научный руководитель Норберт Элиас, в ту пору ассистент Маннхайма, а впоследствии видный социолог, рекомендует ей заняться темой «Фотография ХIХ века во Франции». Начиная с 1931 года, Гизела часто бывает в парижских библиотеках. К этому времени она свободно владеет главными европейскими языками.
Крутой поворот судьбы
В 1933 году после прихода нацистов к власти немецкая профессура еврейского происхождения, изгнанная из университетов, покидает Германию. Маннхайм и Элиас уезжают в Англию, Адорно и Хоркхаймер – в США, а Гизела – во Францию. Во время таможенного досмотра гестаповец поинтересовался, уж не еврейка ли она. Она ответила вопросом на вопрос: «А вам известна хоть одна еврейка по имени Гизела?» Дерзость спасла её. Однако немецкое имя осталось по ту сторону границы, отныне её будут звать Жизель Фройнд.
Она прибыла в Париж не обременённая багажом – с лёгкой сумкой и ставшей впоследствии легендарной «лейкой». При ней оказалась плёнка, запечатлевшая Первомайскую демонстрацию 1932 года во Франкфурте, последнюю в истории Веймарской республики. Это был её первый фоторепортаж. Её фотокадрами заинтересовались французские газеты и журналы, заработок грошовый, но хоть что-то. Родители недолго смогли материально поддерживать дочь: нацисты запретили евреям переводить деньги за рубеж.
Завершение диссертации и сближение с писательским миром
Вскоре по приезде в Париж Жизель Фройнд близко познакомилась с Адриенной Монье, хозяйкой книжной лавки «Дом друзей книги» и прекрасным знатоком французской литературы. Та всячески способствовала завершению диссертации о французской фотографии ХIХ века, над которой упорно работала Жизель. В ней автор сделала первую попытку объяснить природу фотопортрета. Адриенна перевела работу на французский и опубликовала её в своём небольшом издательстве при Сорбонне. В Германии она вышла в 1968 году под названием «Фотография и гражданское общество».
Главный тезис исследования был таков: появившийся фотопортрет как естественная форма выражения бурно развивающейся буржуазии демократизирует искусство портрета, который на протяжении столетий был привилегией немногочисленных верхов. Докторантка как бы предвосхищает собственную карьеру, когда пишет о том, что первые французские фотографы портретировали на высоком эстетическом уровне и без всяких коммерческих расчётов парижскую художественную и интеллектуальную элиту своего времени, среди которой – художник Делакруа, поэт Бодлер, революционер Бакунин.
На улице Одеон, в 30-е годы достаточно провинциальной, где редко проезжали авто, напротив лавки Адриенны Монье в доме № 12 уже давно располагалась книжная лавка Сильвии Бич «Шекспир и Ко». Хозяйка прославилась тем, что «открыла» ирландца Джойса, проведя настоящую битву за опубликование «Улисса». Хозяйки книжных заведений были в близких отношениях, благодаря им Жизель познакомилась со многими французскими, английскими и американскими писателями. Их фотопортреты, выполненные ею, составили её славу.
На Международном конгрессе писателей в Париже
Второй её фоторепортаж сделан в июне 1935 года с первого Международного конгресса писателей в защиту культуры. В её объектив попали многие, среди них – Анри Барбюс, Генрих Манн, Олдос Хаксли, Эдуард Морган Форстер, Анна Зегерс, Бертольт Брехт, Андре Жид, Жюль Бенда – те, кто станут классиками ХХ века. Запечатлела она и делегатов Советской России – Илью Эренбурга, Бориса Пастернака, Алексея Толстого. Организатором и душой Конгресса был тридцатилетний Андре Мальро, уже отмеченный Гонкуровской премией. В ту пору он верил, что «коммунизм смог бы вернуть личности творческую силу». Мальро увлёк и очаровал всех.
За 2 месяца до открытия Конгресса Фройнд, уже вошедшая в писательские круги, сделала фотопортрет Мальро, она назвала его – «Волосы на ветру». Это фото обошло весь мир и стало знаковым. На графически чётком портрете предстал с сигареткой в руках романтический интеллектуальный герой эпохи.
Мастер цветного фотопортрета
В 1938 году началась эра цветной фотографии. На первых цветных портретах Жизель – круглолицая Адриенна и изящная Сильвия. В Париже и Лондоне Жизель сфотографировала более 80 известных писателей, при этом она брала у них интервью. «Я всегда хотела писать даже больше, чем фотографировать». Её собеседниками стали представители интеллектуальной элиты: Джеймс Джойс и Томас Стернз Элиот, Ромен Роллан и Жан Кокто, Джордж Бернард Шоу и Виржиния Вульф, Поль Валери и молодой Жан-Поль Сартр, Торнтон Уайльдер и Мария Бонапарт, Герберт Рид и Пегги Гуггенхайм… Она запечатлела их накануне второй мировой войны – в 1939-м. Пожалуй, никто не имел столько знакомых среди видных писателей и художников, как она. В 1939 году в Париже состоялась выставка её фоторабот – «Знаменитые писатели».
Тяготея с самого начала к жанру портрета, Жизель, наблюдая тысячи мелькающих перед нею лиц, пришла к заключению, что двух идентичных физиономий не существует. Она хотела бы посвятить себя созданию бесконечной панорамы человеческих лиц, но жизнь предъявляла свои требования, а потому она делала репортажи для заработка, а портреты – для собственного удовольствия. Не сразу, но она поняла, что для некоторых писателей портрет – единственная прямая связь между ним и читателем. Если читателя тронула книга, он с особым интересом всматривается в лицо автора на обложке. Издатели это поняли много раньше, спрос на фотопортреты писателей рос. «Фото для писателя имеет большое значение. Естественно, он предпочтёт фотографа, которому он может всецело довериться, – писала Жизель Фройнд в своих воспоминаниях. – Многие доверились мне, стали моими друзьями и любимыми сюжетами моего объектива».
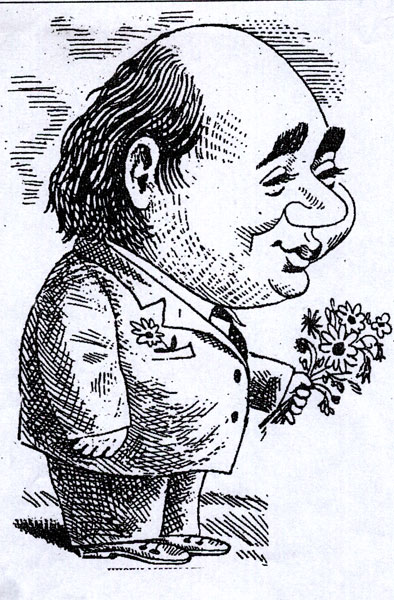
Бернард Шоу
Жизель Фройнд познакомилась с Бернардом Шоу, лауреатом Нобелевской премии (1925), накануне второй мировой войны, когда 83-летний старец уже был классиком драмы и театра. Он начал писать, когда на сценах лондонских театров с триумфом шли пьесы Оскара Уайльда, но самонадеянный Шоу не его, а самого Шекспира считал своим соперником и вызывал на поединок. С присущей ему смелостью Шоу утверждал, что пришёл в театр, чтобы его преобразовать: на современной сцене должно быть больше разума, чем страстей. Он спорил с Шекспиром в трактовке образов Клеопатры («Антоний и Клеопатра», 1898, вошедшая в «Пьесы для пуритан») и Жанны д Арк (трагедия «Святая Иоанна», 1923). Он сделал его действующим лицом своей миниатюры «Смуглая леди сонетов» (1910) и написанной за год до смерти драматической миниатюры «Шекс против Шо»(1949), в которой Шекспир, возмущённый тем, что Шоу посмел сравнивать себя с ним, вопрошал: «Где Гамлет твой? Создать ты мог бы «Лира»?», Шоу отвечал, что его «Лир» – это «Дом, где разбиваются сердца». В финале миниатюры Шекспир задувает свечу, и они вместе исчезают во мраке. В сознании своих сограждан они – всегда рядом. И сегодня у лестницы Королевской Академии драматического искусства в Лондоне слева стоит бюст Шекспира, а справа – Шоу.
Пьесы Шоу были полны парадоксов, иронии и сарказма. Но можно ли шутя, говорить о серьёзных вещах? Ведь Шоу создавал проблемные пьесы. На это он отвечал: «Мой способ шутить заключается в том, чтобы говорить правду».
В 1913 году появилась одна из самых популярных пьес Шоу – «Пигмалион». Она была положена на музыку, экранизирована как мюзикл «Моя прекрасная леди», где в роли Элизы Дулитл снялась очаровательная Одри Хепбёрн.
В молодости Шоу был страстным поклонником Генрика Ибсена и даже написал объёмную и во многом программную статью «Квинтэссенция ибсенизма». Позже он познакомился с русской драматургией Чехова и Толстого. Под явным влиянием Чехова пишет он пьесу «Дом, где разбиваются сердца» (1914), которой даёт подзаголовок «Фантазия в русском стиле на английские темы». Спустя 70 лет она ляжет в основу фильма выдающегося режиссёра А.Сокурова «Скорбное бесчувствие».
От пьес-дискуссий Шоу пришёл к драмам идей; в 20-30-е годы его имя – среди новаторов театра, рядом с именами Брехта и Пиранделло. Шоу был великим отрицателем. К событиям в России он относился с недоверием, отказался ехать туда вслед за Г.Уэллсом, однако летом 1931-го вместе с лордом и леди Астор, членами, как и он, Фабианского общества, приехал в Москву. Их принял Сталин. Его впечатление было следующим: «Он странным образом похож и на папу римского и на фельдмаршала. Я бы назвал его побочным сыном кардинала, угодившего в солдаты. Его манеры я бы счёл безупречными, если бы он хотя бы немного постарался скрыть от нас, как мы его забавляли».
Шоу согласился принять Жизель Фройнд в своём загородном доме в тридцати милях от Лондона, где он проживал с женой Шарлоттой, богатой женщиной с независимым характером, на которой он женился, когда ему было уже 38, и с которой прожил в браке 45 лет, пережив её.
Жизель Фройнд утверждает, что о сарказме, с которым он судил своих современников, слагали легенды, и она волновалась накануне визита. Как выяснилась, волновалась она не зря: во время установки осветительных приборов произошло короткое замыкание, и свет погас. Она отдёрнула тяжёлую штору, и лунный свет затопил кабинет хозяина. «Я могла бы снять Вас при лунном освещении, но способны ли Вы 3 минуты просидеть, не двигаясь?» – » Я способен на всё, юная дама. Делайте своё фото! Но заклинаю: не обрежьте при этом мою бороду». Шоу уселся в кресло у окна, и Жизель довольно быстро справилась со своей задачей. «Я надеюсь, что Вы мою бороду запечатлели полностью», – таковы были его последние слова. Когда фото было проявлено, Жизель увидела, что часть белоснежной бороды в кадр не вошла. «Я не отважилась послать ему этот снимок»,– призналась она не без досады.

Бернард Шоу беседующий
с актёрами,1930 г.
Джойс, как и его старший современник Шоу, был ирландцем и родился в Дублине.
Наряду с Прустом и Кафкой он причислен к «отцам модернизма», а его прославленный роман «Улисс» (1922) считается энциклопедией модернистского искусства.

«Отец модернизма», мифотворец и глобалист Джеймс Джойс
Джойс стремился к всеобъемлющим формам изображения основных законов бытия. Он продемонстрировал «универсалии» жизни с вечно присущими ей проявлениями взаимодействующих страстей, импульсов, побуждений, инстинктов. Его глобализм сказался не в тематике, а в самом способе отображения действительности, в идее внутреннего единства человека и космоса.
В его романе нет глобальных катастроф, хотя он создавался в годы первой мировой войны. Огромная книга (более 700 страниц) посвящена одному дню из жизни Дублина и трёх его скромных жителей – писателя Стивена Дедала, агента по сбору объявлений еврея Леопольда Блума и его жены Молли. День этот назван – 16 июня 1904 года. Для писателя он был знаменателен тем, что в этот день он встретил свою будущую жену Нору, с которой не расставался до смерти. В том же году вместе с Норой он отправился в Европу (Цюрих – Триест – Париж).
Находясь вдали от родины, он писал только об Ирландии, о Дублине: сборник рассказов «Дублинцы» (1914) роман «Портрет художника в юности» (1916). И в «Улиссе» очень много зримых деталей его родного города. Джойс писал: «Я хочу, чтобы, если город вдруг исчезнет с лица земли, его можно было бы восстановить по моей книге». В этом отношении в нём можно видеть наследника Бальзака. Но привязанность к вещному миру – в нём не главное. Он не собирался стать «доктором социальных наук» (как Бальзак) и не стремился передать «дух эпохи». Перед нами – художник нового типа: «вечности заложник у времени в плену».
Расширяя линейные сюжетные рамки своего повествования (роман состоит из 18 эпизодов), писатель вмещает в него развитие всей европейской цивилизации. Роман обладает многоуровневой структурой и сложнейшим подтекстом. Роман, казалось бы, повествующий о современности, уводит в глубь веков, к гомеровской «Одиссее». Возникают и библейские и шекспировские параллели, ассоциации из Данте, Гёте, Малларме и Метерлинка. Обращение к Гомеру имеет глубокий смысл: Джойс вскрывает те извечные начала, которые присущи натуре человека испокон веков. Он был знаком с теориями Фрейда, а с Юнгом он встречался и знал его учение об архетипах. Итак, по его мысли, всё повторяется, история движется по кругу. Человек в настоящем таков, каким он был испокон веков. Может меняться его имя, но сущность остаётся неизменной.
В каждом из 18 эпизодов автор воплощает какую-либо область искусства или науки, в совокупности составляющих всю интеллектуальную и духовную жизнь человека. В каждом эпизоде доминирует определённый цвет, но в целом они образуют цветовой спектр. Почти каждому эпизоду соответствует какая-то часть тела или орган, из которых состоит человек в целом.
Обострённое восприятие человека как частички Вселенной материализуется в 15-м эпизоде, где в описании ночного квартала дублинских публичных домов смешивается фантасмагория сна и яви. Стивен и Блум смотрят в зеркало и вместо своего отражения видят лицо Шекспира. Оно возникает как символ общности, знак единения. Слились воедино духовное и плотское, возвышенное и земное.
Техника «потока сознания», отчасти изобретённая Джойсом и широко им использованная, воспроизводит способ мышления, характерный для человека как такового, независимо от национальности, пола, возраста, уровня культуры. Она включает параллельное и перекрещивающееся движение нескольких рядов мыслей, перебивку сознания и подсознания, смену точек зрения, игру ими, фрагментарность, метод монтажа, словотворчество.
Страсть к словотворчеству ещё сильнее проявилась в его романе «Поминки по Финнегану», над которым он, почти ослепший, трудился 17 лет. Стремление к универсальности, к космизму в этой книге ещё значительнее, чем в «Улиссе». Джойс, овладевший более чем 20 языками (в том числе – русским), в этом романе стремился передать «бессловесный мир сна». Поэтому далеко не всё в нём было понятно, читать его без комментариев невозможно. В ответ на упрёки в непонятности Джойс отвечал, что роман нужно понимать как музыку. Одно из придуманных им слов – «кварк» – вошло в язык современной науки и известно сегодня старшеклассникам всего мира как название элементарной частицы.
Сказать, что Джойс – один из читаемых авторов, значило бы идти против фактов, он был и остаётся писателем интеллектуальной элиты, но вот, что любопытно: 16 июня отмечают как Bloomsday (день Блума) не только в Ирландии, но поклонники Джойса –во всём мире. Не далее как вчера в подземке Кёльна увидела на бегущем экране сообщение о том, что в этот день 95 лет назад были опубликованы «Дублинцы»! Что это как не мировая слава?!
Жизель Фройнд в 1938 году по заказу американского журнала Life подготовила репортаж о Джойсе, сделав много чёрно-белых снимков. В 1939 году журнал Time Magazine заказал ей цветное фото Джойса для обложки одного из номеров. Между тем, писатель уже однажды говорил ей, что его глаза не выносят яркого света. Что делать?
Джойс был ужасно суеверен. Сильвия Бич, зная это, посоветовала подруге написать Джойсу от имени мужа. Весь фокус был в том, что один из героев его «Улисса» носил ту же фамилию, что и придуманный ими муж. И это сработало: Джойс согласился позировать для цветного фотопортрета. Его нервозность передалась Жизель, но, в конце концов, аппаратура была установлена, и Джойс направился к своему креслу. Он был очень высок и по дороге ударился головой об одну из ламп, свисавших с потолка. «Вы хотите меня убить, я поранился!» – вскрикнул он. Нора приложила ко лбу мужа ножницы, холодный металл унял боль, и сеанс состоялся. Он запечатлён читающим книгу своих стихов в очках и с лупой в руке. Он ещё не знает, что от начала второй мировой войны его отделяет два месяца, а от смерти в Цюрихе (он покинет Париж после вторжения нацистов) – два года.

«Кто боится Вирджинии Вулф?»
Так назвал американец Эдвард Олби одну из своих эпатажных пьес в начале 1960-х. Поколение, которое выбрало Pepsi, не только не боялось, но уже посмеивалось над автором «Миссис Дэллоуэй», которая по рождению и воспитанию принадлежала к другой, отошедшей эпохе. Её повышенная чувствительность, восприимчивость и утончённость делали её даже в глазах современников существом не от мира сего. Но не следует забывать, что именно эти качества сделали Вирджинию Вулф в 1920-е годы главой «психологической школы» модернистского романа.
Она остро ощутила грядущие перемены в мире и назвала даже их точную дату: «Где-то в декабре 1910 года человеческая природа переменилась». А что же произошло в это время? В Лондоне состоялась выставка художников импрессионистов и начались гастроли русского балета (дягилевские сезоны). Англичанам открылась современная музыка: Стравинский, Дебюсси, живопись Ван-Гога, Мане, Сезанна, Матисса, Пикассо, русских «мирискусников». Состоялась премьера «Вишнёвого сада», вышел перевод «Братьев Карамазовых». Вирджиния Вулф (в тут пору она была ещё Стивен) проявила большую проницательность, разглядев в этих явлениях контуры тех стилевых сдвигов, которые произойдут в искусстве первой половины ХХ века, но она явно ограничила масштабы перемен, замкнув их в эстетические рамки.
Вирджинию и её друзей из группы «Блумсбери» (один из центральных районов Лондона) упрекали в элитарности. В критике и литературных кругах их называли «высоколобыми» (highbrows), но они сами этим словом обозначали людей, которые отличались высоким уровнем интеллекта и способностей, жили творческими исканиями.
Это о таких, как она, аристократах духа стихотворение её современника Эзры Паунда, американца, проживавшего в Европе, которому Томас Элиот посвятил свою поэму «Бесплодная земля», прибавив: «мастеру, большему, чем я».
О, знаю, что вокруг толпятся люди –
Тоска снедает по таким, как я.
«Они картины наши продают!» О, пусть,
Им не достичь меня, хотя бы рядом были –
Меня им не достичь, ведь стала жизнь
Огнём, что не преступит
Предела очага, которым стало сердце,
Огнём, что в пепле сером прячась,
Откроется тому, кто первым
Грядёт из близких мне.
О, как тоскую о таких, как я,
А прочие меня не занимают.
О, как тоскую
О тех, кто так же чувствует и видит,
И создаёт дыханье красоты…
(Пер. А. Михальской)
В книгах Вулф духовное преобладало над материальным. Запечатлеть в одном мгновении суть бытия – вот, что особенно важно для неё. В этом смысле она – ученица Блейка. Это он завещал:
В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность
И небо – в чашечке цветка.
(Пер. С.Маршака)
Психологизм прозы Вулф (романы «На маяк», «Орландо», «Волны», «Годы») изящен и тонок. Её интересует не развитие событий, а движение сознания, эмоций и чувств. «Она грезит, делает предположения, вызывает видения, но она не создаёт фабулу и сюжет и может ли она создавать характеры?» – задаётся вопросом современник и почитатель таланта Вулф, писатель Э.-М.Форстер и продолжает: «Она любит вбирать в себя краски, звуки, запахи, пропускать их через своё сознание, где они переплетаются с её мыслями и воспоминаниями, а затем снова извлекать их на свет, водя пером по бумаге. Так самозабвенно, как она, умели или хотя бы стремились писать немногие…»
Жизель Фройнд увидела её впервые 23 июня 1939-го, когда писательнице было 58 лет. Её поразило то, что аскетизм в её лице доминировал над красотой. Она была высокой, стройной. Большие глубоко сидящие глаза были серьёзны, её нежные губы выдавали скорбь. Ровный тонкий нос, почти бесплотный. Лицо, освещённое внутренним светом, отражало способность ясновидения и одновременно поражало невероятной чистотой. Всё пленяло в этой столь сдержанной женщине.
Жизель не знала, что незадолго до того в Испании погиб любимый племянник Вирджинии, молодой поэт Джулиан Белл, студент-оксфордец, сражавшийся в рядах интернациональной бригады. Своих детей у Вирджинии и Леонарда Вулф не было, она горевала так, будто потеряла единственного сына. Отсюда скорбная складка губ.
Жизель показала ей журналы с выполненными ею художественными портретами, и писательница уступила её просьбе и согласилась встретиться и сниматься на следующий день. Видимо, это решение далось ей нелегко, через силу. Тем не менее, было сделано несколько фотографий, даже в разных одеяниях.
Обе – фотограф и портретируемая – не знали, что через пару месяцев одной придётся бежать из Парижа от наступающих нацистов, другой – перебираться в загородный дом, потому что лондонский дом и её библиотека погибнут во время бомбежки. Не знали они и того, что два года спустя Вирджиния Вульф покончит с собой. Она вошла в реку, набив карманы пальто камнями, и воды сомкнулись над ней.
Вулф писала не только романы, но была и блестящей эссеисткой. Мне особенно близко её программное эссе «Как читать книги?», поскольку я тоже воспринимаю чтение как наслаждение самодостаточное. Хочется закончить разговор о Вирджинии Вульф её признанием: «Я иногда мечтаю о том, что в Судный день, когда великие мира сего придут получать свои награды – венцы, лавры, имена, запечатленные в мраморе навечно, – Всевышний, увидев, как мы шагаем с книгами под мышками, повернётся к апостолу Петру и скажет не без зависти: «Посмотри-ка, этим не нужны награды. Нам нечего им предложить. Они любили чтение».

Великий поэт ХХ века – Томас Стернз Элиот
«За приоритетное новаторство в становлении современной поэзии» – такова была формула, с помощью которой Нобелевский комитет объяснил своё решение 1948 года: присудить премию поэту, драматургу и эссеисту Томасу Стернзу Элиоту (Великобритания). Томас Элиот, как и Вулф, принадлежал к «высоколобым». Университетская профессура стояла за Элиота горой (как потом встала за Иосифа Бродского). Оно и немудрено. Как пишет В.Л.Топоров, Элиот создал канон, или, если угодно шаблон, позволяющий отделять зёрна от плевелов, овец от козлищ, а стихи – от их более или менее добросовестной имитации, – и вооружил этим шаблоном как раз профессуру.
Советская профессура была вооружена иными догматами, а потому в 1981 году, когда я защищала докторскую диссертацию об английской поэзии первой половины ХХ века, оппонент профессор М.В Урнов осудил не мою работу, а сам предмет исследования, заявив, что Элиот и Йетс (ещё один нобелевский лауреат, поэзию которого я анализировала) «злостно нарушают экологию культуры». Приговор, считайте, был вынесен. К счастью, среди наших «зарубежников» были и другие профессора. Моя руководительница Н.П.Михальская и оппоненты А.А.Аникст, Т.Л.Мотылёва, Н.Я.Дьяконова сумели защитить меня, а стало быть, и Элиота от «неистового ревнителя».
Элиот родился в семье, предки которой прибыли в Америку чуть ли ни на «Мэйфлауэре», стало быть, они были причислены к американской аристократии. Но он смолоду перебрался в Лондон, сменил гражданство и стал активным участником, а вскоре и лидером поэтической революции. Слава его началась после первой мировой войны – в рамках так называемого «потерянного поколения», к которому принадлежали и Хемингуэй, и Олдингтон и Ремарк.
«Бесплодная земля» и «Полые люди», произведения Бого– и человекоборческие, составили его поэтическую славу и создали Элиоту авторитет «литературного диктатора». Они появились в 1922-25 гг., когда был опубликован «Улисс» Джойса и подошла к концу работа Марселя Пруста над циклом романов «В поисках утраченного времени». Начавшийся в предвоенные годы эксперимент корифеев модернистского искусства дал обильный урожай. В процессе этого эксперимента резко сместились очертания реальной действительности при её отражении в художественном произведении, кардинально нарушились пропорции между разными сторонами этой действительности, а также между отдельными сторонами языковой формы литературного произведения. В мир нарушенных пропорций сознательно устремился и Элиот.
Набитые чучела,
Сошлись в одном месте, –
Солома в башках!
Шелестят голоса сухие,
Когда мы шепчемся вместе,
Без смысла шуршим,
Словно в траве суховей,
Словно в старом подвале крысы большие
По битым стёклам снуют.
(Пер. Н.Берберовой)
«Эта вещь даёт точное представление о настроениях образованных людей во время психологической катастрофы, последовавшей за мировой войной, – писал в 30– годы Дэй Льюис, один из поэтов-оксфордцев. – Она показывает нервное истощение, распад сознания, копание в самом себе, скуку, трогательные поиски осколков разбитой веры – все симптомы того психического недуга, который свирепствовал в Европе»
Сам Элиот противился истолкованию своих поэм как «социальных документов» и отрицал их связь с настроениями «потерянного поколения». Несомненно, он почувствовал и передал духовный кризис и апокалипсические настроения, охватившие послевоенную Европу. Но главным было передать не трагедию конкретного исторического времени, а трагедийность бытия как таковую. Как и Джойс, он обратился к мифу (мифам), увидев в этом преимущество их художественного метода: «Использование мифа, проведение постоянной параллели между современностью и древностью… есть способ контролировать, упорядочивать, придавать форму и значение тому громадному зрелищу тщеты и разброда, которое представляет собой современная история».
Набитые чучела,
Сошлись в одном месте, –
Солома в башках!
Шелестят голоса сухие,
Когда мы шепчемся вместе,
Без смысла шуршим,
Словно в траве суховей,
Словно в старом подвале крысы большие
По битым стёклам снуют.
(Пер. А. Сергеева)
До страшных бомбардировок Лондона, начиная с сентября 1939-го, до зрелища его рушащихся башен, было ещё далеко, но большие поэты – пророки, особенно если они ощущают себя заложниками вечности.
К тому времени, как Жизель Фройнд встретилась с Элиотом, он пережил резкий поворот, обозначившийся уже в поэме «Пепельная среда» (1930), которая благодаря красоте звучания производит по сей день глубокое впечатление на широкую аудиторию. Прежде чем понять её смысл, слушатель чувствует и понимает поэму как род ритуального псалма.
Элиот стал католическим поэтом. Он успел написать стихотворную драму «Убийство в соборе» (1935) и работал над «Четырьмя квартетами» (закончил в 1942-м). Они навеяны поздними квартетами Бетховена. Сложным переплетением тем, внезапными поворотами в их движении они и впрямь походят на бетховенские. Каждый из квартетов состоит из 5 частей, которые, в свою очередь, строятся по принципу: тезис – антитезис – заключение. Медитативная первая часть сменяется лирической, последующее движение протекает в их чередовании.
«Было бы ошибкой допускать, что вся поэзия должна быть мелодичной или что мелодия есть главнейший принцип музыкальности, – писал поэт в эссе «Музыка поэзии». – Диссонанс, даже какофония, имеют свои права, точно так же как в стихотворении должны быть переходы между пассажами большей и меньшей напряжённости, чтобы дать ритм пульсирующей эмоции, столь необходимой для музыкальной структуры целого». Это объясняет те новшества, на которые он решился в «Четырёх квартетах». Их сквозной темой является лишь намеченная в «Пепельной среде» тема движущегося времени, его соотношения с покоем и вечностью. У Элиота время смещено и относительно (ведь он современник открытий Эйнштейна!)
Настоящее и прошедшее,
Вероятно, наступят в будущем,
Как будущее наступало в прошедшем.
(Пер. А. Сергеева)
Как прошлое неотделимо от настоящего, так же неразрывны, по Элиоту, жизнь и смерть:
Мы умираем с теми, кто умирает; глядите –
Они уходят и нас уводят с собой.
Мы рождаемся с теми, кто умер; глядите –
Они приходят и нас приводят с собой.
Самому Элиоту казалось, что в «Четырёх квартетах» он заговорил «более простым образом». И всё же это была «герметичная», сложная поэзия.
Но вот что любопытно: одновременно с ней он сочинял забавные стихи о кошках для своих крестников. Своих детей у него не было, он был закоренелым холостяком. Но у него была слабость: кошки. В годы молодости его любимцы осложняли его жизнь. Нужно срочно отъехать, кому поручать заботу о них?! Когда-то в аспирантские годы вычитала, что одно время кошки Элиота находили приют у Ричарда Олдингтона, который был уже женат на американке, поэтессе Хильде Дулитл. Элиот отдавал кошек на время в хорошие руки, в семью. И вот осенью 1939 года выходит книга стихов «Практическое руководство Старого Опоссума (литературное прозвище Элиота) о котах и кошках».
Жизель Фройнд, фотографируя Элиота летом этого года, познакомилась и с его любимицей кошкой Гризабеллой. Ни хозяину, ни гостье и в голову не могло прийти, что оная Гризабелла и хвостатые герои и героини ещё 15 стихотворений Элиота в 1980-х годах станут персонажами прославленного мюзикла Cats – «Кошки», музыку к которому напишет знаменитый композитор Эндрю Ллойд Уэббер. В его карьере это был первый случай: обычно слагали стихи на его музыку, а тут он должен был идти вслед за Элиотом, и пути эти были далеко не лёгкими. Стилистика и синтаксис детских стихов давно опочившего Элиота были уж очень своеобычными. Между тем, всё было именно так! Вначале маститый лондонский режиссёр Тревор Нанн по предложению Уэббера поставил мюзикл в Ист-Энде и свёл с ума весь Лондон, затем «Кошки» покорили Бродвей и вот уже третий год «зажигают» москвичей. Вот какие номера откалывают «высоколобые»!
Со снимка на нас смотрит лицо напряжённо размышляющего интеллектуала, глаза вдумчивые, проницательные, в складке губ затаилась ирония, вырез ноздрей выдаёт страстность, но своими страстями он владеет. Это человек принципов и порядка: взгляните на ровный пробор его аккуратной (волосок к волоску!) причёски. Это не романтический Мальро с его развевающимися на ветру волосами. Нет, перед нами неоклассицист!
Я впервые начала писать о Томасе Элиоте в год его смерти (1965), разумеется, я его не могла видеть. Но когда я оказалась в Лондоне лет двенадцать назад и, миновав Сити, двигаясь по Кинг-Уильям стрит, вдруг увидела указатель у переулка направо – к церкви Сент-Мери Вулнот, я замерла. Откуда-то издалека приплыла строка из «Бесплодной земли»: «Сент-Мери Вулнот на часах стоит, с мертвящим звуком отбивая девять…». Так произошла моя встреча с Томасом Элиотом.
А вот моей научной руководительнице и другу всей жизни Нине Павловне Михальской и впрямь довелось встретиться с Томасом Элиотом. В 1961-62 гг. она находилась в годичной командировке в Англии, собирала материал для докторской диссертации. Ей стало известно, что Томас Элиот является церковным старостой в одной из небольших церквей Кенсингтона (он давно перешёл из протестантизма в англо-католицизм). Она отправилась туда на утреннюю воскресную службу. Когда автор «Бесплодной земли», обходя прихожан с тарелочкой для пожертвований, поравнялся с ней, она положила на неё довольно крупную купюру. Элиот остановился, поинтересовался, откуда она, и протянул ей иссохшую руку. Рукопожатие классика модернизма было слабым. Жизнь покидала его.
Нина Павловна – единственная в России, кто может сказать, что видела живого Элиота и даже прикасалась к нему. Да, ей целовал руку президент, и это запечатлено на газетных снимках, но в моей иерархии ценностей рукопожатие Томаса Элиота – много-много выше.