Опубликовано в журнале СловоWord, номер 54, 2007
Писательская судьба Фридриха Горенштейна до удивительного необычна.
Как только он попал в Москву, этот город, весьма высокомерный к новичкам, ничего не мог поделать с его писательским даром. Москва побрыкалась, покочевряжилась, сначала процедила было «фи», но тут же поняла, что если не подтвердить огромный талант Фридриха сразу, немедленно, не признать, что это значительное явление в русской литературе – потом стыда не оберешься.
Конечно же, он был самородком, но при этом он был провинциалом до мозга костей. Да еще провинциалом строптивым, да к тому же еще с ярко выраженными еврейскими именем и фамилией, еврейской внешностью и еврейским акцентом. Да еще ко всему прочему он, выходец из житомирско-бердичевской черты оседлости, в каждом своем слове и в каждом движении пытался выказать свое пренебрежение к столице и ко всему столичному. Москва такого не любит и быстро расправляется с нахалами, загоняя их на самое дно. Но несмотря на это, вопреки всему, писательская слава Фридриха Горенштейна вспыхнула, как метеор, буквально через пару месяцев после его появления в столице.
Рассказ «Дом с башенкой», написанный неопытным провинциалом от руки и в таком виде отданный в редакцию журнала «Юность», был по указанию тогдашнего главного редактора Бориса Полевого сразу же напечатан. Пьеса «Волемир», которую Горенштейн написал «на манжетах» в перерыве между просмотрами на Высших сценарных курсах и поисками хоть какого-то пропитания, была отдана им в театр «Современник», принята и ее начали репетировать под руководством Олега Ефремова. Почти тут же никому не известного юношу с вызывающей еврейской фамилией, еще более вызывающей еврейской наружностью и ярко выраженным местечковым акцентом привлекли к работе над своими фильмами Андрей Тарковский, Андрон Кончаловский и Никита Михалков.
Но потом, как по мановению волшебной палочки, все сразу прекратилось. Никаких предложений от «Юности» и от других журналов после публикации «Дома с башенкой» не последовало. Репетиции пьесы в «Современнике» были прекращены. И никто так и не узнал о том, что Фридрих Горенштейн приложил руку к написанию сценариев таких вошедших в историю фильмов, как «Андрей Рублев», «Раба любви», «Солярис» и «Зеркало». Иными словами, в СССР после короткого феерического взлета Фридриха Горенштейна на литературном, кино- и театральном небосклоне на все, к чему он мог иметь отношение, было наложено безмолвное, но железное табу. Кем – я думаю, обьяснять не нужно. Если вы внимательно вчитаетесь в то, что прочтете ниже, вы поймете, почему это случилось.
Целью появления Фридриха Горенштейна в Москве в 1962 году было поступление на Высшие сценарные курсы Госкино. Без всякого преувеличения это была, казалось бы, просто-таки отчаянная попытка, обреченная заранее, с самого начала, на полную неудачу. Но случилась поразительная вещь. Фридрих, при всех обстоятельствах, неумолимо работающих против него, был все-таки на эти курсы принят. Пусть только вольнослушателем, но принят. Но и тут он показал свой чисто горенштейновский характер – когда ему после двух лет обучения буквально силой попытались вручить диплом об окончании курсов, он его отверг.
Об этих курсах в то время ходили легенды, что было вполне обьяснимо. Слушателям курсов каждый день показывали два, а то и три зарубежных фильма, запрещенных к показу на всей территории СССР – и за это этим слушателям к тому же еще платили стипендию, равную зарплате высококвалифицированного инженера. Как вам это нравится, дамы и господа? Узнай об этом простой советский человек, он такому ни за что бы не поверил. Я и сам сейчас думаю – как же так, за совершенно невероятное наслаждение в течение двух лет просматривать ежедневно по два фильмы типа «Сладкой жизни» Феллини или «Девичьего источника» Бергмана – и еще получать за это стипендию, равную зарплате инженера? Да такого просто не могло быть.
Но такое было. Сейчас существование этого учебного заведения в Москве кажется мне совершенно чудовищным и необъяснимым. И так же чудовищны и необъяснимы для советских реалий были условия приема на ВСК. В этот «советский лицей», как иногда называли Высшие сценарные курсы, набирались лишь те талантливые молодые люди с высшим нелитературным, повторяю, именно нелитературным образованием, которые смогли бы, по мнению приемной комиссии, проявить свою неординарность, как кинодраматурги. Поступающие должны были предьявить приемной комиссии, помимо своих литературных опусов, еще и свою неординарность. Именно неординарность, не больше, не меньше!
У меня в памяти остался случай, когда в 1962 году на эти курсы одновременно со мной пробовал поступить очень неплохой московский поэт Семен С. Но ему было отказано, и причина, по которой его не взяли, была, по понятиям советского времени, совершенно безумной. Семену С. вернули документы, сославшись на то, что он уже является членом Союза писателей СССР, а значит, полностью безнадежен как будущий сценарный талант. Те, кто помнит то время, узнав о приведенном мною факте, наверняка в сомнении покачают головой. Не может быть, подумают они, чтобы члена Союза писателей СССР в 1962 году куда-то не приняли. Но это было.
Я и сам качаю головой, когда вспоминаю это.
Требование «неординарности» в стране, где раньше за неординарность расстреливали, могло возникнуть лишь потому, что это был особый год в истории литературы и искусства СССР. Да и вообще в истории СССР. Это был высший пик оттепели, начавшейся с публикации в журнале «Новый мир» рассказа Солженицына «Один день Ивана Денисовича», выходом на широкий экран антисталинского фильма Григория Чухрая «Чистое небо» и закончившейся авангардистской художественной выставкой в Манеже и выходом в свет полностью аполитичного и не одобренного никем, кроме самих авторов, альманаха «Метрополь». (Кстати, крупнейшей вещью, включенной в «Метрополь», была повесть Горенштейна «Зима 53-го года».) Именно после разгрома выставки в Манеже и свистопляски, поднятой идеологами КПСС после выхода в свет «Метрополя», пик оттепели резко пошел на спад. А вскоре, после свержения Хрущева, ушла в небытие и сама оттепель.
Мне повезло, в 1962 году я был принят на Высшие сценарные курсы и распределен в лучший, в моем понимании, семинар, которым руководил Евгений Иосифович Габрилович. Два последующих за этим года я никогда не забуду, это был время, которое я с полным правом могу назвать подарком судьбы. Со мною вместе учились, помимо Фридриха Горенштейна, Илья Авербах, Эрлом Авхледиани, Юрий Клепиков, Максуд Ибрагимбеков, Амиран Чичинадзе, Алесь Адамович, Марк Розовский, Анатолий Найман, Алла Белякова, Эдгар Дубровский, Иван Драч и многие другие необычайно талантливые люди, общение с которыми было неоценимо и давало мне неизмеримо много. И, конечно, очень много давали мне фильмы лучших режиссеров мира, которые я там увидел, и лекции, прочитанные действительно неординарными лекторами, такими, как, например, Александр Пятигорский, Виктор Шкловский, Андрей Тарковский, Анджей Вайда, Григорий Чухрай и другие яркие личности такого же масштаба.
Считается, что Фридрих Горенштейн окончил именно эти сценарные курсы набора 1962 года. Но это не так. На самом деле он всего лишь использовал курсы для пополнения своего творческого багажа, приходя на просмотры и иногда на лекции. Он, принятый на курсы так называемым «вольнослушателем», без стипендии, но с правом посещать лекции и смотреть зарубежные фильмы, запрещенные для широкого показа, извлек из этой привилегии все, что только можно было из нее извлечь. Но над самими курсами как таковыми он всегда иронически подсмеивался. Потом, когда руководство курсов сообразило, какой талант прозябал у них в жалкой роли вольнослушателя, Горенштейн был задним числом обозначен как полноправный слушатель ВСК, и ему был выписан диплом об окончании курсов. Но Фридрих от него гордо отказался. Так и вышло, что не Фридрих Горенштейн остался без Высших сценарных курсов, а Высшие сценарные курсы остались без Фридриха Горенштейна.
Начальную часть своей жизни Фридрих провел в Украине, причем именно в той ее части, которая долгое время была так называемой чертой оседлости, районами с подавляющим большинством еврейского населения. Это наложило отпечаток на многое, в том числе и на ярко выраженный местечковый еврейский акцент Фридриха. Но дело все в том, что при этом Фридрих Горенштейн был обладателем чистейшего русского литературного языка, языка такой силы, такой неимоверной чистоты и точности, что все общавшиеся с ним не только на Высших сценарных курсах, но и вообще в литературных и кинокругах Москвы прекрасно понимали: дело не в акценте Фридриха во время разговора, а в его огромном литературном таланте.
Если бы мне задали вопрос, что я мог бы назвать главной, доминирующей чертой в характере Фридриха Горенштейна, я бы, ни секунды не задумываясь, ответил: обостренная гордость. Именно обостренная. Повышенное, усиленное многократно желание постоянно сохранять собственное достоинство, не дать никому и никогда хотя бы на микрон затронуть свою честь. Эта черта легко угадывалась в каждом его движении, в каждой ноте голоса, в каждом взгляде. Но это качество проявлялось не только в его поведении в повседневной жизни. Ею, этой обостренной, я бы даже сказал, обнаженной гордостью, была отмечена вся жизненная позиция Фридриха. Он никогда не шел на компромиссы, никогда не оставлял без последствий ни одной попытки окружающих хоть как-то посягнуть на его внутренний мир, на его человеческое достоинство. Это было его врожденной чертой. На мой взгляд, в какой-то мере это происходило из-за обостренного восприятия Фридрихом своего еврейства. Обнаженно-обостренная гордость была своего рода борьбой Фридриха за достоинство всех евреев мира. Защищая свою честь и свой внутренний мир, он как бы давал отпор каждому, кто, по его мнению, мог бы посметь посягнуть на честь и внутренний мир всего еврейского народа.
Фридрих рассказал мне, что после того, как главный редактор журнала «Юность» Борис Полевой дал указание напечатать в журнале его рассказ «Дом с башенкой», его пригласили в отдел прозы журнала. Там у него состоялся доверительный разговор с редактором отдела; узнав об истории 1952 года, редактор по-дружески предложил ему напечатать рассказ под псевдонимом, который Фридрих уже использовал раньше – Федор Прилуцкий.
Ясно, Фридрих прекрасно понимал: все, что он напишет под псевдонимом Федор Прилуцкий, будет приниматься в издательствах, журналах, театрах и на киностудиях совсем по-другому, чем то, что будет подписано его настоящим именем. Он осознавал лучше, чем кто бы то ни было, что эти два слова, Фридрих Горенштейн, при всех обстоятельствах будут действовать на людей, стоящих во главе издательств, журналов, театров и киностудий, в лучшем случае, как красный сигнал светофора, запрещающий любое движение, а в худшем – как красная тряпка на быка. И тем не менее от дружеского предложения редактора он решительно отказался. Рассказ «Дом с башенкой» был опубликован под его настоящими именем и фамилией.
Отказаться от своих еврейских имени и фамилии, заменив их славянизированными, Фридрих не мог допустить даже и мысли. Для него это означало бы отказаться от самого себя.
Какое-то время я работал редактором на «Мосфильме», киностудии с огромной территорией. Для удобства сотрудников по этой территории в то время ходили внутренние маршрутные автобусы. Однажды, пообедав в так называемом «творческом буфете» в главном корпусе киностудии, я сел в микроавтобус, чтобы доехать до редакции своего Экспериментального обьединения, расположенного на другом конце студии. Внезапно вслед за мной в микроавтобус села актриса Маргарита Терехова. Когда «рафик» тронулся, нас в салоне оказалось только двое, и Рита, к моему удивлению, сразу же обратилась ко мне с совершенно необычной просьбой.
А просьба состояла в том, чтобы я попросил Фридриха Горенштейна посоветовать Андрею Тарковскому взять ее на главную роль в готовящийся к постановке фильм «Зеркало».
Я, конечно, прекрасно понимал всю наивность поступка Риты. Зная Фридриха и зная его характер, я также уже заранее мог предсказать, что его ответ будет отрицательным. Но ситуация была такой, что отказать было нельзя. И я сказал, что попробую поговорить с Фридрихом.
Встретившись с Горенштейном в тот же день, я передал ему просьбу Риты. Как и ожидалось, Фридрих со свойственной ему едкой насмешливостью высмеял желание Риты получить главную роль и сказал, что никаких советов давать Тарковскому он не будет.
 Мне были понятны и чувства Фридриха, решительно отказавшегося посоветовать Тарковскому взять на главную роль матери именно Риту Терехову. Тема матери была его личной темой, болезненной и постоянно саднящей. Незаживающей внутренней раной, о которой знал только он, и никто больше. Работая с Тарковским над сценарием, он не мог не вкладывать в эту свою работу, так и оставшуюся анонимной, то, что произошло лично с ним и с его матерью. И что легло в основу рассказа «Дом с башенкой».
Мне были понятны и чувства Фридриха, решительно отказавшегося посоветовать Тарковскому взять на главную роль матери именно Риту Терехову. Тема матери была его личной темой, болезненной и постоянно саднящей. Незаживающей внутренней раной, о которой знал только он, и никто больше. Работая с Тарковским над сценарием, он не мог не вкладывать в эту свою работу, так и оставшуюся анонимной, то, что произошло лично с ним и с его матерью. И что легло в основу рассказа «Дом с башенкой».
История была достаточно простой. И отец, и мать Фридриха были идеалистами-романтиками, верившими, что они помогут советским людям построить коммунизм сначала в России, а потом во всем мире. Дело было перед самой войной, а отец Фридриха, помимо того, что он был евреем, был еще и австрийцем, то есть немцем. Поэтому перед самой войной его без особых раздумий арестовали и расстреляли, как тысячи других идеалистов-романтиков. Но мать Фридриха о судьбе своего мужа, как и полагалось в то время, ничего не знала. Она считала, что он жив, и решила вместе с девятилетним Фридрихом поехать в Москву хлопотать за мужа и добиться справедливости. Но уже в Москве, обойдя множество инстанций, она поняла, что хлопотать за мужа бесполезно. С огромным трудом она вместе с Фридрихом села в поезд и поехала обратно, домой, на Украину. Но уже началась война, и поезд по переведенным стрелкам направили на восток, в эвакуацию. Стоял голод, мать вместе с мальчиком ехала в поезде, забитом людьми до отказа. В пути она поняла, что с ней может случиться все что угодно. Она может погибнуть, поэтому единственной ее мыслью в пути было сохранить жизнь маленькому Фридриху. И она все время пыталась объяснить ему, что он должен делать, если с ней что-то случится. Понимая, что ребенок слишком мал, чтобы запомнить цифры, она, пока еще поезд шел к Киеву, много раз повторяла ему в пути, что он должен найти улицу, где они всегда жили, и найти на ней дом с башенкой. В этом доме, обьяснила она ему, живут их родственники, которые ему помогут.
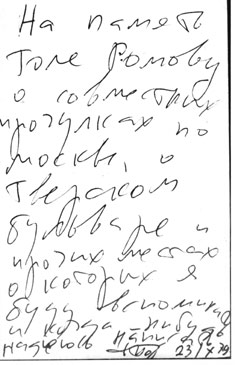
Мать не выжила, она умерла в этом поезде. Фридрих дома с башенкой не нашел, и был определен в приют.
Признаюсь: каждый раз, когда я думаю об этом, мне не по себе. Ведь история, подобная этой, случилась почти с каждым из нас. С каждым, кто жил в бывшем СССР.
Фридрих эмигрировал, выбрав для эмиграции Германию. Причины, по которым он выбрал именно эту страну, он мне объяснил. Во-первых, немцы предложили ему грант, как талантливому писателю, во-вторых, он неплохо знал идиш, что должно было помочь ему освоить немецкий, и третья причина, как он сказал, – писатель должен жить там, где существует или существовала враждебность к нему или к его предкам. Это помогает ему лучше писать.
За границей вышло немало книг Фридриха Горенштейна на разных языках. Ставились его пьесы. Но на родном его языке, русском, он почти не публиковался и не публикуется сейчас. Единственное исключение составляет журнал и издательство «Слово-Word», печатающее лучшие его вещи в журнале и издающее его книги.
В Германию Фридрих уехал с молодой красивой женой, маленьким сыном и любимой кошкой. Но личная жизнь в эмиграции у него не сложилась. В целом, несмотря на литературный успех, он до самой смерти был в Германии глубоко несчастлив. И одинок. И умер там 2 марта 2002 года несчастливым и одиноким.
Дом с башенкой, о котором говорила ему, девятилетнему, мать, был символом. Он означал место, где живут близкие люди, которые поймут его без каких-либо объяснений, примут, пригреют, накормят, сделают жизнь счастливой. Вся жизнь Фридриха Горенштейна прошла в поисках этого дома с башенкой. Он его так и не нашел. Зато он нашел себя как писатель.