Опубликовано в журнале СловоWord, номер 48, 2005

Лариса Шенкер: Наташа, очень приятно встретиться с Вами вновь в нашей редакции. Сейчас происходит в Нью-Йорке в музее Гугенхейма выставка под названием «Россия!». Хотелось бы у Вас спросить, как Вы относитесь к широко представленному на ней творчеству художников России, в частности, передвижников?
Наталья Нестерова: Мой дедушка был сезанист. Он учился у Коровина вместе с Сергеем Фальком. Дома у нас тогда висели работы, которые представляли эту школу. А я смотрела в это время не их, а альбомы западного искусства: Ван Гога, Гогена, Перона и т.д. А Сезанна тем более. Передвижников же меня с детства не учили любить и смотреть. Потом, когда я уже стала учиться в художественной школе, у меня был к их искусству иммунитет.
Л.Ш.: Спиноза как-то сказал, что следует «не любить, не ненавидеть, не плакать, не смеяться, но понимать». И я спросила вас в этом плане. Как вы к ним относитесь? Я понимаю, что вы не можете любить их как художник другого направления. Но все-таки попробовать понять их можете.
Н.Н.: Нет, Лариса, я совершенно не согласна. Себе подобных абсолютно не нужно любить. Это не интересно даже.
Л.Ш.: А вот то, что Вы говорите, – это уже интересно. И что из этого следует?
Н.Н.: Просто есть прекрасный художник Федотов. Есть у Перова «Последний кабак».Это замечательно. Но это не то, что бабушка мне читала. Она была преподавателем русского языка, словесности. Она читала мне Тургенева, Лермонтова, Пушкина, но не Фадеева или Серафимовича.
Л.Ш.: Я хочу спросить Ваше мнение о выставке «Россия!».
Н.Н.: Эта выставка сделана кураторами. Я думаю, что ее можно было построить по-другому.
Л.Ш.: Как раз об этих кураторах художники, с которыми я беседовала, не очень высокого мнения. Не в смысле: вон та хорошая женщина, а эта – плохой человек, а в смысле профессионального отношения к выставке.
Н.Н.: Можно бы с ними поговорить.
Л.Ш.: Не хочется. Говорят, у них были конкурентные взаимоотношения, которые не давали выбирать объективно лучшее, а каждая толкала своих протеже. По-видимому, такое случается вокруг любой выставки, и, к сожалению, произошло вокруг этой. Это определило экспозицию. Но хорошо все же, что выставка состоялась и показано много хорошего, в частности, иконы.
Как Вы считаете, может ли изобразительное искусство выражать историческое развитие народа? Должно ли?
Н.Н.: Безусловно. Ну, должно – не должно, а волей-неволей. Как во времена фашизма немецкая архитектура абсолютно выразила состояние духа страны в то время.
Л.Ш.: Архитектура выражает, с этим я согласна.
Н.Н.: А тут же скульптура, а тут же фрески, а тут же живопись. Одна часть поддерживает, а другая – противостоит.
Л.Ш.: Раз вы сказали про Германию, то можно было бы назвать и другие страны.
Н.Н.: Италию, пожалуйста.
В юности я смотрела у одного художника много немецких журналов по искусству, которые он, видимо, привез с войны. Их искусство развивалось абсолютно параллельно с нашим. Причем, наше даже шло впереди. Те же Самохвалов или Дейнека.
Л.Ш.: Значит, вы считаете, что линию тоталитаризма изобразительное искусство в России выразило?
Н.Н.: Безусловно.
Л.Ш.: А вот в тот период, допустим в XVIII веке, когда в России живописи своей практически никакой не было, а жизнь народов шла?
Н.Н.: Как это не было своей живописи? Как это?
Л.Ш.: Она была настолько подражательная, что не имела своего лица. Это было известно и раньше, но сейчас на этой выставке очень здорово подчеркнуто разрывом в экспозиции.
Н.Н.: Во-первых, не забывайте, что был уничтожен огромный пласт искусства, весь семнадцатый век и так далее. Были сожжены усадьбы, где было огромное количество портретов. То есть что-то исчезло навеки. Сейчас можно часто встретить слова «неизвестный художник», «портрет неизвестного». А ведь это были известный художник и известный человек. Вот и все. Деревянную скульптуру сжигали безжалостно.
Л.Ш.: Ну, а то, что было сделано с русской архитектурой, причем самого интересного ее периода, просто страшно. Действительно, разрыв в истории культуры. Но я отношу это в особенности к архитектуре, потому что она не была подражательной. Ведь русские церкви, которых было много, все Золотое кольцо вокруг Москвы, очень самобытны.
Н.Н.: Вы давно не были в России. Много очень восстановили. Приезжайте, посмотрите. Ярославль и по дороге к нему.
Л.Ш.: Сила искусства русской архитектуры и архитектуры вообще в том, что она никогда не бывает до конца подражательна. А о живописи этого сказать нельзя. Вы с этим не согласны?
Н.Н.: Не совсем.
Л.Ш.: Есть много портретов неизвестных художников и неизвестных людей, которые считались самыми лучшими, если им удавалось быть похожими на какого-нибудь французского живописца.
Н.Н.: Нет, нет. Очень много… как они называются? Провинциальные портреты такие. Я почему сказала про Ярославль. Это писали не самодеятельные художники, но крепостные художники. Типа Сорокина. Не много, но есть. Тропинин – хороший.
Л.Ш.: Есть, но не много. Кое-кто считает , что в России нет философии. Что философия России занималась исключительно прикладными проблемами, судьбами народа. Основные же темы, занимающие мировую философскую мысль, их не интересовали. Например, вопросы познания. Можно усмотреть аналогию в том, что происходило в философии и живописи, вообще в умонастроениях людей искусства и философов России в течение длительного времени. Вот вы выпали из этого русла совершенно. А этих людей можно не признавать, но можно попробовать их понять. Они часто ведь были очень талантливы. Можно, конечно, перечеркнуть и Репина, и Сурикова, и Крамского, потому что их интересовали другие проблемы. Будет ли это справедливо, будет ли это верно с точки зрения такого художника, как Вы, который получил совершенно другое воспитание и работает в совершенно другом русле, и даже о котором, если бы я точно не знала, что вы – русская художница, я бы не могла сказать этого.
Н.Н.: А я не знаю особенно, какое различие. Не знаю, на эту тему не задумываюсь.
Л.Ш.: А я задумываюсь. И может быть, многие люди задумываются и хотят увидеть то, что их интересует. Если создается специальная выставка «Россия!», да еще с восклицательным знаком. А как же ее экспозиция выражает Россию? Пусть мне объяснят.
Вот наш журнал. Меня часто спрашивают: «Этот ваш журнал – русский?» Или: «Ваш журнал – еврейский?» Или какой-то еще? Меня всегда это смущает, и я отвечаю, что наш журнал – человеческий. Я не могу иначе на это смотреть, не могу втискивать его в узкие национальные рамки. А в России всегда была тенденция (хорошо ли, плохо ли это, я не знаю) рассматривать чисто российские специфические проблемы отдельно, и только им придавать значение, ими лишь интересоваться. Может быть, это и оторвало российское изобразительное искусство от мирового потока. Или другая какая-то была причина?
Н.Н.: Очень трудная жизнь в России. Такая вот человеческая какая-то странная порода.
Л.Ш.: Странная? Чем? В каком смысле?

Люди с собакой. 2004 г. Холст, масло. 195х115 см
Н.Н.: Живется ей тяжело, этой человеческой породе. Я помню, моя мама была потрясена, когда во время войны наши отступали и она шла по этим разным городам и деревням, где в одной избе жили скот и дети. Она не могла себе представить этой совершенно чудовищной бедности. И наверно, это всегда, в общем, было.
Л.Ш.: В недавнем интервью, которое Вы дали Юрию Коваленко для парижской газеты «Русская мысль», сказано вначале: Искусствовед Александр Каменский назвал живопись Нестеровой искусством «между маскарадом и комедией». Сама художница вносит поправку: «между маскарадом и трагедией». «Если у Пикассо или Матисса, – говорит Нестерова, – ощущаешь легкость и счастье, то мы, русские, к сожалению, серьезны, тоскливы, тяжелы. Тяжесть, которая висит над страной, находит отклик и в нашем искусстве. Этот черный ужас – словно топор за спиной, будь то в литературе или живописи».
А чем это вызвано? Что Вы думаете на эту тему?
Н.Н.: Существуют какие-то веселые национальности, поющие, веселящиеся.
Л.Ш.: Россия – страна как раз поющая.
Н.Н.: Нет, нет, она поющая, но это пение всегда кончается дракой. И кем-нибудь зарезанным. Вот отличие!
Л.Ш.: Вы так понимаете? Я знаю, что женские русские песни красивые, удивительной даже красоты, и драками они не кончались. Так же и русские церкви, стоящие на холмах, многие из которых уничтожили, надеюсь не все, и, как Вы говорите, частично восстановили.
Н.Н.: Лариса, возьмите ради интереса и езжайте по Золотому кольцу. И все увидите сами. Если вам это интересно.
Л.Ш.: Мне это интересно, особенно в контексте истории человечества. Потому что есть виды искусств, которые ложатся в общую ее сокровищницу-ларец, составляющий культуру землян.
Какая же часть русского искусства туда попадает? Туда ложится деревянное зодчество, древняя каменная церковная архитектура, архитектура послереволюционного конструктивизма. А из живописи туда попадает что-нибудь?
Н.Н.: Малевич ложится.
Л.Ш.: Ну да, «Черный квадрат».
Н.Н.: Ну при чем здесь «Черный квадрат»? У него есть очень много другого. Это стереотип.
Л.Ш.: А кто еще?
Н.Н.: Гончарова, есть хороший Осьмеркин, Лентулов, Кончаловский… Легион. И не по одной работе.
Л.Ш.: Но все это относится к началу двадцатого века и ко времени сразу после революции. К этому небольшому промежутку времени. А как Вы относитесь к современному, к тому, что делается сегодня в России?
Н.Н.: Зачем Вам это?
Л.Ш.: Мне хочется понять, что происходит в России с изобразительным искусством. В Ваших глазах, в глазах человека, который в нем живет и, если хотите, варится.
Н.Н.: Лариса, я ни в чем не варюсь. Я чем больше, тем дальше ухожу от происходящего вокруг. И не очень знаю, что сейчас происходит.
Мне всегда хотелось посмотреть мир, уехать, но я не могла. Во-первых, считала, что я никому не нужна, и потом, я не могла оставить свою мать, а тащить ее тоже не могла. Было много всяческих обязательств, по которым я не могла ехать, да и, надо сказать, не раздумывала.
Л.Ш.: А не будь этих обстоятельств, вы бы уехали?
Н.Н.: Я бы стала ездить. Понимаете? Но в сорок лет я поехала в первый раз. В сорок. Это было уже очень поздно.
Вот сейчас хорошо, что мы можем где-то оказаться, запереться и работать здесь или там. А раньше я просто и мечтать об этом не могла. Никогда.
Понимаете, я была застенчивой девочкой с детства, и сейчас тоже. Например, я не иду на выставку «Россия!» не потому, что я сноб, а потому, что боюсь увидеть свою работу.
Мне не важно, что говорят, самое важное для меня то, что вижу я сама. Потому что я себе самый строгий судья. В меня не проникла та страна, в меня проникла страшная неуверенность. С одной стороны, ответственность, а с другой – неуверенность. Это свойство моего характера. Кто-то мимикрирует, ассимилируется в мгновение ока, как хамелеон. А кто-то – та жаба, которая ни во что не может превратиться.
Л.Ш.: Вот я и думаю, что та жаба, которая ни во что не может превратиться, если она прожила жизнь в этом болоте, что-то неизбежно впитала в себя от этого болота, она не может стать жителем Тихого океана.

Играющий с собакой. 2004 г. Холст, масло. 138х200 см.
Н.Н.: Так вот ностальгия-то и происходит.
Л.Ш.: Это правда.
Н.Н.: Это именно и объясняет, понимаете, почему птицы из какой-то прекрасной Африки летят Бог знает куда. Потому что они там родились. Потом обратно, они погибают над морями, тонут и т.д. и т.д. Они полетели туда, где они родились. Это что такое? Это зов земли. Это очень странное состояние. Придумали это звери, которые бегут на место и летят туда, где они появились на свет.
Л.Ш.: Но еще важнее, как и где они выросли.
Н.Н.: А это зависит от воспитания.
Л.Ш.: Но воспитание – это не только то, как тебя вырастили родители или что тебе дали в школе.
Н.Н.: Это то, что тебе дали родители в первые несколько лет, четыре-пять-шесть. Дальше вы уже как бы выбираете свой путь и начинаете по нему тихонечко двигаться: кто-то двигается по нему только в одном направлении, кто-то пробует одно-другое, пятое-десятое, может возвращаться к исходному, может к абсолютно противоположному. Все индивидуально. Человек, может, и стадное животное, но кто-то выделяется из этого стада.
И я приучила себя как бы к мгновенной адаптации – жить там, где есть твой холст, твой мольберт.
Л.Ш.: То есть, ваш мир всегда с Вами?
Н.Н.: Со мной, со мной. В общем, мне просто, нужно иногда менять место.
Л.Ш.: У Вас сейчас уже есть определенные избирательные тенденции?
Н.Н.: Избирательные места. Я работаю иногда в Париже, чаще в Нью-Йорке и в Москве. Вот это комфортные для меня места.
Л.Ш.: То есть у Вас ось: Москва – Париж – Мир. Это вполне можно понять.
Но вернемся к выставке «Россия!». В этой выставке особенно чувствуется влияние Запада на русское искусство. И до того дошло, что были такие большие просветы, когда ничего специфически русского вообще не появлялось, как, например, в семнадцатом веке. В этих местах поместили картины, приобретенные русскими коллекционерами. Только они представляют это время, что вообще очень своеобразно и подчеркивает, как бы между строк, что русское искусство на искусство Европы и Запада вообще никакого влияния не оказывало.
Н.Н.: Ну, наверное, так и есть!
Л.Ш.: Большое спасибо. Я надеюсь, мы вернемся еще к разговору о выставке после того, как Вы ее посмотрите. Что бы Вам хотелось сказать на прощанье читателям «Слова»?
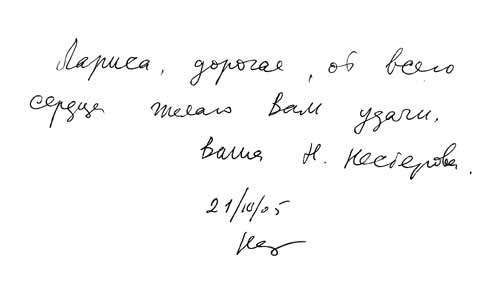 | Н.Н.: |