Опубликовано в журнале Старое литературное обозрение, номер 2, 2001
И сследователи и читатели многократно будут находить в «Представлении» Бродского новые смыслы, особые значения, не замеченные прежде связи с реалиями прошлого, настоящего и будущего времен, прозрения и прогнозы. Здесь же хочу предложить некое представление музыкального слоя стихотворения. Отдельные наблюдения об имеющихся в этом поэтическом тексте намеках на песни, звучащие мотивы есть в нашей статье о музыкальном словаре Бродского1, в работах Л.Зубовой2, Т.Кэмпбэлла3. Однако услышать звуковую, музыкальную драматургию всего действа в целом, с «наклоном слуха» к сонорной стороне происходящего, — цель этой работы.
Прежде всего, музыканту слышна в этой трагической мистерии перевернутая ситуация одного из главнейших моментов музыкального жанра «Пассионы»: симфонически-хорового ораториального действа, шествия на Голгофу. Один из истоков «Представления» — мистерия Бродского «Шествие» с ее «печальным хором страстей», тоже была сравнима с баховскими «Страстями». Это шествие-восхождение персонажей-призраков (если не мертвецов), где чередуются сольные высказывания («Романсы»-арии) с авторскими «комментариями», а подчас же звучат «хоровые» высказывания; и первый, кто обнаружен воистину мертвым, «висящим в петле», — Скрипач.
В «Представлении» Бродского можно также услышать травестирование, пародирование «шествия на Голгофу». Там звучит своя Via Crucis, свой крестный путь — от «сложенья» одноголосного примитивного человечка, представителя населенья, тут же вырастающего до гражданина с весомым добавком-«документом» — через вступления разнообразных голосов и звуков, до кульминационного «кластера» (в музыке ХХ века так называется эффект и техника единовременного звукового комплекса — это сумма, без гармоничного согласования, разноречивых голосов, в реальности схожая с шумом), от звучания всех голосов хором, через звенящее молчание, к тихому финальному дуэту. Ведь входящие «персонажи»-маски никуда не уходят; впоследствии они, по ремарке автора-драматурга, «заполнили всю сцену», и фантазия и слух внимательного читателя продолжают чувствовать и слышать их продолжающееся присутствие и звучание, в полифонической массе разноречивых голосов все более угнетающее и диссонантное.
Другое музыкальное впечатление создает контраст звукового, ритмического строя «запевов» с их индивидуализированной авторской, сольной речью и частушечного тона «припевов», где царит или имитируется разговорная речь толпы, «голосов из хора». (Если бы описывать это в терминах кинематографа, можно сказать, что первые (запевы) сняты в манере авторского кинематографа с участием индивидуальных метафор, вторые — принадлежат иному жанру, это коллаж (и монтаж) документальных кадров.) «Запевам» придана длина строки и ритм, роднящий их с эпосом, былиной (жанром на грани музыки и речи). Припевам свойствен скорее танцевальный ритм и частушечная дробность, нарочитая произвольность, неожиданность сочетаний «реплик», на грани выкриков-импровизаций, свойственных этому жанру. Эпические «зачины» обладают плотностью образных «сцеплений» такой энергетической силы, что это рождает веер интерпретаций невиданной прежде широты.
В этом развороте прочтений, каждое из которых имеет свои основания, предлагаю свой комментарий моментов, в какой-то мере связанных с музыкой, музыкально-звуковой драматургией. Для такого «среза» есть причины. Прежде всего, заданные автором: в стихотворении, они присутствуют в виде указаний (пой, поют, танцуют), явных и скрытых цитат и намеков на песни и другие музыкальные реалии. Звуковой слой заложен в Представлении как синтетическом — театральном, цирковом, музыкально-литературном жанре (добавим, с участием синэстетических эффектов, даруемых кинематографически вещными зримыми образами, плюс запахами опрокинутой бутылки, шипра с комсомолом, и остро чувственными ощущениями тактильного характера, на контрастах глянца плоти, разрываемого когтями бархата ложи, пены болтовни или страсти совокупления, взбитой языком, и тесноты давящих тел.
Повествование в «Представлении» складывается из 16 «явлений»-запевов с «припевами». В первом происходит некое опознание человечка—представителя населенья, дальнейшее — словно явления свидетелей его формирования. Первое и последнее явления выполняют функции вступления и заключения. В первых семи явлениях участвуют конкретные «властители дум», начиная с восьмого до кульминации в пятнадцатом — это «общие понятия». Так, с точки зрения архитектоники, рождается симметричная композиция.
Уже в первом явлении этой драмы, когда «Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах — папироса»4, обнажается карнавальная суть воображаемого. Можно вообразить все «явления» персонажей словно шарж на абсурдистское, еще более, нежели в «Зоне» Довлатова, театральное действо из истории России, рассчитанное на плебейское быдло, где «актерами» выходят переодетые зэки (заключенные): летчик, комичный «матрос», что «ходит гоголем», да еще рядом с «полу-сопрано» (таков буквально-двусмысленный перевод термина меццо-сопрано), — на фоне «фольклорных» реплик толпы-публики, занятой своими делами. Чем нелепее, несовместимее — тем острее и страшнее. Одним из ключей к этой фразе, помимо убедительных объяснений Л.Зубовой, может предстать и строка Бродского об «авиаторах, воспарявших в тучи посредством крылатого фортепиано» («Открытка из Лиссабона»). Бродский с детства мечтал стать летчиком (да и, как Пушкин, «улететь» далеко от мучающих пределов). Поэт ли на Пегасе («смесь голоса с инструментом») или музыкант с «крылом рояля» — оба равно, как авиаторы, воспаряют, витают в излюбленных облаках. Напоминанием о навязшей в ушах музыке, особенно для выросшего с одной программой советского радио, звучит строка «В чистом поле мчится скорый с одиноким пассажиром». Она похожа на фразу из «Попутной песни» М.Глинки, когда «Веселится и ликует весь народ, и быстрее, шибче воли поезд мчится в чистом поле» (стихи Н.Кукольника). «Попутная песня» Глинки традиционно связываема с «народным ликованием», с образом летящей России, ее искусственно «спрямленного» пути, как между Петербургом и Москвой, — карандашная прямая коего прочерчена Николаем I. Идея русского пути развивается, звучит и далее, оттененная нарезанными косо колесами, — с ними путь не может не стать кривым. Потому и завыли жалобно в «припеве» этой строфы, вслед за волками, подобно им, народные голоса (еще Пушкин заметил, что «Грустный вой / Песнь русская»).
Во втором «явлении» «Входит Гоголь в бескозырке, рядом с ним — меццо-сопрано». Помимо вышесказанного предположения, соседство этих травестированных образов можно представить так: рядом с худым, сторонящимся женщин писателем, по злому контрасту, дородную певицу, обладательницу басовитого украинского сочного тембра — вспоминая определение Бродского, «лунообразное сопрано», воплощение самой безвкусицы и пафоса, с ненавистным для поэта (об этом говорят друзья) разверстым ртом, откуда несется вечное «Реве та стогне Днiпр широкий».
О связи явления Льва Толстого в пижаме с комическими песнями «на литературные темы», создаваемыми в интеллигентской среде, писала Зубова, ссылаясь на заявленное Э.Неизвестным авторство ряда таких песен5. Напомню, что звучит эта песня на известный народный напев «Бродяга, судьбу проклиная» («По диким степям Забайкалья»). Разумеется, размер и ритм у Бродского — иной, поэтому о «цитировании»-воспоминании, о музыкальном интертексте можно говорить здесь, как и ранее и впоследствии, с некоторой осторожностью, — лишь как о вероятном, и скорее даже бессознательном, однако возможном и важном подтексте.
Явление «Заграницы с горизонтом, что опошлен», создает фонетическую игру намеков на парономистически близкие Польшу и Шопена. Тем более, что сбежавший во Францию композитор, полуфранцуз-полуполяк и урожденный подданный российской короны, невольно вспоминается также из-за соседней строки: «Обзывает Ермолая Фредериком или Шарлем». «Невозвращенец» Фредерик Шопен должен был бы, — если бы остался в Российской Империи и смирился, — как русский подданный, играть в другие «игры», то есть, обрусев, стать «Ермолаем»).
Далее, начиная с этого момента перед читателем предстают уже не конкретные персонажи, а понятия, важнейшие символы, определяющие некие границы отечественного сознания. И если ЗАГРАНИЦА для бедного Нomo sovieticus’a начиналась вожделенной Польшей (мечта в первом приближении), то «сценический облик» «Мыслей о Грядущем, в гимнастерках цвета хаки», абсолютно милитаризирован. Их песня — она же танец: они пляшут и танцуют, что указывает на Краснознаменный ансамбль Песни и Пляски, образ которого для Бродского был столь важен как символ худшего в культурном официозе (хотя в изгнании бывают такие вечера, когда «все в радость, даже хор краснознаменный..»). Коллективный агрессивный энтузиазм — «Мы вояки-забияки!» — напоминает бодрые хоровые песни-марши, исполняемые армейцами, например, «Эх, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса! Эх, тачанка-ростовчанка, все четыре колеса!». Песня-танец вояк сопровождается глухим воем и громким карканьем, — что создает впечатление сопровождения пения омрачающими его натуральными звуками («конкретная музыка» летящих снарядов, стонов и кладбищенских ворон), либо — создания эффекта сложной сонорной ткани, когда вкрапления фрагментов песни окружены звучаниями, схожими с воем, и резкими акцентами, напоминающими карканье.
Важны музыкальные метафоры и при появлении «некто православного». Среди интерпретаций фразы «Скоро Игорь возвратится насладиться Ярославной», наряду с сатирически-политическими, культурологическими смыслами, есть и тот оттенок, что исходит от оперы Бородина, где искажена, перекроена в либретто историческая правда: князь Игорь превращен из погубителя войска и недисциплинированного властолюбца в героя земли русской. В одной из самых известных арий русского репертуара, при мыслях князя о жене, Евпраксее Ярославне (символе самой Руси), звучит текст, распеваемый на прекрасную широкую ариозную мелодию, облагораживающую и возвышающую героя еще более. Он гласит: «Ты одна винить не будешь. Ты мне все простишь!» Воспоминание об этом (очень известном) подтексте окрашивает строфу Бродского в еще более мрачные, пророческие тона. В идеологически агрессивном указании «Пой, гармошка, заглушая саксофон — исчадье джаза» — не только воображаемое смешенье «разных музык», создающее эффект полистилистики. Гармошка и саксофон противопоставлены как Восток и Запад, как голоса и инструменты-символы: господствующее советское хамство и зов свободы, воплощенный в джазе. В 1970 году, в «Песне о Красном Свитере», Бродский иронически мечтал о будущем России: «там в клубе, на ночь глядя, одноразовый / перекрывается баян пластинкой джазовой». Однако в 1986 году надежд на это у поэта уже нет; свободу (исчадье джаза) заглушает гармошка (здесь — шовинистический примитив). Не только символическое, но реальное звучание заглушаемого псевдонародным наигрышем привольного голоса саксофона обладает выразительностью контрапункта и спора двух миров, «двух музык», также в духе полистилистики.
В списке пропаж, вполголоса произнесенном Мыслями о Минувшем, на первом месте — фокстрот под абажуром, черно-белые святыни, — что можно прочесть как стон об исчезновении мира Дома, с чтением книг, приоритетом письменности. А также и другим черно-белым пространством — клавиатурой, «фортепианы вечерком», с уютным музицированием и бойким танцевальным «лисим шагом» семейных компаний, — от которых остались ныне лишь одетые в чернобурое (фашистская, шовинистическая коричнево-черная экипировка; может, поэтому не случайно здесь авторское слитное правописание слова). Выражаясь скучно, отсечение культурного пространства прошлого и приводит к отсутствию правильного эха, к искажениям, вроде акустических, нравственных волн. Тогда и младенец, отвечая колыбельной, кощунствует о создавшем его лоне. Так уходит фортепианно-романтическая «домашность» традиционной культуры, с четким разграничением черного и белого, и зловеще переворачиваясь (как, например, у Шостаковича, когда «позитивные», светлые интонации трансформируются в производные, полные неожиданной «дьявольской» ненависти), извращается самая незыблемая святыня основ бытия, материнство.
Когда «входят строем пионеры» (явление 12-ое), то и зрительное воображение читателя, и фонетика словесной ткани (с резкостью пулеметной очереди согласных вхдт стр пнр…)могут создавать представление о сухой дроби барабана, топоте под звуки марша несгибаемых юных ленинцев. Маршевый подтекст немой и ритмически скандируемой6, схожей с балетной, мизансцены переходит в парономазию ру-ба, ру-ба емкой фразы врубают «Русский бальный», с реально слышимой руганью на грани слов, между определениями танца7. Ерническое сочетание бала и Русского кажется выдуманным оксюмороном (в сущности абсурдно совмещение подлинного «русского» танца и эстетики бала), — помимо того смысла, что входит в сознание читателя орфоэпически, вместе с ненормативной зашифрованной лексикой. Оно созвучно и музыкальным играм, на грани «фола»8. Слово «врубать» — просторечный эвфемизм, часто означающее «включать на полную громкость радиоприемник или магнитофон», — постепенно стало употребляться и по отношению к «живому» пению или игре на музыкальном инструменте; здесь же оно воспринимается во всей ширине спектра своих значений.
Интересно, что поэт успевает дать указания и на громкостную динамику «Представления»: можно представить его «динамический профиль». Если ранее, на фоне глухого воя, раздавались отдельные возмущенные «восклицания» Заграницы и резкими акцентами громко каркали вороны, а сольные и ансамблевые «выступления» не казались громкими,как жалобы вполголоса Мыслей о Минувшем, то далее последовательно идет усиление звука, crescendo вплоть до орущей кульминации в 15-ом явлении.Как по пророчеству Булгакова, там «урезан марш» — точнее, слова эту песню запевает — в усеченной до зловещего абсурда цитате из «Гимна демократической молодежи» Л.Ошанина: «Что попишешь? Молодежь./ Не задушишь, не убьешь».
Но сначала химеры культурного официоза предстают в 13-ом явлении. Это «Входит Лебедь с Отраженьем в круглом зеркале, в котором взвод берез идет вприсядку, первой скрипке корча рожи». Трудно вообразить более плотный многозначный конгломерат словно спрессованных признаков. Оппозиция «Одетта—Одиллия»9 из фетишистского «Лебединого озера» (а «“Лебединое-то озеро” всегда вечером и дают…»10), как свет и тень, добро и зло, белое и черное, в зеркале сцены известного кино-номера, где заснято скольжение живых матрешек ансамбля «Березка» Н.Надеждиной, сливается с военизированной стройностью строя и строевой лирики Краснознаменного ансамбля Песни и Пляски Советской Армии. Образ «народного художественного коллектива», когда кентаврический «взвод берез идет вприсядку», возобладает над традиционно классическим, интеллигентским («филармоническим») в лице личности, первой скрипки. Спор так называемого «истинно народного, массового» и «элитарного» искусства и «жизненности» в официозно искаженном лике «фольклора» — рождает это двустрочие, которое можно сравнить с «черным карликом» по уплотненному донельзя содержанию, раскаленному ненавистью к тоталитарному коверканию, мучению (корчи) искусства.
Поэтический текст здесь исполнен особой, не традиционной музыкальности и как образное описание взаимопроникновения контрастных ритмоинтонаций, и как трудно выговариваемое жесткое, диссонантное высказывание, исполненное колючей правды (скопления трудных соседств согласных, взвд- брз- дт- впрсдк- прв- скрпк- крч- рж). В этом проявляется новая звуковая эстетика времени и, в частности, звуковой строй у зрелого Бродского. Несколько коряво определю его как избегание сладкозвучия в пользу отсутствия фальши, — принцип, который сам поэт провозгласил перед тем, как покинул Россию, когда «Осень выгнала его из парка»: «Аполлон… гармонию струн / заменяю — прими / неспособностью прутьев к разладу, / превращая твое до-ре-ми / в громовую руладу…».
После крика Мусора «Хватит!» пространствозаполняется до предела: «Мы заполнили всю сцену! Остается влезть на стену! Взвиться соколом под купол! Сократиться в аскарида!» Здесь, помимо важнейших интерпретаций, данных в статье Зубовой (С. 199), и ассоциации с цирковым акробатом и отшельником (уйти ли от толпы в опасные воспарения или в глубины самопогружения, самоедства), стоит добавить музыкальные обертоны. В попытках преодолеть плотность заполненного массой пространства поэту, похоже (на это указывали комментаторы и ранее), вспоминается песня «Взвейтесь, соколы, орлами!»(слова А.Шилова; в этой песне, во втором куплете «позолотою румяной медны маковки» — в другом варианте «купола — горят»11). Возможно, на идею о вышке как конце русского пути и о концлагерекак идеальном «гибриде, чтоб отлиться в форму массе», работают и слова первого куплета этой песни (на уровне бессознательного соединения разных смыслов слова лагерь): «Взвейтесь, соколы, орлами, / Полно горе горевать. То ли дело под шатрами / в поле лагерем стоять»12. Слово «сокол» в фольклорных текстах, в народном восприятии традиционно является иносказанием «добрый, бравый молодец» (Финист — ясный сокол). Именно такая, «молодецкая» окраска свойственна ему в словосочетании «сталинский сокол»; хищная природы птицы изначально ни при чем. Схоже оно звучит в песне Е.Гребенки «Дивлюсь я на небо дай думку гадаю: чего ж я не сокол, чего ж не летаю?»
Возможно, здесь и иной подтекст. Размножающейся, так тревожащей поэта массе остается, не желая искать иного, духовного пути, стремиться вне привычной среды обитания, — в безвоздушный космос и сферу бесчеловечных идей, рождая новых советских соколов-космонавтов, в попытках вывести гибрида. Фраза «хором вдруг совокупиться» слышится травестированным вариантом лозунга «пролетарии всех стран, соединяйтесь». Встающая для объединения масса, словно зловещая пародия на шиллеровски-бетховенское «Обнимитесь, миллионы», языком взбивая пену словоблудия, многократно повторяет формулы вроде припева «Интернационала» (где «проклятьем заклейменный весь мир голодных и рабов», что идет в«последний и решительный бой»).
Есть в этой взбиваемой языком, пробалтывая затертые слова и звуки массовых песен, пене и момент истинной общей немоты. Она скрывается псевдовысказываниями, чтоб отлиться в форму массе. Пустая пена немоты — результат выражения одной из главных проблем своего времени, о котором пишет, вспоминая юного Бродского, И.Смирнов: «Он показал нам, спорящим о стихах, что наша речь со всеми неизбежными в ней общими местами, без которых она не была бы средством коммуникации, разрушаема полностью, превращаема в пену»13. В связи с ощущением в кульминационной строфе «Представления» последнего усилия, позволю себе вспомнить о другой знаменитой пене, из «Концерта на вокзале» Мандельштама (пусть остается сомнительным написание в оригинале, «в музыке и пене» или «в музыке и пеньи» там «железный мир так нищенски дрожит»14). У Бродского подчеркнуто соседство этой «пенно-музыкальной» дрожи массы с горечью ощущения конца своего мира, поэтому уместно сравнение с мандельштамовским «На тризне милой тени / В последний раз нам музыка звучит». Именно такое впечатление создает в стихотворении Бродского и сопоставление громкой кульминации действа с конечной, тихой его кульминацией — последней колыбельной в финале представления о судьбах звука, судьбах мира.
В «Представлении», сразу после кульминационного контрапункта всех голосов, некоего вселенского вопля (и впервые примененного здесь «дробления» на короткие экстатические фразы), звучит, в припеве, последняя реплика из «толпы» — «Отпустите, Христа ради» (далее прямой речью будет выделен лишь запредельный голос матери). Реплика отпустите вполне могла бы быть и авторской речью, просьбой лирического персонажа, измученного прессом «голосов из хора». Словно в ответ на мольбу повествование уходит, subito piano, в настоящее время, в тишину, обращаясь к теме «тризны милых теней». Лирический персонаж с этой фразой словно срывает последнюю карнавальную маску. Тон, звучание представления резко меняются.
Возврат в реальность, когда «Входит Вечер в Настоящем», дает резкий кинематографический «наезд» на убогие детали и провал в зудящую тишину, создавая сильный визуальный и слуховой контраст. Причем тишина, как нередко в современной музыке (в том числе и «конкретной», из природных шумов), предстает не впрямую, а воссоздается тонкими сонорными средствами: лепет сердцебиенья… Ропот листьев… комариный ровный зуммер (это и природная реалия, и, как отметила Зубова, образ безответного телефонного звонка умершим родителям). Голос покойной мамы напевает сыну колыбельную: «Помнишь песню, что бывало / я в потемках напевала? // Это — кошка, это — мышка. / Это — лагерь, это — вышка. / Это — время тихой сапой убивает маму с папой». «Загробная» и втихую «убивающая» колыбельная заставляет вспомнить подобную из вокального цикла «Песни и пляски смерти» Мусоргского и последние «колыбельного» характера хоры в «Страстях» Баха, в опере «Дидона и Эней» Перселла, — излюбленных произведениях Бродского. Сведение персонажей, словно в луче прожектора, от вселенского карнавала, к своим внутренним ощущениям, к внутренним голосам, к маме с папой, тихо убиваемых временем, сравнимо и с последними тактами «Прощальной симфонии» любимого поэтом Гайдна, когда на сцене остаются только две первые скрипки, да и те, завершая музицирование, гасят свечи и уходят (так и в ранних стихах «Скрипач выходит, музыка не длится, / и море все морщинистей, и лица. / А ветра нет»).
Дальнейшее изложение продолжит линию сопоставлений стихотворения с музыкой — линию достаточно произвольную, но возможную, объяснимую насыщенностью «партитуры» «Представления» звуковыми и музыкальными компонентами, острым слухом Бродского-меломана. Оговорю, что отсутствие свидетельств о том, что поэт знал упоминаемую далее симфоническую концепцию, восполняется гораздо более значимой его фразой о творчестве Альфреда Шнитке: «Мне кажется, у нас есть общие принципы»15.
И действительно, музыканту по прочтении «Представления», вспоминается Первая симфония Альфреда Шнитке (1974). Не сравнивая архитектонику произведений (симфония четырехчастна), укажу лишь на главное — общность концепции и основных выразительных приемов. В симфонии Шнитке — оппозиция структурности и деструктурности мироздания, авторской и «общей» музыки». Как и в «припевах» «Представления» Бродского, в моменты звучания этого повсеместного хаоса возникает эффект настройки радиоприемника, вкупе с подслушивающим устройством в толпе, что «может быть истолковано как объективное воспроизведение реально сложившейся картины жизни музыки» (добавим — и жизни Языка, у Бродского. — Е.П.). Это «мощная звуковая лавина неконтролируемой разноголосицы», где мелькают обрывки бытовой и развлекательной музыки, «кафешантанной песенки, темы concerto grosso, марша… голоса музыки быта, разухабистые мотивчики полутанцевального канканного склада, песня «Реве та стогне Днiпр широкий» отголоски эстрадных песен, революционная «Ca ira» …». И там, где автор «прессует» пеструю мешанину на кластерной основе, «в одном пласте целый набор бытовых мотивов, он фактически низводит организованный звук на уровень хаоса»16. В ходе борьбы возникают трагические акценты, тема «Dies irae» (средневековая секвенция «День гнева») и предельно острое соединение всех тем, голосов в некий «вселенский вопль» (выражение Шнитке). Минуя средние части, обратимся к финальным моментам симфонии, когда аккорды всего оркестра мощно, резко «прерывают реминисценции, и в напряженной тишине две скрипки (при свечах) «досказывают» последние четырнадцать тактов «Прощальной симфонии» Гайдна»17.
Объясняя возможность сравнения, напомню слова Бродского из данного им в 1995 году интервью о музыке: в отличие от всего современного музыкального творчества в целом, «В последнее время музыка Шнитке производит на меня довольно-таки замечательное впечатление… Мне кажется, у нас есть общие принципы»18. В беседе с композитором Б.Тищенко (она происходила в США) поэт указал на то, что ему нравится (и близка) в творчестве Шнитке некая «референтивность». Узнаваемость, прикрепленность музыкальных тем, мотивов, интонаций, выступающих в роли символов и представляющих целые пласты сознания, социальные группы и мифы, служит ориентиром для вчитывания, вслушивания во всю широту авторских интенций. В ряде позиций, по которым можно сопоставить «Представление» и концепцию Первой симфонии Шнитке, назову лишь основные.
Прежде всего, суть обоих произведений — концепция Человека в России (мире) в ХХ веке. У Бродского «типический» человечек, представитель населенья проходит испытание и гибнет.
Оба сочинения представляют глобальные массовидные процессы, и если у Шнитке драматический путь касается судьбы звука и Музыки как искусства, то у Бродского предстает судьба Языка, Литературы, и, также, в целом Культуры в ХХ веке.
Это неизбежно приводит обоих художников к теме Конца века, к теме прощания, невозвратимости утраченного. В обоих сочинения неким знаком конца века служит связанная с детством (у композитора — связь с «детством» жанра симфонии) музыка расставания: цитата из Прощальной симфонии Гайдна у Шнитке и колыбельная «убивания мамы с папой», т.е. уничтожение корней, прощание с прошлым.
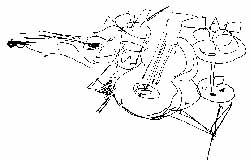
Социальный аспект противопоставления авторской и хоровой интонации (у Бродского — в чередовании строф-эпических запевов и строф-припевов частушечного склада, сотканных из последовательного изложения цитат или квазицитат народной речи — с контрастом метров, миров). Документальный звуковой поток, вместе с авторской личностной линией повествования, приводит к кульминации-катарсису, где единовременно сливаются все потоки. Сгущение типизированных высказываний происходит и по вертикали и по горизонтали: цитаты народной речи сгущены, подчас происходит контаминация и абсурдно-парадоксальное сращивание контрастных мотивов (как в «над арабской мирной хатой гордо реет жид пархатый» или «у попа была собака, оба умерли от рака») или слияние площадной и травестированной цитаты из художественной литературного текста («вот и вышел гражданин, достающий из штанин»). Суть «вертикального» сгущения в том, что в хоровом высказывании все «реальные» голоса звучат одновременно, полифонически; однако в письменной речи, в отличие от музыки, эту временную синхронность массового множественного вопля голосов передать единовременно нельзя, поэтому они изложены последовательно.
Как и Шнитке, Бродский живописует ужас сложения массовидных человечков, чье соединение способно было создать в ХХ веке лишь концлагерь и сеять смерть. Зловещее ускорение процессов, дающее не только пену, взбиваемую языком, но чреватое концом века, — вот «вид отечества, натура» для обоих мастеров.
«Представление» предстает как «Dies irae», День гнева», когда должно произойти восстание из мертвых (что также, на временном расстоянии, роднит его с юношеской мистерией «Шествие»).
В этом сатирическом, внешне смешном, но зловещем шествии царит карнавальность также и в звучании, ибо поэт применяет не только визуальные, но и языковые, и музыкально-слуховые уродующие маски. Так бывало и в русской музыкальной традиции. Например, в широко известном (и часто транслируемом в 1960—70-е годы по радио) представлении «Раек» Мусоргского сменяются пародийные музыкальные портреты-маски, и сам автор выступает как раешник. Грубо-нарочитое «опрощение» и вульгаризация, звуковая маска авторского композиторского стиля есть также и в скрытом от всех долгие годы злом и страшном «Райке» Шостаковича. А в драматургическом плане органичны и сравнения «Представления» с «Петрушкой» Стравинского — опусом, безусловно известным Бродскому. В финале балета на ярмарке мелькают и проходят победным шествием — то последовательно, то, в кульминации, в полифонической одновременности, — сочные образы гуляющей русской толпы: простонародные кормилицы, кучера, мужик с медведем… А в это время у другого «представителя населенья», Петрушки (можно сказать, одинокой артистической натуры, «альтер эго» автора), вершится последняя трагедия: уже не неразделенная любовь и потеря самоуважения, а смертельная угроза нависает над ним в виде некоего «арлекина»-арапа, черной силы, воплощающего не только судьбу, но и равнодушную агрессию «массы». В этом отечественном варианте комедии дель арте, и главное, в характере самой музыки Стравинского, Петрушку убивает грубость и жестокость родной толпы. Мощные, грубо-заразительные хоровые втаптывания «народных масс» без пощады давят рефлексирующего, чувствительного героя. Так и в «Представлении» Бродского лучших представителей населенья, родной язык и родную музыку давит, уничтожает не только время, но сам создающий их народ.
Таковы звуковые «мотивы» и музыкальные ассоциации, рождаемые «Представлением» Бродского: они были извлечены из синтетической ткани произведения и выстроены последовательно, чтобы более внятно услышать в том некую систему, подспудные смыслы, на наш слух, существующие — или рожденные многозначностью поэтического текста.
Примечания
1 Петрушанская Е. «Слово из звука и слово из духа…» Приближение к музыкальному словарю Иосифа Бродского// Звезда. 1997. № 1.С. 219; Петрушанская Е. Бродский и Шостакович / Шостаковичу посвящается. М., 1997. С. 88.
2 Зубова Л. Цветаева в прозе и поэзии Бродского («Новогоднее» Цветаевой, «Об одном стихотворении» и «Представление» Бродского) // Звезда. 1999. № 5. С. 196—204.
3 Кэмпбелл Т.-Х. Трудности перевода стихотворения Иосифа Бродского «Представление» с русского на английский // Митин журнал. СПб., 1996. № 53.
4 В воспоминаниях о Пушкине в Михайловском Пущин видит, что «всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда, с самого Лицея, писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах)» (Пущин И.И. Записки о Пушкине / Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 77).
5 Травестирующие официально признанные культурные ценности песни, как «В имении Ясна поляна жил Лев Николаич Толстой. / Не кушал ни рыбы ни мяса» указаны в статье Зубовой, где и дается цитата из книги одного из «авторов» песни: «Я и трое моих друзей создали кружок. Мы писали песни, которые потом пела вся студенческая Россия, не подозревая, кто автор. В том числе “Лев Николаич Толстой”, “Венецианский мавр Отелло”, “Входит Гоголь с пистолетом”, “Я бил его в белые груди”» (Неизвестный Э. Говорит Э. Неизвестный. Мюнхен, 1984. С. 38).
6 Прежде в стихотворении не слыханную скандированность придают внутренние рифмы: врубают—вбегают; пионеры—фанеры—химеры—пенсионеры — внутри одной строки, и бальны— двухспальной и тяте—тятю—кровати — между двух строк.
7 Вспоминается схожая «постмодернистская» игра парномастически близкими созвучиями с контрастной семантикой у Венедикта Ерофеева в пьесе «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» (1985): «Они — бальные, мы — погребальные» (Ерофеев В. Оставьте мою душу в покое. М., 1995. С. 254).
8 Кэмпбелл (указ. соч. С. 137) пишет о «русском бальном» как о реалии, — ему обучали в «Школах современного танца» как некой «комсомольской альтернативе» западным жанрам. Реально же существует понятие «русские бальные танцы» как некий свод наиболее принятых, исполняемых в данную эпоху в России танцев, не относящихся к исконно народным, например, вальс, фокстрот, полька, полонез, венгерка; но лишь поэту дано услышать оксюморонность такого наименования.
9 Кажется, двуединство «добра» и «зла» воплотилось для поэта в образах Белого и Черного Лебедя — в пьесе «Мрамор» упомянуто, что «нет лебедя без отраженья» (Бродский И. Формула времени. Минск, 1992. Т. 2. С. 249).
10 Постоянство присутствия этого культурного символа пророчески определено в пьесе Бродского «Демократия!» (Там же, С. 306).
11 Цитата по сборнику «Русские народные песни в 3-х томах». Сост. А.Новиков. Т. 3. М.—Л., 1937. С. 135. Песня появляется в сборниках с 1875 года, а в 1936—1937 годах она рекомендована к исполнению в армейских музыкальных коллективах; в годы Отечественной войны она актуализуется.
12 Там же.
13 Смирнов И. Урна для табачного пепла // Звезда. 1997. № 1. С.145.
14 Тарановский К. Очерки о поэзии О.Мандельштама. 1. Концерт на вокзале / О поэзии и поэтике. М., 2000. С.21.
15 Из интервью И.Бродского 21 марта 1995 г. Е.Петрушанской (неопубликовано; войдет в нашу книжку «Музыкальный мир Иосифа Бродского»).
16 Арановский М. Симфонические искания. Исследовательские очерки. Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. Л-д. 1979. С.165—167.
17 Там же. С.167.
18 Из указанного интервью 1995 года.