Опубликовано в журнале Дети Ра, номер 6, 2008
Лето 1955 года стояло как вкопанное. Но время шло быстро. — Пешком! Я ходил на собеседование в МГУ со Сретенки — жил: рукой подать. В Московском университете — на «плешке» — шли, как всегда, раскопки не понятно чего. Я плохо еще понимал тогда эту национальную идею «Борьбы с безработицей»: делаем — потом переделываем — снова делаем. Роем — асфальтируем — снова роем. — Плохо понимал тогда это! — роем роем. То есть, колхозом. Бригадой соцтруда. Роем. — До убойного фильма «Рой» Хотиненки — оставалось еще 30 лет и 3 года.
Но историческая — для меня — встреча с Венедиктом Ерофеевым, тоже абитуриентом-медалистом, вскоре далеко продвинет меня в герменевтике. Теории понимания. Самой модной ныне манере философствования: «Что единожды понял — распонять нельзя!» — много после, грамматически безобразно, говорил великий русский философ Г. П. — имя у него такое было: Щедровицкий. Мой учитель. Но говорил — очень образно! И — убедительно. Как теперь уяснилось, гениально говорил. «Так говорил Щедровицкий», — повторяют ныне его многочисленные апологеты. Из ММК — Московского методологического кружка.
Весной 1999 года Михаил Шемякин устанавливал — по заказу американского университета Хофстра (штат Нью-Йорк) — памятник Платону и Сократу. Скульптор попросил меня составить список великих философов всех времен и народов. Не больше, чем из 10 — 12 имен, — для свитка, лежащего на столе Платона. Между Хайдеггером и Даррида я уверенно вписал единственное русское имя — Щедровицкий.
Итак, в июне 1955 мы впервые встретились с Венедиктом Ерофеевым. В Московском университете. На «плешке». На филологический факультет тем летом, кроме нас, поступали будущие академики Сергей Аверинцев, Борис Успенский и еще много известных ныне филологов. Так что курс подбирался классным. И не только на классическом отделении.
Думал ли я тогда, что:
— поступая с Ерофеевым на филологический факультет,
— поступивши в итоге на химический (где очутился в компании с художником Володей Пятницким — погиб в 1979 году — жива и в силе),
— окончив с отличием в 1961-м геологический (в дружбе с великим ученым Владимиром Лариным),
— учась потом на механико-математическом (1963 — 67),
— посещая лекции на кафедре искусствоведения (1957 — 1967),
— работая в семинаре А. А. Зиновьева по логике (философский факультет) и в Московском методологическом кружке Г. П. Щедровицкоого, —
мог ли я думать тогда, что стану — в конце концов — профессиональным герменевтиком?! Методологом. Игротехником. Профессором философии. Да еще где? — За Железным Занавесом! Двадцать лет — до того — невыездной профессор. Буду читать лекции в европейских и американских университетах — после обвального краха Мировой коммунистической системы! — в 1989 году.
Мог ли я, чистый поэт, думать тогда, что в Зальцбургском университете — за спиной у всесильного КГБ — буду много лет (с 1978 года) издавать альманах «NEUE RUSSISCHE LITERATUR» (bronzowy wjek) — билингва! Где впервые опубликую неподцензурные стихи лучших русских поэтов-нонконформистов, включая Иосифа Бродского и Генриха Сапгира. И в первую очередь издам текст ерофеевского «Василия Розанова глазами эксцентрика» (1973). Что в этом своем альманахе манифестирую и конституирую БРОНЗОВЫЙ ВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. Как сопоставимый по значимости с ЗОЛОТЫМ И СЕРЕБРЯНЫМ. Что замахнусь на создание Антологии русского стиха БРОНЗОВОГО ВЕКА.
Моя вступительная статья в первом номере альманаха так и называлась: «БРОНЗОВЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ». Начиналась она словами: «Его проще было бы назвать «каменным». Проще и точней. Анна Ахматова называла его «догутенберговским». До сих пор на родине не изданы стихи лучших поэтов БРОНЗОВОГО ВЕКА. Как и великих поэтов — СЕРЕБРЯНОГО: Клюева, Кручёных, обэриутов».
Думал ли я тогда, что — расставшись с Венедиктом Ерофеевым на 15 лет — встречу его в 1972 году полностью самоопределившимся и самодостаточным писателем: широко известным в узких кругах. Поэма «Москва — Петушки» — шедевр прозы Бронзового века. Что на остальные 18 его лет жизни он будет ближайшим моим другом. И — единомышленником. Ближайшим — при тысяче друзей и знакомых! При открытом у меня доме — БАШНЕ-на-БОЛОТЕ. Литературном доме, через какой за четверть века (1965 — 1989) пройдут все — подчеркиваю, все — лучшие русские поэты. Включая Сапгира, Холина, Севу Некрасова, Бурича, Величанского, Уфлянда, Ерёмина, Соснору, Бродского, Кривулина, Буковскую. Пройдут многие художники и музыканты, драматурги и кинорежиссеры, академики-математики и физики-теоретики. Большинство из которых вынуждены будут покинуть родину в 1971 — 1989 годах. В рядах «третьей» и «четвертой» волн эмиграции.
Здесь, в БАШНЕ-на-БОЛОТЕ будут устраиваться литературные чтения одновременно с квартирными выставками художников Шварцмана и Шемякина, Мишина и Беленка, Целкова и Зверева. Чтения стихов и музыкальные премьеры Шнитке и Эдисона Денисова. Здесь будут проведены силами КГБ семь (за 1966 — 84 годы) страшных тогда, многочасовых обысков — с участковыми, понятыми, свидетелями, стукачами. С милицейским оцеплением дома. С иностранными журналистами у подъезда.
О БАШНЕ-на-БОЛОТЕ, ее праздниках и бедах писал уже Константин Константинович Кузьминский (первым он, а не Пригов — «всегда второй» — ввел еще в начале шестидесятых моду на «имя — отчество» Поэта — при антогонистическом господстве литературных имен типа: Саша Чёрный, Саша Соколов, Слава Лён — «нет у поэта отчества»). Писали уже о БАШНЕ-на-БОЛОТЕ Юрий Милославский, Генрих Сапгир, Эдуард Лимонов и напишут еще многие. Если не умрут. Как умерли ее завсегдатаи — Пятницкий и Губанов, Казаков и Недгар, Ерофеев и Величанский, Сатуновский и Сопровский, Довлатов и Бродский. Как умерли в 1999 году — еще вчера вечно живые — Холин и Сапгир:
В красе и холе.
Яхонт и сапфир.
Сапгир и Холин. Холин и Сапгир.
Турнепс и брюква.
На обед — буряк.
Победа! — Лианозово.
Барак.
47-ой — реформа.
Голод.
Драк
убийство. Лианозово.
Барак.
Евгений Леонидович. И — брак
С Потаповой. Художницей.
Барак.
Лев. Валентина. Рабин.
И — баран
соседом. Лианозово.
Барак.
А за бараком снова — пьянь и кир.
Сапгир и Римма.
Кира и Сапгир.
Льют керосин. Несут дрова и чушь
Сапгир и Холин.
Кошка и пичуж-
ка-мыш и мышка,
дактиль и Хрущёв.
Поэтика бараков и трущоб.
Патетика барокко нищеты.
Ни доблести. Ни славы. Ни тщеты.
Ни подвигов. Ни сдвигов. Пригов вдруг
Украл строку. Вторую.
Брат и друг.
Товарищ-волк. Но конная милиц-
и я — накажут.
Кража — грех.
Молись.
Концептуал и концептуализм
открыты в Лианозово.
Дались
трудом и потом. Сразу и потом.
В красе и холе. В супе и с котом.
«Теть твою меть!» — петь:
лебедь — щука — рак!
Некрасов Сева — тоже не дурак.
Дить твою рить!
Едрить твою барак.
Сапгир и Холин. Сева не дурак.
Сапгир и Холин — к Богу подались.
А Сева — сбоку.
Концептуалист.
А сзади трусят. И, поджавши хвост,
трусят по следу — боком — на погост
последователи как Пепперштейн.
Как Пригов. И как фигов Рубинштейн.
Сапгир и Холин. Холин и Сапгир.
Татары. Лель. Снегурочка. Мизгирь.
Без тары. Посреди. Весов и гирь.
Их выдумали Холин и Сапгир.
Они и перетянут на весах
Истории. Но — стоя.
На часах.
Стиха.
Стихии. Лета — не Салгир.
НО ЛУЧШИХ ДВОЕ —
ХОЛИН И САПГИР.
7 октября 1999,
Москва — Третий Рим,
последнее лето Второго тысячелетия
Вслед за Холиным и Сапгиром неожиданно умер Виктор Кривулин. В Питере. Моложе их обоих. Моложе меня. Моложе Венедикта Ерофеева, которого очень ценил.
Я знал Кривулина с 1967 года. Когда они с Тамарой Буковской кучковались с еще несколькими поэтами на Малой Садовой. Их так и звали в Питере — «поэты Малой Садовой». Их тогда и после, до самого своего отъезда в США в 1975 году, опекал и особо выделял Константин К. Кузьминский. С Кривулиным, который как поэт рос буквально на глазах, я тесно дружил все 60 — 70 — 80 — 90 годы: страшно сказать — 35 лет! После отъезда Бродского и вынужденного ухода в затворничество Сосноры он был, бесспорно, первым питерским поэтом. Во всяком случае, самым активным. Самым деятельным. Самым работоспособным. И самым талантливым.
Я всегда, приезжая в Питер после 1975 года, звонил ему первым. Он меня тут же тащил куда-то на чтение стихов — жили-то мы в догутенберговском веке. И с ним всегда можно было выпить — безопасно. Он знал меру не только в метре и ритме.
Я был на его похоронах на Смоленском кладбище. Написал ему прощальные стихи — он их никогда не услышит. И не прочтет, хотя стихи на родине снова печатают. Как в Золотом и Серебряном веках. Как отчеканил Величанский, «смерть в том, что Пушкин Блока не прочтет».
задрожит в нем иголка бессмертия
словно сам он — пришпиленный жук
помещенный в Музей милосердия
Академии хищных наук
Виктор Кривулин
Из апорий не рвется Нева.
Чернота обернулась квадратом.
По Вселенной гуляющий атом
Шапку сунул пешком в рукава.
Месяц вышел, поскольку — дыра,
Из тумана с ножом и ножовкой
Подпилить сами ножки на жестком
Ложе именем смертным одра.
Стены пали. Пустыня нова
Простыней с поперечным канатом.
И патолого — рухнул — анатом
На пол, ибо живем — однова.
Коли супрематический гроб
Открывается ныне как книга
С корешком, то могильщик-ханыга
Заготовит еще гардероб.
Верба — дерево. Роза — цветок.
Парадиз называется раем.
И Васильевский невыбираем
Целиком из пучины поток.
Месяц-март на ущербе — и диск
От космической вычищен пыли.
Все, голубчик-Кривулин, приплыли.
Ты намедни.
А Бродский — надысь.
Днесь и я, околпачивать рад
Грамматически выверты сметы,
Ощущаю явление смерти
Как родной и спасительный ряд.
17 марта 2001
БРОНЗОВЫЙ ВЕК русской культуры стал тихо уходить в прошлое. Еще вчера «вчера» — вчерашний день, сегодня уже — прошлый век. ХХ. Двадцатый.
Мы вступили в Третье тысячелетие. Тысячелетие славы БРОНЗОВОГО ВЕКА.
1. ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ
Итак, 1955 год. Проза жизни. Двор МГУ. На Моховой. Венедикт Ерофеев. Мы сидим на лавочке. На плешке.
Ерофеев говорит, что он — «со Скользского полуострова». Спрашиваю, почему филологический? — показывает стихи. Читаю — плохие: никуда не годятся. Понятно — человек с Кольского полуострова. С Луны. Достаю из сумки «Столбцы» Заболоцкого. Переписанные мной от руки. Еще в 1951-м. В Вятке. Экземпляр затрепанный, но — читать можно. Он залпом, тут же на лавочке, прочитывает их целиком — там всего-то 22 стихотворения — и поднимает голову: «Здорово!»
Честно скажу, что тогда я ему не поверил. Не может «валенок с Кольского» сходу оценить раннего Заболоцкого (позднего я тогда в грош не ставил, хотя только «поздний» и был известен в подсовецкой Москве).
Через 15 лет, после «Москвы — Петушков», я, профессиональный уже герменевтик, понял, почему он понял до сих пор непонятные многим «Столбцы»: Ерофеев был прирожденный филолог, знаток и чувствователь языка, всю жизнь читать любивший настолько, что ему некогда было писать. Как справедливо скажет потом Мария Васильевна Розанова: «Собственно, за какие свободы мы боролись тогда? — за право читать!»
Сейчас молодым людям просто не понять, что в 1955 году были запрещены не только Кручёных и Хлебников, Клюев и Гумилёв, Цветаева и Мандельштам, Шершеневич и Мариенгоф, Бунин, Ходасевич, Георгий Иванов, Набоков и все поэты-эмигранты. Но даже — Есенин!
Что уж там говорить о философах Серебряного века. О прозаиках типа Замятина, Пильняка, Бабеля, Артёма Веселого, Добычина, особливо — Андрея Платонова и Михаила Булгакова!
Мы читали только самиздат. С 1971 года — активно тамиздат. Хотя сами уже в 60-х печатались (уехал Тарсис) в «Гранях» и «Посеве». Рискуя головой.
Летом 73-го потому и удалось усадить Ерофеева «снова писать» (он тяжело переживал потерю в 1972 году своего романа «Дмитрий Шостакович»), что ему доставили в «сухую» избушку Царицыно (я и — отдельно — его однокашник Владимир Муравьев) всего Розанова. Избушка была «сухой», потому что пить бездомному Ерофееву было запрещено — нанявшими его писать «Розанова» издателями журнала «ВЕЧЕ». И целое лето Ерофеев не столько писал своего «Розанова» (каких-то 20 страниц), сколько — читал «чужого». То есть, Розанова «в подлиннике» — в тамиздате.
Собственно, патологическую любовь к чтению подчеркивают и — его антологически ориентированные — «Петушки». Откуда я почерпнул много всяких литературных и — нелитературных — сведений. В частности, о Абба Эбане и Моше Даяне: «Нинка из 13-ой комнаты эбан даян? — Даян! Куда она на хуй денется». Много знаний о сути «рабочего энтузиазма»: «Мы им туда соцобязательства раз в месяц, они нам зарплату — два раза в месяц». И — про тайну перманентных раскопок на Моховой — на «плешке»: укладка кабеля. На кабельных работах. Всегда в СССР — кабальных.
Венедикт Ерофеев повинен и в моем окончательном решении (а первым на это меня подбивал покойный профессор химии В. В. Ершов, брат будущей жены, тогда еще — младший научный сотрудник) забрать документы из деканата филологического факультета. И перенести их — на химический. На «естественный» — с «противоестественного». Из подцензурной науки перейти — в свободную. С перерытой Моховой — на экологически чистые Воробьевы горы.
Я поверил тогда Владимиру Владимировичу Ершову, энциклопедически образованному человеку, что в теории стихосложения «знаю все». Поверил, когда увидел на филфаке Венедикта Ерофеева. Не знающего «Столбцов»! Не знакомого с Николаем Ивановичем Харджиевым. Не поверившего мне, что Алексей Кручёных до сих пор жив. Что живет на б. Мясницкой, в здании б. ВХУТЕМАСА. И дружит с Харджиевым.
Мне действительно повезло в жизни. С пятого класса школы со мной — персонально, как с «лучшим поэтом школы» (а поэтов в школе был — один я) — занималась «теорией стихосложения» хорошая учительница литературы Нина Дмитриевна Мелкишева.
В конце 20-х она училась в Питере, и в ее библиотеке хранилась, точнее — перепрятывалась двадцать долгих лет книжка «Столбцов». Под страшным секретом она сначала дала мне прочитать, а потом и — переписать стихи Заболоцкого. Что было тогда смертельно опасно! Еще был жив Сталин. И — Молотов. И — Маленков. С сыном которого я буду учиться потом на геологическом факультете МГУ.
Дело было в пятьдесят первом году, более пятидесяти лет назад. Понятно, что моя первая университетская книга стихов — с какой я веду отсчет «взрослых» стихов, а пишу я стихи с шести лет — называлась «СТОЛБЫ ЗА БОЛОТЦЕМ с колючей проволокой» (1955 — 59). В этой книге и запечатлена первая моя встреча с Венедиктом Ерофеевым. И встреча с моими первыми художниками-друзьями — Наташей Доброхотовой и Володей Пятницким. А потом и с поэтами-квалитистами — Елоховым, Казаковым, Недгаром. В последующих книгах — с Хвостенко и Волохонским (школа «Верпы»), Соснорой и его учениками (лучший из них — Шельвах), Кузьминским и фонетистами, Эрлем и хеленуктами, Кари Унксовой и ее НЛО — Наша Личная Ответственность. И это еще — не все квалитисты. В новых поколениях подросли и Олег Асиновский, и Данила Данилов, и еще многие поэты. Каких я уже плохо знаю.
Но главное, что вся история с моей первой книгой стихов «СТОЛБЫ ЗА БОЛОТЦЕМ…», впервые издаваемой на родине, имеет отношение к пестуемой мною пятьдесят лет подряд новой СТИховой систеМЕ — СТИМЕ: квалитизму.
А Венедикту Ерофееву я написал тогда, в 1955-м, посланье. Он мне потом сказал, что хранил его долго. До тех пор, пока у него КГБ не изъял все рукописи во Владимирском пединституте.
2. ПРОФЕССОР — ТУНЕЯДЕЦ
К 1984 году — уже пять лет как изгнанный родным КГБ из Института литосферы АН СССР профессор и преследуемый как тунеядец (в звании профессора — звание «профессора» дается пожизненно) — я написал монографию (13-ю, по счету КГБ, докторскую диссертацию «на продажу»: «левая» докторская стоила тогда 15 тысяч руб., кандидатская — 6-7 тысяч: соответственно — автомобиль Волга и Жигули). Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук называлась «Древо русского стиха».
Покупателей на диссертацию не нашлось даже в Тбилиси (где ко мне за этим «товаром» обычно стояла очередь). Не нашлось, по двум, как я теперь понимаю, причинам: 1) слишком «антисоветская» диссертация — целиком почти основанная на материалах там — и — сямиздата; 2) слишком радикальная для филологов — по методологической новизне.
Диссертация была выстроена в деятельностно-аксиологическом подходе. Принципиально противостоящем натуралистическому подходу советских филологов (и в науке я был «антисоветчиком»: напомню — с 60-х годов я посещал семинары на философском факультете, где Зиновьев защитил свою знаменитую диссертацию «Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале «Капитала» Карла Маркса)» в 1953 году).
С этого момента и надо отсчитывать начало методологического движения в СССР. Которое в 70-х возглавил Георгий Петрович Щедровицкий. И тащил его до конца жизни в 1994 — великий человек. В 1979 он провел первую Организационно-деятельностную игру в Белой Утке (на Урале). Тем самым запустив победоносное игротехническое движение в СССР (оно сыграло большую роль в «эпоху перестройки» — о чем скажу ниже).
Мне пришлось выпускать монографию «Древо русского стиха» (совершенно бесплатно) в питерском — более чем в Москве — интеллектуально-продвинутом самиздате: монография была напечатана дважды — сначала в «Часах» Бориса Иванова (1984, № 37), затем в «Митином журнале» Дмитрия Волчека (1989, № 7).
Рассматривая «другое» поэтики и «другую поэтику» (на материале «другой поэзии»), я вышел в монографии «Древо русского стиха» на принципы МЕТАПОЭТИКИ. И уже с этой высоты, высоты Большой Рефлексии — в рамках сферы стиха — построил фундаментальное для поэтики понятие СТИховой систеМЫ — СТИМЫ. Кентавр-системы, как говорят методологи. Сперва я не хотел вводить нового термина для понятия — стима, расширив понятие «системы стихосложения — просодии» до деятельностно-текстовой системы. Но после схватки с Лотманом-младшим на первой конференции по творчеству Иосифа Бродского я понял, что традиционным филологам понятия стимы без введения нового термина не освоить. И ввел термин стима.
И вот — только с помощью принципиально новых понятий, таких как: деятельностно-аксиологическая сфера стиха, стихо-творческая деятельность, стиховая система — стима, ДРЕВО и ПОЛЕ русского стиха, мне удалось в монографии «Древо русского стиха» — я надеюсь — «понятно» рассказать о квалитизме и квалитистах, о СМОГЕ и смогистах, о «Конкрете» и конкретистах. Это школы стиха, с какими я лично был связан всю жизнь. А, кроме того, рассказать о других — «параллельных» школах. И еще много о чем — в сфере русского стиха Бронзового века.
3. КВАЛИТИЗМ
Итак, с осени 1955-го в высотном здании Московского университета (на б. Воробьевых горах — естественные факультеты: химический, геологический, биолого-почвенный, физический, механико-математический) мы начали формировать цех поэтов-квалитистов. Формировать в основном на «отбросах» только что созданного — после XX съезда КПСС — журнала «Юность»: литобъединение в высотном здании МГУ «вел» тогда зав. отделом «Юности» Николай Старшинов. — Теперь широко известный как «матершинник»: опубликовал — спустя 40 лет «собирания в стол» — неподцензурные советские частушки. С трехэтажным и выше матом!
Лидерами в его литобъединении были: Владимир Костров (химфак), Олег Дмитриев (журфак), Дмитрий Сухарев (псевдоним нынешнего академика Сахарова — биофак). И — другие, благополучные в будущем, совецкие поэты. Но иногда туда заглядывала Наталья Горбаневская — единственная, кого я держал в уме. За поэта.
На какое-то сверхважное заседание старшиновского литобъединения году в 1959 был приглашен «сам Боков». В качестве мэтра. Все присутствовавшие поэты — вослед Бокову, никак не могущему (из-за склероза) прочитать свои «20 тапочек висели на заборе общежитья» — читали по кругу стихи собственного сочинения. С моей точки зрения — плохие. Лишь Горбаневская прочитала какие-то «нетакие» стихи (цитирую на память):
Хоронили управдома,
Провожать пришли три дома
Говорили в общем так:
Вот живешь и сам не знаешь,
Где найдешь, где потеряешь,
О какой проклятый сук
Обломаешь ты каблук, —
под громкие аплодисменты и веселый комментарий самого Бокова. Я прочитал свое постобэриутское, ерническое стихотворение «В тени возвышенного зданья» — при гробовом молчании зала. Молчании Бокова и Старшинова. Молчании поэтов «совецкой школы».
Это был мой скандальный дебют в поэзии. И наше — квалитистов — боевое крещение. Это была манифестация квалитизма как цеха поэтов. Сразу после этого пришлось писать текст МАНИФЕСТА КВАЛИТИЗМА. Который конституировал КВАЛИТИЗМ как новую литературную школу. И новое литературное направление. Больше с советскими поэтами мы, квалитисты, никогда не встречались. Наши пути разошлись. Мы выбирали свободу.
К тому времени мы, несколько «красивых, 22-летних» поэтов высотно-университетской тусовки, как сказали бы ныне, уже вполне самоопределились как квалитисты. Под квалитизмом мы понимали «стихи высокого качества». Квалитизм был для нас тогда синонимом супрематизма: кроме меня, в цех входили — Олег Елохов, Анатолий Винник, Володя Казаков, позднее — Юра Виленский (будущий Георгий Недгар), приехавший из Питера Алексей Хвостенко (с Анри Волохонским — в уме), их ученица Кари Унксова. К 1965 году подросли смогисты: Губанов, ранний Алейников. И — другие поэты, мелькнувшие как фантомы («писать в стол» вообще трудно, а «писать в стол» двадцать лет — героизм).
По просьбе квалитистов первого призыва я и сочинил тогда, в 1959 году МАНИФЕСТ КВАЛИТИЗМА. Который — после трехдневных обсуждений-дебатов — мы приняли за основу своего метода — языка — стиля.
В конце 50-х самиздат находился еще в зачаточном состоянии, и я опубликовал МАНИФЕСТ КВАЛИТИЗМА только через десять лет, в 1969 году. Уже во времена СМОГА, вместе с Губановым. В первом номере самиздатского «Квалитизма» (№ 1, 1969).
4. СУТЬ КВАЛИТИЗМА КАК СТИМЫ
Свое отличие от поэтов других школ (групп, клубов и т.п.) — мы, квалитисты, видели предельно ясно. А в Москве к началу 60-х годов были известны уже: «лианозовская» школа (барачной поэзии), чертковская (Леонида Черткова как поэта посадили уже в 1957 году — это были не «застойные», как врут коммунисты, а — посадочные годы), АМАВЪ (на Маяковке), Южинского переулка (Мамлеев, Каплан, Козлов, Ковенацкий), сосноровская и уфляндовская в Питере.
Мы, квалитисты, уже хорошо понимали, что традиционный (даже — в акмеистическом варианте) стих — бесперспективен. Мы отталкивались от обэриутов, прежде всего, от «Столбцов» Заболоцкого. Мы понимали, что обэриуты только наметили и недозавершили многие линии развития русского стиха. Их расстреляли большевики. Не дали завершить гениально начатое.
Мы, квалитисты, работали в стихе: «правильном по стиховой форме, неправильном — по (языковому) материалу». Понятно, что «содержание» стиха у нас должно было рождаться тоже — неправильным.
Мы быстро поняли, что «содержательная необычность» наших стихов была основана или на синтактических нарушениях материала стихов — языка (чаще), или на семантических «сдвигах» (реже). Потом мы выработали еще много новых приемов (особого рода контаминации, новые оксюмороны, игра коннотатами, «игра словами» — и не только омонимами, неправильные графемы и т.п. — вплоть до невербального стиха). Мы придумали много новых приемов, которые до сих пор являются «тайной цеха» квалитистов. «Искусство как прием», — известная идея Опояза.
Конечно, в Серебряном веке существовали — до нас — некие прототипы наших «приемов квалитизма»: и у футуристов («заумь»), и их последователей, и у имажинистов, прежде всего, у Вадима Шершеневича, и у Туфанова, и у «Обэриу». Но все они задевали нас лишь «по касательной». Ибо «генеральная линия» и у футуристов, и у обэриутов была — принципиально иной. Мы хотели радикально перестроить русский стих, но уже не на уровне слова (как у потерпевших поражение — так нам казалось тогда — футуристов), а на уровне целостного высказывания (особого типа словосочетания). Чтобы — через нарушения грамматики и логики языка — прорваться в стихе к «сути мифа». И — мiра. Мiра — и — земли.
Позже я нашел схожие идеи у Мартина Хайдеггера и перевел с немецкого цитату, точно формулирующую наши цели в тогдашнем нашем понимании-непонимании своего же собственного — нового стихосложения:
«Высвобождение языка из-под грамматики на простор какой-то более исходной сущностной структуры перепоручено мысли и поэзии». И далее: «Чтобы научиться чистому осмыслению, а значит вместе с тем и осуществлению вышеназванного существа мысли, мы должны сначала избавиться от ее технического истолкования. Начала последнего уходят в глубь веков, вплоть до Платона и Аристотеля» (1947, с. 193, курсив мой, — С. Лён). — Этими словами Мартина Хайдеггера можно достаточно точно схватить begreifen — целевую установку — квалитизма. Но не охватить целиком квалитизм как новую стиховую систему — стиму. Порожденную Бронзовым веком.
Вводя понятие стимы в монографии «Древо русского стиха», я хотел перевести мировое стиховедение (как научный предмет) из работы в натуралистическом подходе — на работу в деятельностно-аксиологическом подходе. Стима как понятие включает в себя не только всю материал-формо-содержательную целостность стиха, его бытование как текста в речи и в языке, весь корпус текстов. Но и всю деятельность поэта, порождающего текст в этой системе стихосложения, и рефлексию поэта над своей творческой деятельностью и — одновременно — над своим текстом. Рефлексию над стимой. И — рефлексию над рефлексией. Вторую рефлексию.
В дальнейшем понятие второй рефлексии сыграет главную роль в разработке — вместе с Венедиктом Ерофеевым — метастилистики Ре-Цептуализма. Который охватит уже все виды и жанры искусства. К метастилистике Ре-Цептуализма примкнут не только многие поэты, но и художники и режиссеры. И как художественное направление Ре-Цептуализм будет претендовать на центральное место в искусстве Третьего тысячелетия.
5. КВАЛИТИСТЫ
Я помню, что поэта Владимира Казакова привел ко мне в декабре 1957 года (в зону «Б» общежития МГУ) художник Владимир Пятницкий. Стихи Казакова нам сразу понравились — «свои». Он тоже сразу понял, что попал к «своим».
Но Казаков был тогда исключен из института, и ему грозила армия — осенний набор. Поэтому он «завербовался на Север» — понятие, какое ныне опять-таки непонятно молодым людям. А объяснять — долго, да и лень: реалии прошловековой советской жизни. Неинтересно.
Вернулся Владимир Казаков в Москву только в 1962 году. Когда среди квалитистов буйствовал уже совсем юный Юра Виленский (Георгий Недгар — будет впоследствии его литературным именем). В Переделкине у Лили Брик я познакомился с питерским поэтом Виктором Соснорой. Потом в Москву приехал Алексей Хвостенко (а за ним стоял Анри Волохонский и вся школа ВЕРПЫ). А за ВЕРПОЙ шли, считая, что — идут параллельно, хеленукты Владимира Эрля. Кари Унксова, тоже молившаяся на ВЕРПУ, сколотила, в конце концов, НЛО — свою группу «Наша Личная Ответственность» молодых поэтов и бардов. А надзирал надо всеми квалитистами в Питере постфутурист Константин Константинович Кузьминский. Имевший свою школу поэтов-фонетистов. Так постепенно, но основательно складывался московско-питерский круг поэтов-квалитистов.
После смерти Николая Заболоцкого (1958) мы, квалитисты, решили теснее сплотиться вокруг Алексея Кручёных — классика Серебряного века. Напрочь забытого ССП — Союзом советских писателей (при ЦК КПСС). Мы читали ему свои стихи. Мы водили его по мастерским своих друзей-художников. Мы покупали у великого футуриста антикварные книжки стихов 10 — 20 годов и его самиздат 60-х. Чуть больше я скажу о нем ниже.
Хоронили Алексея Кручёных мы в 1968 году. На кладбище Крематория Донского монастыря. С нами был уже Лимонов — «со своей женою толстой». Год назад десантировавшийся из Харькова. Не-квалитист. Он первым из поэтов приспособил «графоманство» в качестве способа-приема сочинения «плохих стихов». За ним пошли Пригов и другие поэты-эпигоны.
6. НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ
Увидеть «живого» Заболоцкого было мечтой моей жизни. С 1951 года. Когда я от руки переписал его «Столбцы». 29-го года издания. 22 стихотворения. И выучил наизусть:
Глаза упали точно гири,
бокал разбили — вышла ночь,
и жирные автомобили,
схватив под мышки Пикадилли,
легко откатывали прочь.
Гениально! Но есть и лучше — такой, к примеру, оксюморон:
…и куковали соловьи
верхом на веточке. Казалось,
они испытывали жалость,
как неспособные к любви.
Какая жалость, что в итоговом Своде Николай Алексеевич заменил первый стих на: И тосковали соловьи. Нельзя поэту, если он не погиб в 37 лет, править ранние стихи. Для меня это — железное правило. В глубоком детстве я прочитал у Якова Полонского слова, что только в юности он мог написать:
От зари роскошный холод
Проникает в сад.
Позже, говорит уже многоопытный Полонский, я бы не решился на столь смелый эпитет роскошный. И приводит целый набор тривиальных синонимов, которые он бы теперь поставил на место роскошного.
Поступив в МГУ, я отслеживал в печати каждый шаг Заболоцкого. Слава Богу, с 56-го еще не слава, но известность его росла. Не по дням, а по часам — Кремлевской башни. За кремлевской стеной началась — пока еще очень робкая — «борьба с культом личности».
Заболоцкого стали печатать. «Новый мир», № 6. «Юность», № 10. Два выпуска альманаха «Литературная Москва». У кого-то из квалитистов мне удалось выменять — не помню, на что? — совписовский сборник 1948 года.
Конечно, меня огорчала тогда его «смена вех» — по выходе из лагеря. Полагерные стихи его стали «обычными» — я сравнивать их не мог со «Столбцами»! Четырехстопный ямб мне надоел, — справедливо гневался еще Пушкин, — мальчикам в забаву и т.д. Но выскочить из «уюта каюты» четырехстопного ямба бедный Пушкин не мог — по законам с в о е г о времени. Сколько бы ни долдонили в 1937 году о его «современности» ненавистные Мандельштаму пушкиноведы. И футуристы сделали Пушкину честь, сбросив его с парохода современности. Ибо в Искустве, в том числе в Искусстве изящной словесности есть два фундаментальных закона, открытых русским авангардом ХХ века:
— развитие искусства непреложно;
— развитие искусства необратимо.
Хотя такие стихи Заболоцкого из поздних, как «Читайте, деревья, стихи Гезиода» или «Уступи мне, скворец, уголок», не в меру сентиментальное, я опять учил наизусть. Больше того, учил потом им своего пятилетнего сына.
Но смириться с этим «понижением уровня письма» Заболоцкого я не мог. Тем более что мое представление об этом «упадке качества стиха» всегда разделял мой друг — блестящий поэт Виктор Соснора:
«Любовью дорожить умейте!
Быть знаменитым некрасиво!
Не позволяй душе лениться!
Кто учит! Кто этот поэт! Нет, их три: 1 строка — Щипачев, 2 — нео-Пастернак, 3 — нео-Заболоцкий. Как целомудренно, скромно» (24 августа 1994).
Я понимал: и Николай Алексеевич отдает себе отчет, что он «наступает на горло собственной песне». Но я понимал и то, что он насмерть запуган: он вживую отсидел восемь лет тюрьмы — лагерей — ссылки (март 1938 — апрель 1946, когда он получил разрешение жить в Москве «под агентурным наблюдением» госбезопасности — самых опасных для человека в СССР «органов»: новояз). Он чудом выжил. Он чудом не выжил из ума — с 23 марта по начало апреля 1938 года он уже сидел в тюремной психушке. Он мог в этом же 1946 году — году травли Ахматовой и Зощенко — мгновенно загреметь (красивый совецкий новояз!).
Я понимал безвыходность его положения. Эмпирически доказано, что продолжать писать «Столбцы» ему строго запрещено. За них точно дают срок (новояз). Но он был обязан писать стихи. Чтобы не загреметь, доказывая свою полезность совецкой Родине. И — в то же время — он не мог писать, ибо одной стихотворной ошибкой он снова себя сажал (новояз). А что есть ошибка — знали только литературные стукачи.
Вроде бы я все это понимал. Но глупый, я рвался к Заболоцкому объяснить, что новые его стихи «много хуже». Я настойчиво искал к нему пути. Ибо очень хотел показать свои новые, уже университетские стихи: «Аз-буки-веди», «Болт забив на здравый смысл» и дальше, по хронологии.
Начинающий поэт Андрей Сергеев, из конкурирующей с квалитистами группы Лёни Черткова — Стаса Красовицкого, дал мне адрес Заболоцкого на Беговой (дом 1-а, корпус 29, кв. 1 — ныне дом снесен). И предложил послать Заболоцкому стихи по почте.
К великой моей радости, «мэтр» ответил. И пригласил к себе. На Беговую. Со стихами.
Не выдержав радости, я помахал листочком с ответом перед носом Андрея Сергеева. «Дурак, — сказал он. — Спрячь и никому не показывай. Завидовать будут. Да еще, неровен час, стукнут». Только в следующем году, после посадки Лёни Черткова, я понял, насколько был прав Сергеев. В инязе, где он учился, спецрежим был много круче. Чем у нас, в университете.
Я пришел к Заболоцкому домой в первый раз весной 1956 года. Тем же Андреем Сергеевым я был предупрежден, что говорить о «Столбцах» с Николаем Алексеевичем нельзя — тема эта запретная: «Он слишком хорошо помнит свои лагерные годы. И помнит, за что его посадили».
Я принес с собой бутылку «Телиани». Что было отчаянной смелостью с моей стороны. Но Заболоцкого бутылка не смутила — хотя он, тряхнув ею передо мной, и попрекнул: «Мал еще». Хотя мне шел уже 19-й год, и у себя, в общежитии МГУ, мы с Володей Пятницким уже попивали сухое винцо.
«О стихах этих ничего говорить не буду, — помахав присланными по почте моими стихами, сказал, когда мы с ним состукнули бокалы. — Сам большой. Только не верь, что все кончилось». На этом «все» он сделал смысловой нажим: сразу стало ясно, о чем он говорит. И — не говорит.
К великому моему удивлению, Николай Алексеевич достал бутылку «Мукузани». Когда мы выпили первую («Мой грузинский друг Гия Маргвелашвили говорит, что это одно и то же: Телиани — Мукузани. Теперь из одной бочки наливают»), тут же принялись за вторую. Я, тогда мастер спорта по фигурным конькам, посмотрел на него и вижу — удар держит. И достал из сумки третью — опять «Телиани»: я предусмотрительно захватил с собой две бутылки, но ставить сразу обе постеснялся. Теперь — другое дело!
Николай Алексеевич встал и молча поставил на проигрыватель пластинку: «Болеро» Равеля. Гордо посмотрел на меня, когда музыка зазвучала. Но я хорошо знал «Болеро», и знал уже от Андрея Сергеева, что Заболоцкий от Равеля без ума. На сезон 1955 — 56 годов для своей программы в произвольном катании я выбрал именно музыку «Болеро». И сказал Николаю Алексеевичу о своих коньках и о своем выборе музыки на сезон. «Молодец, — ответил Заболоцкий. — Значит, есть вкус. Для поэта вкус — главное».
Я вдруг осмелел и спросил, когда он узнал о гибели друзей-обэриутов? «Еще в лагере», — ответил он, помрачнев. И полез куда-то копаться в рукописях. Быстро нашел и молча протянул мне листок машинописи — «Прощание с друзьями». Я читал про себя, глотая пьяные слезы:
Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И все ли вы забыли?
Теперь вам братья — корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.
Теперь вам сестры — цветики гвоздик,
Соски сирени, щепочки, цыплята…
И уж не в силах вспомнить ваш язык
Там наверху оставленного брата.
Тогда у меня была лошадиная память. И запомнить шесть строф с первого чтения для меня было — как нечего делать. Но я все же перечитал про себя стихи по второму разу, уже именно для того, чтобы затвердить намертво.
Я молча вернул Заболоцкому листок. И сразу, сделав вид, что заторопился на тренировку, — откланялся.
Это первое посещение «живого классика», со «Столбцами» которого я уже семь лет носился как с торбой писаной, глубоко потрясло меня. Я даже полюбил его поздние стихи. А «Можжевеловый куст» навязал — еще через девять лет, в 1965-м — смогистам. Как образец совершенного стихотворения.
Еще пару раз Николай Алексеевич приглашал меня с моими новыми стихами к себе — он ничего мне не говорил вслух. Но я понимал по выражению его лица, когда он читал мои стихи с листа, что он их одобряет. «Проще надо писать, — лишь единожды заговорил он. — Вон и Пастернак опростился. Как Лев Толстой», — не понятно было, хвалит он поздние стихи Пастернака или подтрунивает над ними. Женские стихи Ахматовой точно были предметом его веселых ухмылок. Ахматова, как я слышал, тоже недолюбливала Заболоцкого.
Как-то, в начале ноября 1956-го, я принес Николаю Алексеевичу стихотворение Пастернака «Мело, мело по всей земле…». О «Докторе Живаго» тогда еще никто не знал. И о «стихах из романа» — под таким именем эти гениальные стихи публиковались потом при совецкой власти. Когда о печатании самого романа и речи не могло быть. Моя однокашница по университету Наташа Ильинская — через своего родственника — получила пастернаковские стихи прямо от Андрея Донатовича Синявского: Синявский тогда писал предисловие к тому Пастернака в Большой серии «Библиотеки поэта».
Заболоцкий долго перечитывал стихи. Потом вернул мне листок. С какой-то тихой грустью в глазах.
Я к тому времени знал о Заболоцком почти все. Кроме его самого, я знал в этих домах на Беговой профессора Петрушевского с геологического факультета МГУ. Я у него учился. До того, как ответил мне на письмо сам Николай Алексеевич, был момент, когда я хотел использовать соседство и дружбу Петрушевского с Заболоцким — для своего знакомства с поэтом.
Поэтому я уже знал, что добрейшая и преданнейшая жена Заболоцкого, которая стоически ждала его освобождения из лагеря и бросилась к нему — с двумя детьми на руках — в ссылку, в Кулунду, теперь ушла к Василию Гросману. И знал, что Николай Алексеевич страшно переживает уход. А тут еще я со стихами этого безумца нео-Пастернака «Мело, мело по всей земле…»!
Я уходил от Заболоцкого и казнил себя. Но запомнил, что стихи Пастернака его поразили. Он куда-то уехал. С молодой женщиной, как говорили в ЦДЛ — Центральном доме литераторов. Поэтому, когда много позже, уже после смерти поэта, вышел весь цикл стихов «Последняя любовь» с «Можжевеловым кустом», я читал их со знанием дела. А только так стихи становятся «понятными».
В мае 1957 года я купил только что вышедший сборник «Стихотворений» Заболоцкого. Буквально изучил их. Многие стихи мне были по душе. И все-таки сердце мое навсегда осталось со «Столбцами»: городскими и смешанными, правленными автором или в своем первозданном виде, в том или угодно каком составе и порядке их расположения в книге. Теперь хорошо известно, как мучительно перекраивал и, высоко ценя их, возился со «Столбцами» Заболоцкий до конца жизни: и в 1948, и в 1952, и в 1956, и в 1957 годах, стараясь приспособить их к сиюминутным установкам печатания. Как готовил корпус текстов для Италии, куда его чудом выпустили в 1957 году!
Когда в 2003 году мы с Ольгой Победовой-Рукавишниковой начали работать над Памятником к 100-летию великого русского поэта, концепцию — актуального ныне «неантропоморфного» — Памятника я нашел сразу: 22 вертикально стоящих на бронзовой карте ГУЛага СТОЛБА. СТОЛБЦА из 22-х стихотворений Николая Заболоцкого.
Умер Николай Алексеевич неожиданно. 14 октября 1958 года. Скончался в одночасье. Умер от сердечного приступа. Вдруг.
Хоронили мы его на Новодевичьем кладбище — великая милость со стороны ССП. Но там ли надо лежать великому поэту? Я писал позже:
О, кладбище чиновничье, куда
Ни кинь — везде такая лабуда,
Что перед ним погост и лебеда —
Беда! —
но наши кости неподкупны…
Мои друзья, неразлучные тогда скульпторы Лемпорт, Сидур, Силис (подписывались — ЛЕСС), получили заказ на могильный памятник. Я и теперь считаю, что справились они с работой хорошо. Они высекли на камне почти абстрактный рисунок (для Новодевичьего! запрещено!), который как бы изображал подбитую птицу. Ибо чиновники из ССП помнили еще стихи Заболоцкого 1948 года:
А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно.
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.
7. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Антология русского стиха Бронзового века, как и антология — Серебряного (Ежова — Шамурина), — базируется на понятии «школы (цеха) поэтов», или «стиховой школы».
Понятие стиховой школы выстроить очень непросто. Ибо эмпирически мы имеем очень широкий спектр организации и бытования таких школ: и в Бронзовом, и в Серебряном веках, и даже в Золотом. Естественная вроде бы норма: одна школа — одна стилистика — встречается нечасто. Чаще — в одной школе сосуществуют поэты, работающие в разных стилистиках. Таковы, например, Кручёных и Маяковский — у футуристов, Заболоцкий и Хармс — у обэриутов, и т.п. Пример из Бронзового века: лианозовская школа, начав под руководством Евгения Леонидовича Кропивницкого в 50 — 60-х годах с «барачной поэзии», в 70 — 90-х «распалась» на несколько стилистических направлений. А ее лидер Генрих Сапгир «придумывал» новый прием — метод — стилистику для каждой своей новой книги стихов.
Или по-другому: несколько школ могут работать в некой — общей для этих школ — стилистике. Примеры: по нескольку школ — внутри символизма, футуризма и т.п. Точно так же — в стилистике квалитизма трудятся до сих пор (2004 год) несколько школ: Сосноры, Лёна, ВЕРПЫ (Хвостенко — Волохонского), Кузьминского, хеленуктов, некоторых молодых поэтов ВАВИЛОНА.
Поэтому понятие школы для поэтики (науке о стихе), как и для эстетики в целом, является очень важным. Тем более что «реальные школы» в социокультурной истории (обыденным языком говоря — «в жизни») устроены очень по-разному. Имея очень большое число характеристик. Дать более или менее адекватное описание школы стиха можно только в системно-деятельностном подходе. Школа есть тоже стиховая система — стима — определенного иерархического уровня. Вневременное ядро которой составляет корпус текстов поэтов школы.
Я бы привел пример трех различных школ стиха Бронзового века: квалитистов — смогистов — конкретистов. Про которые — в силу многодесятилетнего личного участия в их «строительстве» — могу рассказать все: от творческой истории и теории этих школ — до стилистической характеристики текстов стиха, от личностных отношений между поэтами школы — до стратегии поведения школы в литературном процессе. «В искусство надо входить бандой», — существует неписаное правило. «История мирового искусства наполнена стилями, а не личностями», — повторяет Илья Кабаков общеизвестную истину.
Любой художник связан — явно или неявно — с какой-то школой. «Кустарь-одиночка» в искусстве не выживает — он не попадает в Музей.
Все художники работают по прототипам. Только одни — работают осмысленно, рефлектируя и понимая особенности своей работы по нечужим прототипам. Что особенно важно знать — в эпоху постмодернизма. Другие художники (тупо твердя, «я сам по себе») этого не понимают. И резко проигрывают рефлектирующим — пример того же Ильи Кабакова, бесспорного лидера художников Бронзового века, жестко доказывает эту прописную истину.
Но каждая школа стиха строит себя, самоопределяется и манифестирует себя по-разному. Квалитисты, смогисты, рецептуалисты писали (и не раз!) свои манифесты, конкретисты — нет. Смогисты четверть века держались «кучно», квалитисты жили и работали вразброд.
Группа «Конкрет», название которой Лимонов придумал (для шемякинского АПОЛЛОНА-77), когда группа уже распалась, а Лимонов вообще бросил писать стихи, — просуществовала всего три года. Некрасов «Конкрет» не признает. Сапгир говорит, пусть такая группа — будет. Зато поэты группы «Конкрет» трижды публиковали — что было в принципе невозможно в «догутенберговскую эру» — свою антологию. Да еще сразу, непосредственно в процессе стихосложения и своего существования как группы. Да еще и в параллельных текстах: на русском и немецком языках. В «Конкрете» был строго фиксированный состав: шесть поэтов (пять на фотоснимке), но сама группа была — мистификацией.
В СМОГ, куда поначалу Батшев принимал людей строго по списку и фиксировал «членство» каждого принятого за поэта, за четверть века «входили и выходили» потом десятки поэтов. Но твердое «ядро» СМОГа все эти годы составляли: Губанов, Алена Басилова, Кублановский, Пахомов, Батшев, Величанский, Лён, Сергиенко (Алейников «выпал в осадок» уже к 1967 году).
В 1974 году в БАШНЮ-на-БОЛОТЕ поднялись поэты «Московского времени»: Казинцев, Сопровский с женой-поэтессой Полетаевой, Гандлевский, Кенжеев (их лидер Цветков к тому времени уже эмигрировал в Штаты). Молодых поэтов очень нелюбезно, помню, при первом их чтении в БАШНЕ встретил Венедикт Ерофеев: «Ну, почему так плохо! Почему — так бездарно!».
Стихи были «нормальные», традиционные. Конечно, после «авангарда» квалитистов и конкретистов — в глазах Ерофеева, залитых «Слезой комсомолки», — они выглядели бледно. Но молодых поэтов, выступающих бандой — что, «по культурной норме», правильно, надо было тогда, в эпоху «охоты на ведьм», во что бы то ни стало поддержать, и я встал горою на их защиту. Я сказал: «Веничка, ты неправ».
На пятнадцать лет — до эмиграции Бахыта Кенжеева (1982) и гибели Саши Сопровского (1990) — поэты «Московского времени» поселились в БАШНЕ-на-БОЛОТЕ. Были у них всегда еще две-три «явочных квартиры», одно время они даже снимали дачу в Переделкино. Но со смогистами в БАШНЕ они с 1974 года «слились» и дружно пили. Строго оберегая, однако, свою «стилистическую независимость» поэтов-традиционалистов. Кублановский и Сергиенко печатали свои, тоже традиционные, стихи в их самиздатских сборниках. Мы с Губановым — не печатались там никогда, хотя у меня «мосвременщики» всегда вызывали симпатию. И я первым напечатал их «всей бандой» в тамиздате — в NRL (№ 2-3, 1979 — 80, с. 1-29). Громко назвав скромный корпус текстов «Антологией поэтов Московского времени».
Но главной характеристикой любой школы стиха служит всегда — стилистическая основа. Хотя ныне эстетика уверенно перешла от моностилистического подхода к истории искусства к полисредствиальному, включающему — помимо стилистики, учет языка, метода, семиотики, операциональной системы, интертекста, вкуса, степени рефлектируемости и другие мыследеятельностные средства работы художника, — стилистическая составляющая сути школы стиха остается важнейшей. И здесь тоже резко различаются школы стиха Бронзового века: наряду с бытованием «моностилистических школ», существуют и «школы-конгломераты».
К первому типу относятся школы стилистического единства: квалитизма, разрабатывающая новый стиль алогистического стиха, «Конкрет» со своим концептуальным стихом и «Московское время», работающая в традиционном стихе.
Ко второму типу относится СМОГ, в рамках «конгломерата» которого явно выделяются три разных стилистики: квалитизма (Лён, Губанов, ранний Алейников), традиционная (Кублановский, Сергиенко, поздний Алейников) и «лаконичный стиль» Величанского.
Над иерархическим уровнем стиховой системы — стимы — конкретной школы существует стима меташколы. В Бронзовом веке таких меташкол всего четыре: стима традиционного стиха — стима квалитизма — стима концепта — стима верлибра (Бурич настаивал на имени — «русский свободный стих»).
Тексты этих стим (стиховых систем) имеют в материал-формо-содержательном пространстве стиха четкие отличия. Детально описанные в моей монографии «Древо русского стиха» (М., 1984). Корпус текстов каждой из четырех стим имеет четкую ядерную и «размытые» маргинальные зоны (переходные в смежную стиму).
Вот на этой базе иерархии: меташкол — школ — отдельных поэтов с порожденными ими текстами — конструируется особая План-карта. По осям отложены возрастающие от 0 до 1: норма (N) стиховой формы и норма (N) материала (языка). Эта план-карта носит имя — ПОЛЕ РУССКОГО СТИХА Бронзового века:
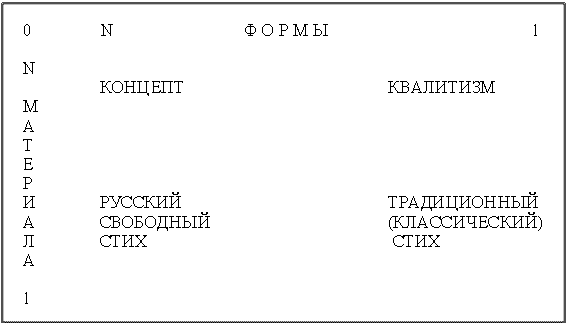
Кроме того, школы стиха на хронологической сетке Бронзового века (1955 — 2003 (пока) годы) встроены в траекторно-генетическую схему развития. Эта схема развития носит название ДРЕВА РУССКОГО СТИХА Бронзового века. Такие же схемы построены для стиха Золотого и Серебряного веков.
На основе содержания ПОЛЯ РУССКОГО СТИХА и ДРЕВА РУССКОГО СТИХА будет построена новая Антология русского стиха Бронзового века. Первая — АНТОЛОГИЯ САМИЗДАТА (1998) — была издана Сапгиром тоже на базе моего ДРЕВА РУССКОГО СТИХА. Но, выдав Сапгиру общую схему, я уехал работать в США и не смог отслеживать весь процесс работы над монографией. Сапгир, к несчастью, подключил к работе молодых неопытных критиков и поэтов, которые ее окончательно запороли. Перепутав поэтов и школы, хронологию и стилистики, стихи и нестихи. Не справившись даже с грамотной организацией справочного аппарата.
Завершая — через полвека после написания книги «СТОЛБЫ ЗА БОЛОТЦЕМ с колючей проволокой» — свое, увы, многословное Предисловие (2004), привожу в первозданном виде:
МАНИФЕСТ КВАЛИТИЗМА
1. «Дыр — бул — щыл», — это итоговый прорыв гениев Серебряного века: это НУЛЬ-СТИХА. Нуль-языка как материала. Нуль-метра как формы. Нуль содержательного значения и смысла. Но это — Великий Гимн бессмертному движению стиха.
2. Когда Кручёных с Малевичем достигли «самого низа» — НУЛЯ — и думали, что это — КОНЕЦ, то снизу постучали: Василиск Гнедов. Кулаком «Поэмы конца». Но это были уже НЕ СТИХИ, это был поэтический ЖЕСТ. «Так умирал Великий Сиг». Так завершился Серебряный век.
3. Мы открываем — Бронзовый. Мы, квалитисты, при-званы — через десятилетия концлагерей, немотствования, догутенберговщины — возродить качественно совершенный русский стих в качественно новом языке.
4. Поэзия ничего не от-ражает. Поэзия — по-ражает. Она вы-ражает СУТЬ: трагическую подоплеку рас-пахнутого поэтом МИРА. И — за-пахивающей его ЗЕМЛИ. На какой ОНИ — поэт и его мир — СТОЯТ!
5. Высвобождение языка из-под спуда логики и грамматики — наша первая цель. Цель — на-помнить о родстве СТИХА И СТИХИИ. Слово во вдохновенном стихе должно стать НЕ-ВОЛЬНЫМ — ПРО-ИЗВОЛЬНЫМ — ВОЛЬНЫМ.
6. Следует прорваться к ПРАЯЗЫКУ ветхого Адама. Какой первым — со вдохновением и смыслом — дарил ВЕЩАМ — ИМЕНА.
7. Через слово — к сущности. От сущности — к Богу!
По по-ручению первых квалитистов
Слава Лён, 13 декабря 1959,
Московский университет
Слава Лён — поэт, прозаик, филолог, ученый, культуртрегер. Родился в 1937 году во Владимире. Окончил с отличием МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1966 г. защитил кандидатскую, в 1972 — первую докторскую диссертацию (по экологии), в 1979 — вторую (в Австрии, по философии деятельности). В 1980-2000-х гг. ему присвоили звание действительного члена/члена-корреспондента восемь европейских и американских академий наук и искусств. Автор концепции «Бронзовый век русской культуры (1953-1987)».