Скверные истории
Опубликовано в журнале Дети Ра, номер 2, 2006
Сквер (он же и площадь) имени Кирова — самый центр.
Популярный пуп города.
В положенный период функционирует фонтан.
Также функционируют скамейки для сидячего отдыха трудящихся.
Лежать строго запрещается.
Также запрещается: сорить, ходить по газонам, выводить собак, разжигать огонь, купаться в бассейне фонтана. Предусмотрены штрафы.
Чистая вода в бетонной чаше подпрыгивает беззаботно и тем самым располагает к задушевному обмену мнениями на фоне фонтана.
При этом, фон — скорее не вид, но звук.
Пустая стеклотара культурно складируется в чугунные урны.
Питейные люди голосуют вежливо, по очереди.
Пьют в меру. Но иногда и не очень чтобы в меру.
Имя товарища Кирова тоже кое к чему располагает, плавно перетекая в имя существительное, в имя прилагательное и в энергичный глагол.
Да ведь не за ради же кирять сюда народ стекается!
Не за ради.
И что из этого радия вытекает?
Все ж таки культурная коммуникация.
Комбинация из трех
…Да вы уж лучше спросите меня: что это такое вокруг творится и на чем оно держится? Вы спросите меня, не стесняйтесь, и я вам отвечу так.
Луна держится на трех котах. Первый — босяк мартовский. Второй — серо-стальной кот в сапогах, коверкот бессонный. Третий — булгаковский Бегемот в галстуке и с биноклем в желтом глазу. Бегемот страждет служить человечеству в качестве трамвайного кондуктора и никогда не наливает дамам водки, только чистый спирт. Бегемот не отрывается от почвы, но подчас рассуждает с лунным-таки акцентом: «Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное. Больше того, я вполне уверен в конечной победе».
Земля держится на трех китах. Первый кит — вечная молодость человечества, его перманентная, из поколения в поколение репетируемая сказка. Второй кит — «Музыкальное приношение» Баха. Этот шестиголосный ричеркар, Бах знает откуда изысканный, стал предтечей фуги и основан, как известно любому школьнику, на непрерывном, контрапунктически-разнообразном и изощренном развитии одной темы со множеством вариаций. Третий кит — пора. Как хотите, так и понимайте: пора прощания, пора ожидания, пора тополиного пуха, пора… Диктую по буквам: Правда, Откровенность, Разум, Активность…
Россия держится на трех хитах. «Боже, царя храни» — это раз. «Вставай, проклятьем заклейменный» — это два. На третье — «И Родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком». Закуска обыкновенная: кухлянка. Это супчик такой, любимая еда якутов. Ее придумал декабрист Кюхельбекер во время сибирской ссылки. Ага. Так, по крайней мере, предполагал живописец Н. Царствие ему небесное. Славный был мужик, хоть и неприметный. Самым ярким фактом его жизни была смерть: от водки сгорел, бедняга. Накануне, как говорят, все собирался нарвать букетик оранжевых огоньков-жарков из газовой горелки, но там огоньков-жарков не оказалось, там были только васильки и голубые гвоздики…
Однажды, в Светлое Воскресенье…
Источник, ближайший к фонтану, однажды вступил в общий разговор об экзистенциализме:
— Сидят как-то раз на Пасху поэт Ростислав Филиппов и иркутский владыко Вадим. Сидят и квасят…
— Пьют?
— А что вы удивляетесь? Пьют. Кагор. Церковное вино. Кровь Господня. Однако поэту напиток не по вкусу. «Кровь Господня, — говорит, — не водка, много не выпьешь. Да ведь и мы разве кровопийцы какие-нибудь? Не-а!»
Православный пастырь и так и этак углы сглаживает, компанию поддерживает, а все без толку, не получается с собутыльником ни духовного, ни питейного контакта. А без контакта — разве ж бывает застолье? Наконец, поэт перестал говорить намеками и рубанул с большевистской прямотой, по-дзержинскому:
— Если бы мой начальник воскрес, так я бы ящика водки не пожалел выставить!
Епископ пискнул, потом крякнул и вытер бороду. А что ему еще оставалось делать?
Отсюда — и в вечность
…вот так и говорим о нем, как о живом. Может быть, и услышит за тридевятью пространств, и на потусторонний манер порадуется, что его вспоминают.
А был он, грустный художник-карикатурист Гена Базюк, идейным и принципиальным лентяем, каких еще поискать надобно, да и то не сразу найдешь. В Иркутске, по крайней мере.
И вот однажды известный самодельный мастер-золотые руки Гриша Верхотурцев вошел с Базюком в творческий альянс: понадобились мастеру какие-то рисуночки для исполнения очередной задумки — под заказ, разумеется.
— Сделаем, — пообещал Гена. — В чем вопрос…
Вопрос оказался в том, что растянулось это художественное дело на неделю, потом на вторую, третью… Месяц прошел, другой нарисовался…
Заявляется вдруг Гена к Верхотурцеву. Трясется весь, как одноименная птичка. Борода клочьями свалялась. В глазах тоска.
— Григорий… друг…
Мастер решил брать быка, то есть Базюка, за рога, то есть за горлышко, за похмельный синдром.
— У меня, — говорит, — в холодильнике стоит совершенно девственная бутылка водки по имени «Столичная». Подойдет ли, не знаю?
— Григорий! Друг!
— Друг, друг… Но истина дороже, потому что она не в вине. Сначала садись за стол и нарисуй мне все то, что ты пообещал.
— Григорий! Это жестоко!
— А не жестоко с твоей стороны меня за нос водить полтора месяца?
Устроился за столом Базюк. И сразу заныл: перышко ему надо специальное, чертежное, № 41… Дали ему перышко. Крутит его Базюк в пальцах так и этак, морщится, хмурится, щурится: тупенькое, дескать… Григорий заточил перышко на алмазном колечке… А тут Базюку еще бумажка понадобилась, да не простая, а ватман… Выложил мастер на стол стопочку аккуратно нарезанных листочков, да не отечественного гознаковского ватмана, а ручного отлива — от французской фирмы «Торшон» и голландской «Рембрандт».
— Ну, все, что ли? Рисуй, маэстро!
Кряхтел Базюк, стонал Базюк, вздыхал призывно и протяжно… Но что ему еще оставалось делать? Только рисовать.
И ведь нарисовал-таки! Потом выпил бутылку и упал. До утра.
А рисунок остался. Навечно.
…Между прочим, вот так и животрепещет российское меценатство. На том оно стояло. И стоять будет. Покуда не упадет. А потом снова встанет, на манер известной мудрой игрушечки, называемой в разные времена по разному: то «ванькой-встанькой», то «ивашкой-неваляшкой», то «иванушкой интернейшнл».
Вопиющее обращение к российскому народу
Товарищи! Граждане! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои. Дело в том, что дело не в шляпе. Дело в следующем.
Вернисаж пермской писательницы Нины Горлановой в иркутском Доме литераторов им. Марка Сергеева ответил, по крайней мере, на один вопрос: нет вопросов для талантливого человека, живущего в пространстве, напичканном вопросами. Во всяком случае, этот человек делает все возможное для того, чтобы согбенные вопросительные знаки собственноручно выпрямить в восклицательные. Такова и Нина. Но таковы, наверняка, и многие женщины великой российской провинции.
Понятно: все рождаются под знаком определенного созвездия; живут — под знаком вопроса. Он и похож-то на крючок, на котором подвешено бытие с возвышенными и земными почти гамлетовскими рефлексиями: быть или есть? А надо и то, и другое. Вот она, Нина Горланова, и благоустраивает пространство: не парламентско-депутатскими способами, но — по-своему, по-женски, по-горлановски обустраивает мир, который рядом, до которого можно рукой дотронуться, и вот этой же рукой, дотронувшейся, что-то изменить, приспособить к потребной гармонии, в сторону любви, покоя и уюта. А ведь верно: что нам стоит дом построить? — нарисуем, будем жить! — а как нарисуем ту пермскую обитель, так и жить будем.
Так что, привет вам всем, горлановские глазастые домики, и горластые петухи, поющие всегда до востребования, и полевые букетики в стеклянных банках с водой, вокруг которых кружат окрыленные добрые рыбки, великодушно уступившие свое законное место цветам. И тебе привет, Нина Горланова. Слышал, ты и стишки сочиняешь, нечто мальчишески-девически-озорное… Про Фета-поэта… на фоне университета… Присоединяюсь:
Здравствуй, Нина!
Вот тебе и моя картина:
Я, сударыня, тоже чихаю на Фета
С высокого, трехколесного, лисапета…
Но ведь, согласитесь, — изуверство какое-то, прости господи, чтобы рисовать с двух сторон одной картонки! По одну сторону — петух, который нравится поэту Кобенкову, а на обороте — селедка, которая мне по вкусу. И как прикажете делиться?
Квалификация
Деловой телефонный звонок французскому атташе по культуре Лорану Атталю:
— Когда намечаем рандеву?
— Завтра, — отвечает. — Как бы после обеда.
— Говори, пожалуйста, точнее. Может, часов в пятнадцать?
— О, типа да!
Вообще-то, в узкоспециализированном смысле Лоран является атташе по вопросам французской и русской лингвистики. О чем, собственно, и свидетельствует его глубоко профессиональное погружение в темные недра ярчайшего русского разговорного языка первых лет XXI века.
Нечто по-киевски
Живет такой художник. В анкетах, в строчечке, на которой полагается обозначить ФИО, он пишет: «Филя». Анкетодатели недоуменно поднимают бровки, а художник пожимает плечами, дескать, ничего не попишешь, если для полного представления букв не хватает, а поэтому так и принимайте, как есть — просто Филя.
На самом деле нашего художника зовут Валера по фамилии Филипских.
И вот однажды, еще в XX веке, случилась с этим Валерой одна история, весьма поучительная для начинающих гениев.
Как-то раз накопил Филя денег на покупку самого крутого в Советском Союзе фотоаппарата «Киев». Это была долгая, хрустальная мечта.
Пошел в магазин. В кармане хрустят купюры. В душе благолепие.
И тут навстречу Филе осторожными, нащупывающими почву ногами, точно эквилибристы на проволоке, точно канатоходцы, надвигается компания давних приятелей, милых друзей.
У милых друзей оказалась почему-то одна на всех полбутылка водки.
— О, — воскликнул Филя, — бродяги к бокалу подходят!
— Угощайся, Филя, — сказали друзья великодушно, с широким, этаким барственным жестом, с жестяным дребезжанием в голосе.
— Да тут же совсем ничего, — изумился Филя, — с гулькин нос. С таким носом мужчины из дому вообще не прогуливаются, позор какой-то и полный нонсенс…
— А мы, — ответили друзья, — думаем так, что никакого позора нет, если творческому человеку похмелиться надо. Позор — это когда похмелиться не на что. Вот мы и пошли в народ. Авось, кто-нибудь с кристальной душой и добрым сердцем избавит нас от позора. И, между прочим, нам уже много и не надо. Мы не жадные. Вот, выпей, Филя, почувствуй дружбу и солидарность…
— Нельзя мне! — строгим шепотом произнес Филя. — В магазин иду. За «Киевом».
— Да? А мы думали, что за углом… Ну, ладно. Киев, это тоже хорошо, — сказали друзья. — Для приличного тоста самое подходящее.
— Да? — спросил Филя недоверчиво. — Вы так думаете?
— Да, — ответили ему. — Но мы уже так не думаем. Мы уже так знаем. И ты, Филя, поменьше говори и не задавай задумчивых вопросов, от них у нас душа топорщится.
— Ну, разве что попробовать? — вслух размыслил Филя и принял из товарищеских рук полбутылку, вроде как переходящий кубок.
…Гуляли три дня.
— А что, в самом деле? — восклицали милые друзья. — Мы шли, тебя не трогали, ты сам первый свой язык распустил. И вот теперь он как бы в плену сидит, язык-то твой.
Стонал Филя, стенал Филя:
— И где теперь мой дорогой «Киев»?
А товарищи по-товарищески ему объясняли:
— Язык до Киева не доведет, Филя. Язык-то у тебя вон где заплетается, а Киев-то аж во-о-он где, отсюдова и не видно…
И замолчал Филя: обреченно, основательно, надолго.
…А вы вот все спрашиваете, господа: откуда берутся русские народные пословицы и поговорки? Наивные вы люди.
Ранней осенью 2003 года на первой персональной выставке в Доме литераторов им. Марка Сергеева поэт Анатолий Кобенков, представляя художника, сказал между прочим:
— И таким образом Валерий Филипских домолчался до слова. До слова собственного.
Фраза как фраза. Но, извлеченная из атмосферы пущенных на ветер слов, она прозвучала вовремя.
Анкета
Космонавт заполняет какую-то анкету… В ней — пунктик: «Бывали ли за границей?»
Космонавт задумался.
Он представил себе загранпаспорт, визу, лиловые печати, таможенный досмотр и таможенную же декларацию, пограничников в зеленых фуражках…
Вздохнул космонавт: не сподобился такого счастья.
И написал в анкете: «Не был».
Питейные товарищи улыбаются:
— Анекдот, что ли?
— Почему анекдот? У вас как анкета, так все анекдот. Мне! Лично! Сам генерал Береговой рассказывал. Вот на этом самом месте. У фонтана!
Товарищи посерьезнели:
— Ну, если у фонтана… Тогда другое дело. Ладно, ври дальше…
Кольцо
Косатка был морской мужчина по имени Кейко. Он жил в Северном море, в уютном заливе близ Осло, столицы Норвежского королевства.
По-научному он назывался так: морское млекопитающее подсемейства дельфиновых, длиной до 10 метров и весом до 8 тонн.
Кейко играл роли в кино и был любимцем публики, в особенности — детей, которые гладили его по блестящей коже и кормили кусочками трески, прямо из рук, и Кейко очень нравились такие обеды, но совсем не потому, что он обожал рыбу, а потому, что ему хотелось делать приятное и веселое для человеческих детей.
И вот однажды Кейко заскучал. Ученые люди-ихтиологи поняли его так: море зовет. И отворили сетку дельфинария-океанариума; и выпустили Кейко на волю, в холодный простор; и заскучали без Кейко.
Но спустя короткое время Кейко вернулся из вольного плавания. Он вернулся домой больным, простуженным. Как ни старались люди помочь ему — не помогли, и вскоре, в декабре 2003 года, Кейко умер от пневмонии.
Люди оплакали его. А дети сложили на берегу холмик из камней в память о Кейко.
…Я рассказал эту печальную историю одному географическому ученому. Ученый была молодая прекрасная женщина из серьезного научно-исследовательского института, который из космоса изучает землю и море. Женщина любит все три стихии, но когда хочет поделиться счастьем, то почему-то кричит чайкой.
Ученый тихо, почти незаметно для глаз, расплакалась дореволюционными, еще из XIX века, слезами.
Она звалась Татьяна. По фамилии Кейко.
Сюжетец закруглился и сделался бесконечным.
И мы сказали по этому поводу: «o’key!»
Но могли и не говорить двуязычных океев.
Слово-то и без звука — серебро.
О чем и свидетельствует серебряное колечко с круговоротом по часовой стрелке:
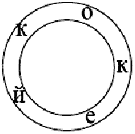
Виталий Диксон — прозаик. Родился в 1944 году. Окончил Ленинградское высшее военное Краснознаменное училище, исторический факультет Иркутского государственного университета. Публиковался в журналах «Свой голос», «День и ночь», «Сибирские огни» и др. Автор книг «Пятый туз» (1994), «Когда-нибудь монах…» (1996), «Карусель» (1998), «Ковчег обреченных» (1999), «Контрапункт» (2003).