В переводах А. Черного и А. Серебренникова
Составитель и автор сопроводительных текстов — Антон Чёрный
Опубликовано в журнале Prosōdia, номер 7, 2017
Перевод А. Серебренников
Черный Антон Владимирович — поэт, переводчик, 1982 г.р. Учился на филологическом факультете Вологодского педагогического университета и в Институте печати в Санкт-Петербурге. Автор двух книг стихов, переводчик английской, немецкой и нидерландской поэзии. Профессионально связан с Обществом Георга Гейма, www.georgheym.org. Живет в Лос-Анджелесе. E—mail: chornyanton@gmail.com
Публикация представляет собой рабочие материалы антологии «Поэты Первой мировой. Британия, США, Канада», готовящейся к печати в издательствах «Воймега» (Москва) и Prosōdia (Ростов-на-Дону). Цель проекта – впервые на русском языке представить в достаточной полноте поэтическое творчество авторов англоязычных стран-участниц этого конфликта. Книга задумана как продолжение тома «Поэты Первой мировой. Германия, Австро-Венгрия», выпущенного теми же издательствами в 2016 году. Над книгой работает международная группа переводчиков. Составителями выступили Артём Серебренников (Оксфорд) и Антон Чёрный (Лос-Анджелес).
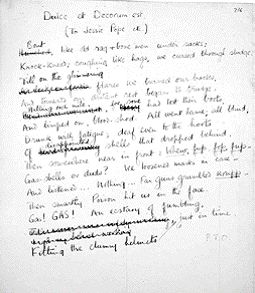
Первая черновая редакция стихотворения Уилфреда Оуэна
«Dulce et Decorum Est» с посвящением «Джесси Поуп и т.п.».
Уилфред Оуэн
|
 |
Короткая яркая жизнь Уилфреда Оуэна началась в чопорной английской провинции. Набожный сын железнодорожного служащего, он рано открыл в себе склонность к литературе. Первые стихи он, как считается, написал в возрасте одиннадцати лет. Его привлекала учительская карьера, но скромные средства семьи не позволили обеспечить поступление в университет. Работа помощником викария в Южном Оксфордшире привела к разочарованию в церкви, а начало Великой войны юноша встретил во французском Бордо, где к тому времени два года преподавал английский язык.
Оуэн не спешил отправляться в войска и даже думал обеспечить себе место во французской армии, но всё-таки вернулся на родину. В 1915-м его зачислили в Манчестерский полк, где он вскоре получил лейтенантские погоны. Ранения, контузии и травмы преследовали его на фронте. Сильнейшим потрясением для поэта стал эпизод, когда он был брошен своими и несколько дней пролежал без сознания среди мёртвых тел. С диагнозом «посттравматический шок» его отправили в госпиталь.
Лечение и последующие месяцы в тылу привели к началу его близких отношений с выдающимся поэтом-фронтовиком Зигфридом Сассуном, который ввёл его в артистические круги. Роберт Грейвз и многие другие позднее утверждали, что с этих пор в стихах Оуэна появились не только сассуновские мотивы, но и ноты завуалированного гомоэротизма. Влияние своего учителя и любовника он и сам не отрицал.
Летом 1918 года Оуэн вернулся на фронт, участвуя в жестоких боях под Жанкуром, за что получил Военный крест. Его гибель во время артобстрела всего за неделю до окончания войны до сих пор считается одной из самых жестоких и бессмысленных утрат английской культуры.
ОТПЕВАНИЕ ОБРЕЧЕННОЙ МОЛОДОСТИ
Кто отпоет убитых, словно скот?
Лишь рёв снарядов, рвущихся во гневе,
Лишь резкий треск ружейный пропоёт
Поспешный гимн в молитвенном распеве.
Не будет им ни пышных похорон,
Ни ханжеских молитв, ни сожалений:
Лишь озверевших бомб кошмарный стон
И грустный горн тоскующих селений.
Не свечи их сопроводят в могилу,
И не в руках – в глазах у тех парней
Горит прощальный свет святых огней.
Покров их гроба – бледность девы милой,
Цветы их – души, что о них скорбят,
Их траурная занавесь – закат.
Пер. А. Серебренникова
DULCE ET DECORUM EST[1]
Как нищеброды, сгорбившись устало,
Кряхтя, как бабки, мы ползли сквозь грязь,
Потом плелись мы к дальнему привалу,
К разрывам бомб спиной поворотясь.
Во сне мы шли; босыми ковыляли,
Обуты в кровь. Полуспепой отряд
Был пьян усталостью. Мы не слыхали,
Как рядом рвётся газовый снаряд.
«Газ! Газ! Живей!» – И, дрыгаясь в экстазе,
Дурацкий шлем напялить мы спешим,
Но кто-то заорал в противогазе,
Задёргался, как пламенем палим…
Гляжу я через мутное стекло,
Как будто под водой гляжу – он тонет.
И в снах я вижу – сколь уж прошло –
Как он, хрипя, захлебываясь, тонет.
И если б ты в удушливом кошмаре
Шла за телегой той, где он лежал,
И видела глаза на страшной харе,
Раздавшейся, как дьявольский оскал,
И если б слышала, как харкал кровью
Из лёгких, если б знала о плевках,
Как рак, отвратных, мерзких, как коровье
Жеванье на распухших языках, –
Тогда б, мой друг, детишкам наших мест
Ты не твердила с пламенем во взоре
Ложь старую: “Dulce et decorum est
Pro patria mori”.
Пер. А. Серебренникова
ВЕСЕННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ
За бруствером гурьбой размещены,
Они кормились, вольно развалясь.
Чужой сапог подушкой или грязь –
Скорей бы спать.
Но многим даже сны
Не лезли. Синевою небеса
Приветствовали на краю земли
Пришедших и зарывшихся в пыли.
К себе манили мая голоса,
Вливая лето в коридоры жил,
Где, словно яд, дорогу проложил,
Усилен странным солнечным лучом,
Окопа травянистый окоём.
Часами плыли в памяти поля,
Вдали овраги, роща. Васильки
Цветами оросили башмаки,
И пахла ежевикою земля,
Тянулась к ним, как будто бы моля,
Но вид их был вполне невозмутим.
И вот порывом низлетает к ним
Команда в бой, движением тогда
Пробуждены. Тревоги нет следа.
Ни спешки, ни сигналов, ни знамён,
В передвиженьях суматохи нет.
Для этих глаз, узревших вечный свет,
И солнце – друг, что к ним всегда склонён.
Перед атакой их согреет он.
Так, бруствер одолев, они помчались
В открытую, по вереску и травам.
И небеса внезапно разорвались,
Обрушив гнев, питанием кровавым
Наполнив тысячи разверстых чаш,
Луга разворотив, как горный кряж.
Про тех, бегущих полем на виду,
Поймавших пулю или жар огня,
Познавших ад и ночь средь бела дня,
Отброшенных разрывами в чаду,
Считают: Бог поймал их на лету.
Но что же те, ступившие за край?
Тонувшие, но выплывшие, рай
И ад познавшие, за ту черту
Шагнувшие, где погибает чёрт,
Где стал нечеловечен человек,
Где в славные чертоги бег простёрт –
Те, ползшие обратно в свой ковчег,
Что ели воздух удивлённым ртом –
Зачем молчат, молчат они о том?
Пер. А. Чёрного
Редьярд Киплинг
|
 |
К началу войны 49-летний Редьярд Киплинг был одним из самых известных английских писателей, певцом колониальной идеи, воплощением национального духа метрополии. Тем более удивительным показалось современникам его молчание в августе 1914-го. Казалось, он чего-то ждёт. Возможно, Киплинг надеялся, что столкновение с Германией, которое он предрекал задолго до этого, ещё будет остановлено. Лишь в сентябре, после потрясшего Европу «изнасилования Бельгии», после прорыва германской армии в пределы Франции, он выступил в печати со стихотворением, одна строка из которого стала национальным лозунгом: «Гунн у ворот!» («The Hunn is at the gate!»).
Место и роль Киплинга в разжигании военной истерии в разное время оценивались по-разному. «Есть два вида в мире: человеческие существа и немцы» – был ли автор этого заявления, автор многочисленных рифмованных воззваний жертвой пропаганды или её творцом? Как бы то ни было, самого его вскоре ждало жестокое отрезвление. В 1915 году во Франции погиб его единственный сын Джон Киплинг, которому отец сам помог получить место в Ирландской гвардии. Поскольку тело не было обнаружено, семья Киплингов еще несколько месяцев безуспешно пыталась разыскать его живым, объезжая фронтовые госпитали и даже рассылая записки на вражескую сторону.
Потрясение изменило взгляды писателя. Он постепенно приходит к осознанию непомерности принесённых жертв. Возможно, в эти годы, говоря о «растлителях страны», о «лжи отцов», он имел в виду и себя самого. Поздние годы своей жизни Киплинг посвятил, помимо прочего, сохранению памяти о павших солдатах, составив подробную историю Ирландской гвардии в годы Великой войны.
Месопотамия
Их не вернуть, не возвратить, как громко ни зови –
Весёлых, смелых, молодых, ушедших в смерть без нас.
Их, захлебнувшихся в дерьме, растоптанных в крови,
Не возродить – но как нам быть с отдавшими приказ?
Они послали в дальний край – нет, не своих! – детей,
В нелёгкий путь, в недобрый час, ать-два – и с плеч долой,
Они сказали: умирай, но только веселей, –
а сами будут жить, учить, владычить над страной?!
Погибших нам не возродить… Но правый Божий Суд…
Неужто будем мы смотреть до Божьего суда,
Как прохиндей и блудодей, как шут и словоблуд
Дорогой прежнею идут – по трупам, как всегда?
Неужто гневу своему мы зря дадим пропасть?
Неужто будем мы терпеть, что, расточая ложь,
Они тишком, молчком, бочком, гуськом ползут во власть,
Так крепко за руки держась, что цепь не разорвёшь?
Неужто мы поверим им – в их лицемерный стон,
Подачкам их, потачкам их, посылам их пустым,
Чтобы они под шум друзей – хапуг или пройдох –
Опять расселись по местам насиженным своим?
Их смертью смерть не искупить, их кровью кровь не смыть,
А нам вовеки не избыть позора и вины.
Не в них беда, а в нас беда – и как нам дальше жить,
Когда властители страны – растлители страны?
Пер. Н. Голя
Песнь Макдоноу
Будет ли Власть, о благе радея,
Души вязать и решить:
До рожденья людей убивать вернее,
Или после со свету сжить –
Об этих проблемах толкуют важно
Те, кого кормит страна;
Священную Власть (пусть выучит каждый!)
Священная ждёт Война.
Слушать ли глас Господень народу,
Или крики своих главарей,
Сократят ли выборы наши расходы
Или меч разберётся скорей –
Эти замыслы прежде важными звали,
Но навек схоронили потом:
Священный Народ (забудешь едва ли!)
Совершенным станет Рабом.
Кто утвердить решил непреклонно
Для цели самой благой
Власть превыше любого Закона –
Жить не достоин такой!
Монарх, Народ или Власть Святая
Пускай обещают рай –
Не стоит слов болтовня пустая.
Бери ружьё и стреляй!
Повторяй – за – мной:
Был Народ однажды – с ним явился Страх;
Был Народ однажды, жизнь устроил на костях.
Он Землёй раздавлен. Смолкни, человек!
Был Народ однажды – и ему не быть вовек!
Пер. Е. Кистеровой
Джесси Поуп
|
 |
Получив неплохое образование, Джесси Поуп на рубеже веков добилась головокружительных успехов (по меркам английской женщины того времени). «Величайшая дама-сатирик», автор проницательных очерков, которые с радостью печатали лучшие газеты империи – в этом смысле её довоенную славу можно сопоставить со статусом Тэффи в литературном мире старой России.
С началом войны её известность только возросла. Поуп в это время публикует огромное количество стихов с призывами записываться в войска, жертвовать накопления армии, служить общей скорой победе. Собственно, этой частью своего творчества, не самой лучшей в художественном смысле, Джесси Поуп себя и увековечила, только вот не совсем так, как ей хотелось бы. Нарастающее недовольство общества затянувшейся войной, огромными людскими потерями привели, как и во вражеской Германии, к поискам виноватых. И пропагандистка Джесси Поуп стала для англичан чем-то вроде Эрнста Лиссауэра, автора бравурного «Гимна ненависти к Англии» – объектом пародий, насмешек и обвинений. Первая редакция стихотворения Уилфреда Оуэна «Dulce et Decorum Est» показывает, что изначально эта антивоенная инвектива была обращена к «Джесси Поуп и т.п.».
Как и многие «имена нарицательные» той войны, её вскоре постигло почти полное забвение. Лишь в последние годы военные стихи Поуп были востребованы в качестве противовеса основным поэтическим именам того времени, и в современной школьной методике Британии она сделалась чем-то вроде «необходимого злодея», приветствующего войну. Предпринимаемые в последнее время попытки «реабилитации Поуп», представления её в образе прогрессивной суфражистки, жёсткой женщины в жёсткие времена, пока не приводят к успеху.
ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Листает новости батрак:
«Подушевой налог, –
Читает он, – Ну коли так,
То денежный мешок
Заплатит, а не беднота,
И мы не супротив».
И вдруг нашёл в конце листа:
«Введён пивной тариф!»
«И поделом, – шипит жена, –
Поменьше шастай в паб!
На том и держится страна,
На трудолюбье баб!»
Глядит ему через плечо
И видит невзначай,
Что дело стало горячо:
«Ввели налог на чай!»
Мораль:
Военный сводится бюджет,
И никому поблажки нет,
И если заработать смог,
Плати и радуйся, дружок.
Пер. А. Чёрного
ДЕВЧОНКИ БОЕВЫЕ
Вам девчонки здесь билетики пробьют,
И девочки лифт подкатят к этажу,
Молока девчонки также вам нальют
И помогут уместиться багажу.
И сметливы, и сильны,
Так помощницы страны
Ключ найдут к мужской профессии любой.
Им не плакать взаперти,
А занятие найти,
И, глядишь, придут солдатики домой.
Вот девочка за рулём грузовика,
А другая спросит строго «За проезд!»,
Третья рубит мясо вместо мясника,
Всякой девочке в войну достался крест.
Под мундирами сердца
Не мужского образца,
Преисполненные нежности святой.
Целомудрия зарок
Положил им чёткий срок,
И, глядишь, придут солдатики домой.
Пер. А. Чёрного
ПРИЗЫВ
Кто в сапоги?
Не ты, приятель?
Француз беги,
А ты, приятель?
Как будто плохо зван,
Кто медлит, как баран?
Кто держится за свой карман?
Не ты, приятель?
Кому пошит мундир?
Тебе, приятель?
Кому война, как тир?
Тебе, приятель?
Так кто всегда готов
Бить до семи потов?
А кто пропал и был таков?
Не ты, приятель?
Кого почтит король?
Тебя, приятель?
Кому героя роль?
Тебе, приятель?
Когда пройдёт парад
В блистании наград,
Кто будет празднику не рад?
Не ты, приятель?
Пер. А. Чёрного
Альфред Хаусмен
|
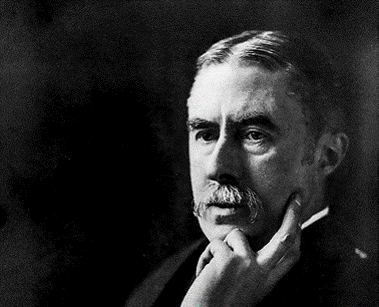 |
Утончённый поэт-эдвардианец, учёный-классик, казалось бы, Альфред Хаусмен меньше всего подходил на роль окопного поэта. Однако опубликованная им в 1896 году книга «Шропширский парень», исполненная холодного пессимизма и предчувствия неизбежной смерти, спустя почти два десятилетия стала для многих просто настольной. Джордж Оруэлл вспоминал, что в начале войны эти стихи «повторяли и цитировали вновь и вновь в каком-то экстазе».
Непосредственный отклик Хаусмена на военные события появился с большим опозданием в сборнике «Последние стихотворения», опубликованном в 1922 году. Ставшая классической «Эпитафия армии наёмников» посвящена Британскому экспедиционному корпусу, понесшему большие потери в самом начале войны под Ипром.
Причины пессимистического характера лирики Хаусмена искали и в неудачном начале его карьеры (будучи перспективным студентом, он провалил экзамены и не получил докторской степени), и в обстоятельствах личной жизни поэта. Во время учёбы в Оксфорде он испытал неразделённую любовь к своему однокурснику, тень которой сопровождала его всю жизнь.
Высоко ценимое и сейчас наследие Хаусмена составляют, помимо двух прижизненных книг стихов, множество статей по латинской текстологии и несколько капитальных изданий классических авторов, подготовленных им к печати.
* * *
Возвращаются солдаты,
Разорив далекий край…
Тут не спрашивают платы,
Просто ляг и отдыхай.
Тут встречают, хлебосоля,
Битвы кончена страда,
Скакуны резвятся вволю:
Сняты сбруя и узда.
В прошлом гиблые атаки,
Грязь и мёрзлая земля,
Радуйтесь теперь, служаки
Кайзера и Короля.
Ржёт скакун, ржавеет сбруя…
Заплатили вы сполна:
Отдыхайте, квартируя
В ночи векового сна.
Пер. В. Раскумандрина
* * *
– Не это ли гул народный,
Распад мировых основ,
Грохот земли сумасбродной?
– Да, братец; приятных снов.
– Не зóву ли родины внемлю?
Кто будет её спасать,
Коль небо падёт на землю?
– Тебе неймется опять?
– Не слышу ли крик осиплый
Мальчишек газетных: «Позор!
Разгром! Наша честь погибла!»
– И что с того, бузотёр?
Над плевелом в танце игривом
Кружит людей сатана;
В могилах парням сварливым
Терпеть придётся сполна.
Пер. А. Серебренникова
Эпитафия армии наёмников
В тот час, когда валились неба своды
И колебались основанья гор,
Наёмных этих войск погибли взводы,
Усердно выполняя договор.
Они плечами небо поддержали,
Остановили буйный сдвиг земли,
Что Бог покинул, честно отстояли
И за паёк вселенную спасли.
Пер. А. Браиловского
Уильям Батлер Йейтс
|
 |
Ирландский классик, будущий нобелевский лауреат, убеждённый националист, Йейтс не посчитал Великую войну делом своего народа. Он сохранял гордое молчание и лишь однажды откликнулся на просьбу прислать стихотворение о войне для благотворительного сборника в пользу беженцев. Этот текст из шести строк, приводимый ниже, был многими, в том числе сторонниками Йейтса, воспринят как откровенное издевательство и даже оскорбление. Действительно, рядом с окопными ужасами одних и бравурными куплетами других этот «ответ на просьбу» выглядел провокационным жестом.
Йейтс тогда умолчал, что в его авторском портфеле всё же есть ряд текстов, посвящённых текущим событиям, однако он сознательно придерживал их до окончания войны. Только в сборнике 1919 года был опубликован поэтизированный монолог «лётчика-ирландца», чьим прототипом традиционно считается погибший друг поэта, пилот Уильям Грегори. Но и здесь настойчиво проведена идея о «чужой» войне и напрасных жертвах ирландского народа во имя победы англичан.
В ОТВЕТ НА ПРОСЬБУ НАПИСАТЬ СТИХОТВОРЕНИЕ О ВОЙНЕ
Мне кажется, в такие времена
Поэтам замолчать пришёл черед;
Политиков не переспорим мы.
Наш дар в другом – порадовать сполна
Дев юных, что резвятся без забот,
И старцев, что предвидят мрак зимы.
Пер. А. Серебренникова
ЛЁТЧИК-ИРЛАНДЕЦ ПРЕДВИДИТ СВОЮ СМЕРТЬ
Я знаю – в гуще облаков
Я смерть свою узнаю сам;
Во мне нет гнева на врагов,
И нет во мне любви к друзьям.
Страна моя – Килтартан-Кросс,
Народ мой – нищий сельский люд,
Ему – ни радости, ни слёз
От той войны, что здесь ведут.
Не долг, не лозунги, не власть
И не желание похвал –
К мечте порывистая страсть
Меня ведёт в воздушный шквал;
Я всё обдумал, всё расчёл –
Впустую жизнь моя течёт,
Впустую я её провёл;
Что смерть, что жизнь – один расчёт.
Пер. А. Серебренникова
Айзек Розенберг
|
 |
Семья евреев Розенбергов переселилась в Англию из русского Двинска (ныне Даугавпилс). Будущий поэт поначалу видел себя только художником, однако учёба в Лондоне изменила его пристрастия. До войны одним из его наставников стал поэт Лоуренс Биньон, однако в мирное время стихи Розенберга не принесли ему сколько-нибудь серьёзной известности.
Известия о войне застали поэта в Южной Африке, куда он прибыл в надежде поправить здоровье. Розенберг отправился обратно в Англию, хотя с самого начала относился к волне патриотизма весьма скептически. После прибытия на фронт в 1916 году эти его настроения только усилились. Поэзия Розенберга, жёсткая, натуралистичная, местами абсурдная, выглядела необычно на фоне господствовавшей классической манеры и чём-то сближала его творчество с опытами немецких экспрессионистов. Она пользовалась спросом в ведущих литературных журналах военного времени. Каким могло бы быть дальнейшее развитие его стиля, неизвестно – в апреле 1918 года Розенберг погиб близ французского Арраса.
РАССВЕТ В ОКОПАХ
Вот расступается тьма.
Время древних друидов, как прежде.
Вдруг что-то впивается в руку –
Зловредная, гадкая крыса,
Когда к маку тянусь из окопа,
Чтобы за ухо заткнуть.
Крыса-урод, тебя бы в расход
За твой космополитизм
Ты припадаешь к английской руке
И тотчас к немецкой спешишь,
Коль будет воля твоя
Через сонное поле шмыгнуть.
Ухмыляешься, рыща средь них –
Гордых глаз, крепких рук, силачей,
Ты-то, верно, их переживёшь,
Векселя ветреной смерти
Залегли в кишках у земли,
На французских истерзанных нивах.
Что видишь ты в наших глазах,
Когда пламя и сталь, визжа,
Раздирают небесную тишь?
Мы дрожим, иль от страха застыли?
Маки, проросшие в венах солдат,
Опадают, опять опадают;
А мой, за ухом, – цел,
Только чуть побелел от пыли.
Пер. А. Панова
ВОЙСКОВОЙ ТРАНСПОРТ
Гротескной грудой,
Акробатами, вгоняющими
В сон усталый дух,
Свалились, как попало,
И не спим.
Мы зябнем на сыром ветру,
Склонясь бездумно,
А прикорнёшь,
И давит чья-то пятка иль ветер лапает
Лицо.
Пер. А. Панова
РАЗГРУЗКА МЕРТВЕЦОВ
Лафеты над истерзанной тропой
Поклажей ржавою гремят,
Торчат венцом из терний,
А пушки – скипетры царей,
Что сдержат натиск дикарей
На добрых наших братьев.
Колёса через трупы прут,
Хоть хруст костей стоит вокруг,
А мёртвые молчат.
Здесь враг под другом погребён,
Он от людской любви рождён,
Над ними – сутки напролёт
Стоит орудий стон.
Но земля их ждала –
С их рождения на свет
Их гниения алкала,
И вот – наконец!
Их же силой теперь
Она в силах держать.
Что за дикие грёзы в их тёмной душе?
Земля! Они в недрах твоих!
Ведь ушли же солдаты куда-то,
Швырнув на твои позвонки
Своих душ вещмешки,
Но нет в них божественной сути.
Кто же их выпростал? Кто?
Не видно в травах их блуждающих теней,
Те сторонятся, а из ртов, ноздрей
Пчела стальная жадно пьёт
Их нерастраченную жизнь,
Их молодости дикий мёд.
Так что ж мы идём на визжащий костёр,
Нимало о том не тревожась
Нам повезёт, в нас кровь богов
Иль нам дано бессмертье?
Но коль рванёт над головой,
То страх забьётся в венах,
И в них застынет кровь.
Смерть в воздухе ревёт,
И взрывы без конца
Блюют огнём во мрак.
Идут, идут, и бравый взвод
Вот-вот в безвременье шагнёт:
«Пора!» – шрапнель зовёт.
Не всех. Иных несут в крови
И грезится им дом, что был
Из сердца вымаран войной.
Шальная Земля! Кишки твои мечутся с воем,
В огне раскалённой железной любви,
В шторме свирепой любви.
Земля и Небо! в газовом дыму,
Когда целуете безмолвный дух
Гром сердца, начинённого взрывчаткой,
Рождает труп, что сам себя хоронит.
Разбрызган мозг
У санитара по лицу;
Вот он роняет груз
Глядит, нагнувшись, но душа
Уж глубоко – ей дела нет
До нежности людской.
Его оставили средь старых мертвецов,
у перепутья.
И в гари, в чёрной тине,
Лежат – страшны их лица,
И скрыты их глазницы,
И больше жизни ныне
В траве, в кровавой глине,
Чем в них, утопших в тишине.
А этот недавно погиб;
И его тёмный слух уловил стук колёс,
И раздавленный дух тянет руки
За словом живым, что уносит обоз
Ум рвётся к свету, бешенством объят,
Кричит под тяжестью терзающих колёс,
Стремясь колеса раздробить,
Иль быть разбитым,
А жизнь волной захлёстывает взгляд.
Они ещё придут? Придут?
Пусть хоть копытами ослов,
Ослов с опухшим брюхом,
Как треск наших колёс,
Терзающих воздетый взгляд.
Обоз прогрохотал,
Раздался слабый крик –
Его последний зов,
И колесо прошлось по мёртвому лицу.
Пер. А. Панова
[1] «Отрадно и почетно» (лат.) – оборванная цитата знаменитой строки Горация («Оды», кн. III, ода 2, стр. 13) «Dulce et decorum est pro patria mori» («Отрадно и почетно умереть за отчизну»).