Опубликовано в журнале Prosōdia, номер 3, 2015

Высоцкий совсем не обделен вниманием. Каждую годовщину известные артисты по центральным каналам перепевают его песни. Документальных фильмов сняты уже десятки, уже появились художественные — не говоря о тех, в которых Высоцкий сыграл. Нынешняя круглая дата — 35 лет с момента смерти — повод поднять, возможно, самый деликатный вопрос — что такое Высоцкий как поэт? Чем и в каком качестве он останется в поэтической традиции? Об этом еще не сказано достаточно аргументировано, потому что харизма Высоцкого провоцирует к безоговорочному приятию, слепому обожанию, для которого оскорбительна сама попытка анализа. С другой стороны, он сразу стал достоянием той филологии, которая эстетических суждений не выносит. Но на деле мало сказать, как многие, что у автора получается ловко рифмовать, что его творчество связано с той или иной традицией. В данном случае это — общие слова: как именно связан? действительно ли удалось привнести что-то от себя? что именно? и что в итоге — можно ли говорить, что — большой поэт? Без такого разговора вряд ли кто-то аргументировано скажет — да, большой. При этом всем ведь понятно, что Высоцкий уже — значительное культурное явление, которое таковым и останется. Но значит ли это что-либо для поэзии? Что именно значит? Ведь он в поэзию вошел как бы без спросу — минуя литературный цех вообще. Его внес на руках слушатель. И цех в какой-то степени взял паузу, многозначительную паузу, чему только способствовало прижизненное отсутствие текстов поэта в печатном виде. Как верно заметил один из ведущих исследователей творчества Высоцкого С.М.Шаулов, опыт чтения Высоцкого для нас еще во многом нов[1], а потому неудивительно, что его литературная репутация еще не утвердилась, несмотря на то, что главы о нем есть в учебниках по русской литературе второй половины XX века. Это не вопрос его апологии — у Высоцкого был особенный путь, для него в культуре всегда будет находиться особенная полочка. Это вопрос понимания, где Высоцкий в поэтической традиции. Закрыть столь большую тему весьма трудно, моя задача — открыть ее пошире.
Ловушка городского романса
Владимир Высоцкий вошёл в поэзию с чёрного хода во многих смыслах. С одной стороны, буквально с улицы, откуда понеслись его записи. Понятие «улицы» тут должно предполагать и классовый смысл — поэта нёс на руках «класс-гегемон», простые советские работяги. У творческой интеллигенции, у хранителей высоких традиций поэзии с этой средой непростые отношения, и восприятие блатной эстетики здесь весьма напряжённое. Питерская богема и московские урки — из разных вселенных. А ранний Высоцкий — повально блатной: «Открою Кодекс на любой странице, / И не могу — читаю до конца» (Т.1, с.66). Третья сторона — Высоцкий заходил не просто со стороны всегда периферийного для поэзии жанра литературной песни, но ещё и из, пожалуй, самой «низкой» его разновидности — блатной песни. Этих слагаемых на самом деле достаточно было для того, чтобы имени Высоцкого мы никогда не узнали, потому что там, откуда он вышел — царство фольклорной анонимности, там не важно, кто автор, там осуществляются сюжеты, которые раскрывают не индивидуальность — они приобщают к сложившейся среде. Это почти не произносится вслух, но надо понимать: если бы Высоцкий не стал тем, кем он стал, мы сегодня, возможно, и слушали бы порой его жестокие романсы, но только знатоки городского фольклора могли бы назвать их автора. Мы узнали Высоцкого не потому, что он писал хорошие «дворовые», как он их предпочитал называть, песни, а потому, что он сумел выйти за пределы жанра, который в результате стал восприниматься в контексте всего творчества поэта как грань широкой актёрской натуры:
Что же ты, зараза, бровь себе подбрила,
И чего надела, падла, синий свой берет![2] (Т.1, 1961, с.32).
Существует целый куст терминов, описывающий примерно одно и то же явление: «городской романс», «жестокий городской романс», «современная баллада», «новая баллада», «мещанская баллада», «блатная песня», «дворовая песня». Город здесь задаёт динамичное и беспощадное пространство случая. Слово «баллада» должно свидетельствовать о наличии рассказчика и некоей истории — всегда трагической или драматической. «Блатная» — жанровая характеристика героя. Как писал Андрей Синявский, в послевоенный период «”народ” исчез, превратившись в “массу”, в кашу, выделив отместку, как тучу пыли, — блатных… В истинно же блатном состоянии каждый сызнова сам себе господин, индивидуум, личность <…> И порою эта среда куда более полно, нежели безглазая масса, выражает черты русской самобытности»[3]. Пётр Вайль и Александр Генис в своей книге о шестидесятых пишут, что блатной мир в это время был настолько популярен, что даже герои культового Хемингуэя в переводе на советский язык оказывались ворами. Но они в силу принципиальной несистемности в это время тянули на героев.
Ну и, наконец, ещё один элемент — «мещанская». Герои этого жанра «находятся исключительно в плоскости житейского, бытового, человеческого и ввиду своего безбожия абсолютно беззащитны перед несчастием»[4]. О безбожности тут сказано затем, что традиционная баллада как раз жанр мистический — трагедия, которая в ней случается, всегда имеет метафизическое объяснение: расплата за грехи, бесовство, Божья кара. А в «мещанской» балладе правит случай, произвольный и беспощадный. «Враждебность мира, явленная в измене, клевете, ошибке, роковой расплате за шутку и проч., бесконтрольна, а следовательно, неизбывна»[5]. В этих историях предательств за всё в ответе сами люди — и потому «того, кто раньше с нею был, — / Я повстречаю!» (Т.1, 1962, с.36), и потому — «Ты не радуйся, змея, — / Скоро выпишут меня — / Отомщу тебе тогда без всяких схем…» (Т.1, 1962, с.37).
Синявский показывает основной приём, на котором держится «блатная» песня: главное — «зачаровать и ошеломить зрителя курьёзной и лихой эскападой», «быстрота, натиск, смелость и пружинистая внезапность решений, и явное, бьющее на эффект, на показ циркачество»[6]. У Высоцкого это работает постоянно: первым делом — заявление своих принципов: «Я в деле и со мною нож — / И в этот миг меня не трожь, / А после я всегда иду в кабак…» (Т.1, 1962, с.38). Или сразу не менее эффектное «Я женщин не бил до семнадцати лет — / В семнадцать ударил впервые…» (Т.1, 1963, с.57.).
В 1964 году, когда Высоцкий делает свою первую запись, в его арсенале — около сорока блатных песен. Написаны они, напомним, вполне интеллигентным юношей, закончившим в 1960 году школу-студию МХАТ, но ещё не знавшим ни серьёзных ролей, ни серьёзного к себе отношения.
Это был почти фольклор, к статусу которого вообще тяготеет авторская песня[7]. Анонимность фольклора — одно из выражений того, что он не вычленяет индивидуума из того или иного ряда, а напротив — включает. В результате всякий слушатель является потенциальным исполнителем фольклорного произведения. Это очень похоже на то, что происходило с авторской песней. И огромное количество подражателей, выдававших себя за Высоцкого, — это закономерность: жанр такой.
В случае с Высоцким круг «своих», предполагаемый при исполнении под гитару, — совсем не абстракция. В конце пятидесятых, когда он жил на Первой Мещанской и учился, он фактически был членом небольшой коммуны. «Мы собирались вечерами, каждый божий день, и жили так полтора года <…> я для них писал и никого не стеснялся, это вошло у меня в плоть и кровь. <…> Это было самое запомнившееся время моей жизни. <…> Я помню, какая у нас была тогда атмосфера: доверие, раскованность, полная свобода, непринуждённость и, самое главное, дружественная атмосфера. Я видел, что моим товарищам нужно, чтобы я им пел <…> И несмотря на то что прошло так много времени, я всё равно через все эти времена, через все эти залы стараюсь протащить тот настрой, который был у меня тогда» (Т.4, с.196). Приведу ещё один очень показательный дневниковый отрывок: «У меня очень много друзей. Меня Бог наградил. <…> И я без них сдохну, это точно. Больше всего боюсь кого-то из них разочаровать. Это-то и держит всё время в нерве и на сцене, и в песнях, и в бахвальстве моём» (Т.4, с.174).
Высоцкий, в котором мы привыкли видеть первого народного индивидуалиста, был человеком, который сам себя не мог представить в одиночестве. Быть в середине дружественного роя — это было для него естественное и искомое состояние. Которое он неизменно обретал, когда пел.
Гитара создавала особую коммуникативную ситуацию здесь и сейчас. И это не ситуация стадиона, хотя зрелому Высоцкому случалось выступать перед весьма большой аудиторией. Скорее, это интимный круг, круг «своих», часто умещающихся за столом, которые слушают новые истории от старого знакомого с гитарой. Идеальный формат общения для страны, в которой шла «оттепель». Альтернативная и очень наглядная роль поэта в обществе — вот он сидит, на дружеском застолье. И городской романс здесь логичен — он идёт на правах анекдота из жизни простых людей с этого же двора.
Вообще появление гитары на исторической сцене породило у классических поэтов страх перед армадой графоманов, освоивших три аккорда. Гитара в их глазах сразу ставит под подозрение: мол, если бы это был настоящий поэт, всей этой музыкальной мишуры не понадобилось бы. И как-то забылся тот факт, что песня, в том числе литературная, всегда была одним из неизменных жанров, образцы которого можно найти у большинства крупных поэтов. Безусловно, не все они их пели самостоятельно, и, пожалуй, никогда этот жанр не занимал центрального положения в творчестве поэтов. А Высоцкого, как и его вдохновителя Окуджаву, интересовала именно песня. Хотя Высоцкий потом и говорил, «что это не песня — стихи под гитару» (Т.4, с.198), но исходный жанр всё же ясен. Благодаря нескольким мощным фигурам жанр, всегда находившийся на периферии в жанровой системе высокой поэзии, в силу своей демократичности и доступности выдвинулся на некоторое время на первый план.
Дворовая песня тогда, в шестидесятые, представляла весьма широкую неофициальную культуру. Вся неопубликованная русская поэзия ХХ века в этот момент тоже ей принадлежала. Но нужно помнить, что позже, когда на сломе эпох разговор о неофициальной культуре смысл потерял, с высокой поэзией жестокий городской романс, а тем более блатная песня разошлись совсем.
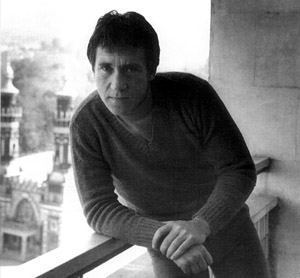
Однако уже в первый период у Высоцкого обозначаются пути выхода за пределы «дворового» жанра. В знаменитой песне о Большом Каретном (1962) вдруг выходит на первый план сильное элегическое начало — в центре здесь совместное воспоминание о «переименованной теперь» улице, где проходили и «семнадцать лет», и «семнадцать бед». В «Серебряных струнах» (1962) вдруг начинает просвечивать отнюдь не мещанский символический план, в котором струны — последний предел, за которым не может быть свободы. И в песне «За меня невеста отрыдает честно…» тюрьма предстаёт простой и ясной универсальной метафорой:
Мне нельзя на волю — не имею права, —
Можно лишь — от двери до стены.
Мне нельзя налево, мне нельзя направо —
Можно только неба кусок, можно только сны. (Т.1, 1963, 54)
Это уже не стихи о воровской доле, здесь разыгрывается драма о свободе.
И в это же время первые военные песни — «Ленинградская блокада» (1961), «Штрафные батальоны» (1964), в которых галерея несистемных персонажей начинает расширяться. И в этих стихах вдруг проявляется умение, как по нотам, достоверно, с голоса героя разыграть трагедию положения:
Считает враг: морально мы слабы, —
За ним и лес, и города сожжены.
Вы лучше лес рубите на гробы —
В прорыв идут штрафные батальоны!
Вот шесть ноль-ноль — и вот сейчас обстрел, —
Ну, бог войны, давай без передышки!
Всего лишь час до самых главных дел:
Кому — до ордена, а большинству — до «вышки»… (Т.1, с.62).
Это и слушается и читается на одном дыхании: потому что обречённый персонаж исполнен какой-то непобедимой коллективной силы, которая проявляется в том числе в способности спокойно оценивать своё положение — петь о нём. И даже не обращаешь поначалу внимания на странность словоупотребения: ведь «вышка» — это расстрел, а не гибель в бою. С другой стороны, герой осужден на службу в штрафных батальонах, а значит смерть в бою для него может быть приравнена к высшей мере. И внезапно в том же 1964 году появляются стихи карнавальные, написанные от лица коллектива или народного представителя, — «Письмо рабочих тамбовского завода к китайским руководителям» и «Антисемиты». Здесь властвует стихия народного юмора. Тут можно строить из себя дурака, таращить глаза и рассказывать небылицы про то, как евреи «по запарке / Замучили, гады, слона в зоопарке!» (Т.1, 1964, с. 65). У таких стихов большое будущее в творчестве Высоцкого.
Но главное — пути выхода в большую поэзию он к этому моменту уже наметил. Просто он не торопился ими идти.
Многоголосица как приём
То, что происходит в последующие несколько лет в поэзии Высоцкого, можно назвать созданием энциклопедии советской жизни. Думаю, не ошибусь, если скажу, что именно этот пласт его стихов оставил самый широкий ряд афористических цитат.
Сам поэт говорил, что после прихода на Таганку к Юрию Любимову ему стало неудобно петь свой блатной репертуар — тут требовалось что-то более подходящее к интеллигентному контексту. Научившись говорить голосом человека из уличной среды, Высоцкий начинает пробовать другие голоса. «Штрафные батальоны» были первой попыткой. И смена персонажей, при всей схожей маргинальности штрафника и уголовника, тут имеет принципиальное значение. Потому что если жанр блатной песни — сфера готовых сюжетных схем, то штрафники — почти[8] не хоженая территория в поэзии. Сюжетику здесь нужно было придумывать заново.
И дальше пошли друг за другом: «Песня студентов-археологов», «Марш студентов-физиков», «Песня о нейтральной полосе» от имени пограничника, «Песня про снайпера, который через 15 лет после войны спился и сидит в ресторане», «День рождения лейтенанта милиции в ресторане «”Берлин”», «Песня завистника», «Песня о сумасшедшем доме» от имени его пациента — это всё 1965 год. Сентиментальный боксёр, конькобежец на короткие дистанции, которого заставили бежать длинную, какие-то космические негодяи, альпинистский цикл, военный цикл — благо, появились заказы к спектаклям и кино. Будет ещё про йогов, про шахтёров, про запойных пьяниц, футболистов, аквалангистов, лётчиков и самолетов, певцов и микрофоны, ну и конечно, разнообразных представителей криминального мира — и всё от первого лица.
Я не думаю, что эти песни часто переслушиваются, — разве что на юбилеи. Но если надо погрузиться в атмосферу тех времен, пройтись по типажам, то этот пласт — вне сравнений. Несмотря на существование советских песен о хоккее, встречи Канада-СССР у меня связаны прежде всего с «Профессионалами» (1967) Высоцкого. Часто ли я их слушаю? Нет, конечно. Но цитаты в ходу: про то, каково это — «школьнику драться с отборной шпаной», или о том, что «они» «молились строем — не помогло», а «наши ребята / За ту же зарплату / Уже пятикратно уходят вперёд» (с.165-166). Это же просто лихо написано, кому дело до точности деталей! Радуйтесь, что хоть кто-то с Божьим даром взялся об этом писать. А этот шахматный бой с «Шифером»-«Фишером», на который вышел физически подготовленный советский патриот… А история про то, как была найдена тюменская нефть…
У каждого своя галерея цитат из этих песен, в них отлит и передан коллективный советский опыт. Вот он в чистом же виде: коллектив шахтёров про заваленного в шахте трудоголика говорит «По-человечески нам жаль его», но ради спасения не делает ничего. Да и ряд наблюдений типа «Орал не с горя — от отупенья» («Милицейский протокол») вскрывают просто тектонические психологические пласты, вызывая даже неприличную «радость узнаванья». То есть человек деловито объяснил, похоже, склонному к иллюзиям милиционеру, как правильно стоило бы трактовать необъяснимые действия, совершённые в состоянии алкогольного опьянения. Иными словами, у Высоцкого в поэзии есть неповторимость и уникальность. Я просто не знаю, где ещё в поэзии найти, например, столь ёмкое и последовательное описание всех стадий пьяного дебоша.
А ещё: как вы думаете, сколько любимых поэтов у тех же ещё оставшихся в стране шахтёров? Многие ли поэты борются вообще за их внимание? Я, бывает, думаю об этом, когда встречаю, например, на улице взвод срочников, которые поют какой-нибудь «Сектор газа». Я сразу думаю, что такого поэта, как Высоцкий, сегодня очень не хватает. Он бы мог для них написать, ему было бы не зазорно. Он не стеснялся того, чтобы писать для и от имени вот этих далёких от культуры людей, поступки и судьбы которых на деле — фундамент культуры. Поэзия Высоцкого в этом смысле — огромный вброс первичного материала в традицию.
Конечно, за это его критикуют. Разве же шахтёр оценит качество стиха — будет на руках носить, лишь бы за душу брало: а ведь это опасный путь — можно о задачах собственно поэзии забыть совсем. В чём сложность для поэта, избирающего себе предмет за пределами явно очерченного культурой поля? Прежде всего в том, что этот предмет или персонаж в культуру надо ввести — то есть найти среди существующих традиций для него язык, сюжетику. И здесь недостаточно иметь необходимую художнику наблюдательность по отношению к жизненным реалиям — помимо них нужна исключительно бесполезная для обывателя способность ориентироваться в поэтических традициях и языках. Эта способность не то же самое, что навыки теоретика, — она должна осуществляться на практике. Иногда это называют поэтическим слухом, который плохо реагирует на незапланированные смены регистров. Если вы пишете о шахтёре, это может быть вполне точно, но в поле культуры всё равно не попасть. И многоголосица тут будет только мешать — потому что проблема как раз в том, что вас болтает из стороны в сторону. И детали — где-то точные до натурализма, а где-то совсем неточные. Моторный, мускульный хрип всё спишет, всё вытащит. Но высоколобая поэзия, литературный цех такого не любит, высоколобые поэты от такого морщатся.
Прямо скажем, шедевров у Высоцкого в этот период немного. Ряд стихотворений напоминают вирши, стихи для капустников, откровенные стилизации — в ряде случаев они так и писались. Но зато посмотрите, что он делал с теми же жанрами в семидесятые — там почти нет холостых выстрелов: всё стало классикой — от «Милицейского протокола» до «Лекции о международном положении, прочитанной человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство своим сокамерникам» (1979).
Тут ещё со многим надо разбираться отдельно, поскольку, строго говоря, термин «ролевая» лирика, который часто применяется к стихам Высоцкого, мало что на деле описывает и разъясняет — кроме того факта, что лирический субъект взят напрокат. Но «ролевой» субъект может быть в стихах почти всех лирических жанров, а у каждого из них свои правила, которые поэт если не знал назубок, то уж точно чувствовал.
И всё-таки в самом факте ролевой лирики содержится некий поступок. Поэт, заговаривающий голосом человека, который никогда не имел в поэзии права голоса, находит лучшие слова, чтобы выразить драматизм его судьбы. Более того, выражаясь от его имени, поэт делает персонажа способным осознавать и принимать ситуацию, в которой он находится — а это очень многого стоит! И в данном случае за штрафника, шахтёра, нефтяника и т.д. это может сделать только поэт. Эта миссия поэзии — наверное, часть большой русской традиции, заложенной Золотым веком с его вниманием к «малым сим». Форму, которой пользуется Высоцкий, в XIX веке называли «драматическим отрывком», позже — «монологом», но в ней, как правило, элегическая основа — берётся герой предопределённой судьбы. Без переживания этой предопределённости такие стихи трудно представимы.
Помимо прочего, в стихах второй половины шестидесятых Высоцким проделана огромная черновая работа. В них нет единой концепции, в них нарабатывается инструментарий — и каждый приём позднее получит развитие. Чистая героика позволит находить сюжеты преодоления даже в судьбе предметов. Шутливые фантазии породят, с одной стороны, сказочный цикл, с другой — шутливые монологи простых советских граждан — от выпивох и сумасшедших до рабочих и крестьян. Попытки зафиксировать не столько профессиональный, сколько психологический типаж, как, например, в «Песне завистника», позже дадут «Песню конченого человека», в которой образ лирического «я» от авторского отделить уже трудно. Впрочем, искать у Высоцкого центр — дело малоперспективное, его лирическое «я» многолико, на каждую драму найдётся шутка, на каждого героя — личный чёрт, от него самого неотличимый. Нет, особенность Высоцкого в том, что он раскрывается в людях, герои ему гораздо интереснее, чем он сам — вспомним, что недаром поэт признавался в такой зависимости от друзей: «я без них сдохну». Вычленять «я» Высоцкого из создаваемой им многоголосицы нельзя — оно тут же скукожится до блуждающей точки — или «сдохнет», как выразился поэт.
Есть и ещё один эффект, который многоголосицу усугубляет — особенно при чтении с листа — это строфическая полиритмия. В иных песнях по три-четыре вида строфы со своим собственным рисунком. И у каждого рисунка в идеале — тоже свой голос, своя точка зрения. Иногда это особенно наглядно:
На дистанции — четвёрка первачей, —
Каждый думает, что он-то побойчей,
Каждый думает, что меньше всех устал,
Каждый хочет на высокий пьедестал. <…>
А борьба на всём пути —
В общем, равная почти.
«Расскажите, как идут,
бога ради, а?»
«Телевидение тут
вместе с радио!
Нет особых новостей —
всё ровнёхонько,
Но зато накал страстей —
о-хо-хо какой!» (Т.2, с.148)
Это чисто профессиональный вопрос — Высоцкий, как ни один русский поэт второй половины XX века, умеет использовать голосовой и мелодический потенциал строфики внутри одного стихотворения, использует её для создания полифонии, передачи картинки сразу несколькими «камерами»-голосами. В русской поэзии такие приёмы нечасто выходят на первый план, да и у Высоцкого эта особенность воспринимается прежде всего как знак того, что пишется песня, с куплетом-припевом. Но это не повод не увидеть в форме литературной песни её богатейший ритмический потенциал, который не является чистой формальностью, а привносит в стихотворение дополнительный арсенал изобразительных средств — вместе со способностью в любой момент поменять точку зрения, переключиться на другой голос. Многоголосица у Высоцкого — это не только следствие его актёрского увлечения ролевыми масками, это ещё и следствие осознанного и редко используемого жанрового потенциала песни.
Глазами рыжего клоуна
Вот одна из первых шутливых фантазий про археолога Федю, который «откапывал такое, / Что мама с папой плакали навзрыд». Сюжет — бредовый, влекомый вперёд рифмами великолепными, но перемешанными с самыми банальными — неточными и глагольными:
Он древние строения
Искал с остервенением
И часто диким голосом кричал,
Что есть ещё пока тропа,
Где встретишь питекантропа, —
И в грудь себя при этом ударял. (Т.1, 1964, с.94)
Интересный, кажется, сюжетный ход — искать затерянный мир — но после этой строфы он забыт. В следующей строфе студент уже намеревается найти себе — причём натурально в земле! — идеальную жену…
Это можно не пытаться понять — здесь начинаются обширные земли гротеска, мир рыжего клоуна, взгляд которого выхватывает вокруг прежде всего алогизм, абсурд, выпирающие странности. И чем дальше, тем лучше Высоцкий различал в себе этот условный гротескный мир, который позже будет представать в чистом виде — на почве научной фантастики («В далёком созвездии Тау Кита» (1966)), сказки о Старике Хоттабыче («Песня-сказка про джинна» (1967)), пушкинских сказок («Лукоморья больше нет» (1967)), плохих и хороших детективов («Пародия на плохой детектив» (1967), «Песня про Джеймса Бонда, агента 007» (1974)), сказок русских народных («Сказка о нечисти», «Сказка о несчастных сказочных персонажах» (1967)).
Зачем это всё? Скажем общо: вымышленный мир позволяет раскрыться советскому обывателю во всей красе.
В запале я крикнул им: мать вашу, мол!..
Но кибернетический гид мой
Настолько буквально меня перевёл,
Что мне за себя стало стыдно.
Но таукиты —
Такие скоты —
Наверно, успели набраться:
То явятся, то растворятся… (Т.1, с.133)
Это ж он их сразу поучать бросается — едва явившись на чужую планету, и судит отсталых аборигенов буквально как сбившихся с пути к коммунизму младших товарищей.
А зачем нужно было такую дикую историю про джинна придумывать? Да чтобы позлить этого товарища, который думает, что «если я чего решил — я выпью обязательно».
Тут мужик поклоны бьёт, отвечает вежливо:
«Я не вор, я не шпион, я вообще-то — дух, —
За свободу за мою — захотите ежли вы —
Изобью для вас любого, можно даже двух!» (Т.1, с.169)
Рифмы, конечно, — загляденье. Но «дух», который годится лишь для того, чтобы кого бы то ни было избить, — это, конечно, очень знакомый «дух», являющийся в основном к регулярно пьющим обывателям. С этим духом можно подраться, сдать его в милицию и проявить под конец уважение к нему: «Ну а может, он теперь боксом занимается, — / Если будет выступать, — я пойду смотреть!» (Т.1, с.170).
И нет в таких стихах всего того, что привычно мы приписываем всей поэзии Высоцкого целиком — героя на краю. Тут, скорее, работает плоскость не столько экзистенциальная, сколько социальная — в ней происходит столкновение сознаний, ценностных систем. Рабочий, который собирается в заграничную командировку, сталкивается одновременно с сознанием идеолога-инструктора, с собирательным образом неведомой заграницы, с собственной женой. Высоцкий устраивает балаган для этих всех характерных, как говорят театралы, персонажей. Они все смешны, а ещё смешнее становится, когда встречаются друг с другом. А когда он начинает по косточкам разбирать Лукоморье, то выясняется, что никакого Лукоморья больше нет. Нет никакого общества, карнавальный юмористический хаос на деле выражает иррациональное, часто выходящее на первый план без всякой подготовки ощущение, прямо и доходчиво отлитое в «Моей цыганской» (1967-1968): «Всё не так, ребята!»
С Высоцким отчасти та же проблема, что и с Зощенко, который живописал убогую эклектичную речь мещанина, застрявшего между эпохами. Можно вспомнить его «Голубую книгу», в которой рассказчик якобы берётся за вечные темы, но какую ни возьмёт, в остатке у него остаётся только мошенничество да трезвый расчёт. И это происходит у нас на глазах — а мы смеемся.
Чрезвычайные обстоятельства баллады
Когда дело доходит до шедевров, то можно увидеть, что они созданы они как будто из тех же элементов. Вот они — написанные дуплетом где-то в начале августа 1968 года «Охота на волков» и «Банька по-белому». Как будто шутил-шутил поэт, а тут прошла летняя лживая кампания в газетах, направленная исключительно на очернительство, — и в атмосфере что-то сдвинулось. Как будто человек вышел на другой уровень осознания того, чем он вообще занимается.
«Охота…» дает образец жанра баллады, как его видел Высоцкий. У Высоцкого она всегда лиризованная — от первого лица, как правило, непосредственно переживающего экзистенциальную ситуацию. В классической балладе эта ситуация связана чаще всего с неким гостем, пересекающим границу между реальностью и инобытием, а иногда прямо — загробным миром. Встреча с таким пришельцем всегда страшна. Но не у Высоцкого — его пришельцы никогда не страшны, они у него, как правило, — герои комедий, чудаки. У Высоцкого границу между мирами пересекает сам лирический субъект. Это важнейшая его отличительная особенность. Не было бы никакой баллады, если бы волк не вышел за флажки. Вся сюжетика посвящена тому, что волчья идентичность задана — и согласно сложившейся традиции, в описываемой ситуации герой должен умереть. «Видно, в детстве — слепые щенки — / Мы, волчата, сосали волчицу / И всосали: нельзя за флажки!» (Т.1, с.242). У Высоцкого перевёрнута логика жанра: в классической балладе герой оказывается наказан высшими силами за нарушение, отступление от традиции. Здесь же — и всякий раз у Высоцкого — традиция порочна, она несправедлива и жестока, и только выход за её пределы даёт шанс — что зверю, что человеку. Поступок, ломающий традицию, спасителен, но осознание его необходимости приходит только тогда, когда «Тот, которому я предназначен, / Улыбнулся — и поднял ружье» (Т.1, с.243). Экзистенциальная ситуация даёт ответ на вопрос, что именно «не так», само её возникновение — факт, доказывающий непотребство мироздания в любом его проявлении.
Как только эта лирическая ситуация складывается в чистом виде, становится неважно, от чьего имени написаны стихи. Баллада нашла свою форму. В традиции жанра — именно персонаж, не важно, от первого лица или нет, но при чтении баллады мы понимает, что автор — ступенью выше, он на том уровне, на котором творится этот сюжет. И сам сюжет начинает работать, как большая метафора, которая оказывается современной, не имея ни одной современной детали. Это уже не имеет отношения к «энциклопедии советской жизни» — это уже поэзия навсегда и для любой эпохи.
А перенос этого сюжета в другие жанры служит Высоцкому дурную службу. Написанные в следующие пару лет «Песенка про прыгуна в высоту» (1970), «Бег иноходца» (1970) содержат тот же ход — нарушение главным героем сложившихся правил, но на экзистенциальную ситуацию соревнование, конечно, не тянет. Желание выиграть соревнование — это драматизм гораздо меньшего пошиба. И герои выглядят как капризные барышни — одного никак невозможно научить отталкиваться с левой ноги, а второму, видите ли, шпоры не нравятся — что ты вообще тогда, спрашивается, тут делаешь?… Нет, этот сюжет требует настоящей бездны — только тогда получается баллада высокого уровня. Высоцкий это чувствует, и в «Певце у микрофона» невинную ситуацию исполнения песни подаёт как батальное полотно: «На шее гибкой этот микрофон / Своей змеиной головою вертит: / Лишь только замолчу — ужалит он, — / Я должен петь — до одури, до смерти» (Т.2, с.26). Далее по тексту микрофон вот-вот «в лоб мне влепит девять грамм свинца» (!), а его тень «больно хлещет по щекам». Невольно хочется этого персонажа спросить: чего ж ты так мучаешься, бедный? Никакой надрыв тут не спасает — этот жанр нельзя разменивать по мелочам.
А вот в скромной «Дорожной истории» (1972) всё получается идеально — причём на самом земном материале. Потерявшийся в снегах грузовик, в нём два напарника, которые друг другу «больше чем родня»:
Я отвечаю: «Не канючь!»
А он — за гаечный за ключ
И волком смотрит (он вообще бывает крут), —
А что ему — кругом пятьсот,
И кто кого переживёт,
Тот и докажет, кто был прав, когда припрут! (Т.2, с.83)
Вот она — балладная точка, в которой должен появляться страх, которая делит время на «до» и «после», заставляет совершать поступок. Главный герой — «отпустил», напарник — ушёл. Когда всё кончится, он вернётся — а первый скажет: «А там — опять далёкий рейс, — / Я зла не помню — я опять его возьму!» (Т.2, с.84). Тут ещё и нравственный урок великодушия в конце. Классическая баллада обязательно предполагала некое моралите. Вот что значит память жанра!
Будут такие баллады и после — замечателен диптих «Очи чёрные» (1975), самая поздняя баллада этого ряда — «Райские яблоки» (1978). Наверное, наиболее показательно в ней то, что и такое особое пространство, как рай, концепцию мироздания для поэта не меняет. Рай тут — разновидность тюрьмы, так же жестоко и несправедливо устроенный мир, как и в «Охоте на волков». Райские яблоки, мёрзнущие на ветках, можно только выкрасть — и поплатиться жизнью. Но в этой балладе смерть вообще, похоже, бессильна, граница между мирами условна — и застреленный «в лоб» герой с «пазухой яблок» возвращается к любимой женщине.
Нельзя не отметить, что весь «гамлетизм» Высоцкого — период, начавшийся с 1972 когда, когда в Театре на Таганке состоялась премьера шекспировской пьесы, — ложится прежде всего на балладную линию. В «Моём Гамлете» (1972) поэт работает с другим жанром, о котором ниже, но главный вопрос, который держит в напряжении лирический сюжет, — о том, как реально вырваться из губительных обстоятельств.
Я видел — наши игры с каждым днем
Всё больше походили на бесчинства, —
В проточных водах по ночам, тайком
Я отмывался от дневного свинства.
И вот он делает тот самый выбор — совершает поступок, который должен стать спасительным. Но сюжет поворачивается в другую сторону:
А мой подъём пред смертью — есть провал.
Офелия! Я тленья не приемлю.
Но я себя убийством уравнял
С тем, с кем я лёг в одну и ту же землю. (Т.3, с.104-105)
Сюжет, так хорошо разрешающийся в балладе, в элегии разрешён быть не может.
Двуликая элегия
«Банька по-белому» задавала второй большой жанр, который, кажется, у Высоцкого прошёл почти незамеченным — это идущая от Батюшкова историческая элегия. Эта разновидность элегии наиболее близка балладе, она допускает повествовательные элементы, описания картин прошлого. Но главное, в основе сюжетики здесь — переживание встречи не столько со своим собственным, сколько с историческим, коллективным прошлым. И в этом переживании решается вопрос о преемственности — быть ей или не быть? Высоцкий берёт героя, как будто прямиком вышедшего из его ранней лирики, и разыгрывает драму совершенно иного уровня:
Разомлею я до неприличности, —
Ковш холодной — и всё позади, —
И наколка времён культа личности
Засинеет на левой груди. (Т.1, с.244)
Надличное воспоминание настигает героя в момент наибольшей уязвимости. Воспоминание разворачивается в картины ареста, работы на карьерах и лесоповале, где работали, наколов «профиль Сталина». И весь путь был пройден с ним — и с «анфасом» любимой «Маринки».
Застучали мне мысли под темечком:
Получилось — я зря им клеймён, —
И хлещу я берёзовым веничком
По наследию мрачных времён. (Т.1, с.246)
Сам этот финальный жест выражает весь накал неожиданной для лирического героя внутренней борьбы — неготовность, невозможность расстаться с таким прошлым, каким оно наколото на груди — и неприятие его. «Протопи!.. / Не топи!.. / Протопи! / Не топи!» здесь равносильно нежеланию знать и думать об этом, но герой всё-таки находит в себе силы. Это стихи пушкинского уровня драматизма. Это конфликт, из которого не выпутаться, совершив поступок.
В жанре исторической элегии написаны и несколько стихотворений, которые сам автор предпочёл снабдить заголовком со словом «баллада» — «Баллада о детстве» (1975), «Баллада о борьбе» (1975). Это лирические монологи о становлении поколений, с этапными картинами прошлого — видимо, повествовательное обращение к ним вызывало у поэта ассоциации с балладой, но нетрудно увидеть, что балладный «страшный» сюжет в этих стихах отсутствует в принципе. Зато есть поколенческое «я»:
Все — от нас до почти годовалых —
«Толковищу» вели до кровянки, —
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки. (Т.2, с.181)
Сюжет о преемственности поколений выступает из подробных бытовых картин лишь в нескольких местах, но именно он играет скрепляющую роль, показывая, как неожиданно обернулась преемственность поколений — как «ушли романтики / Из подворотен ворами». А в «Балладе о борьбе» этот сюжет строится вокруг «нужных книжек», которые дают опыт борьбы, ощущение «отцовского меча», первой боли и потери, — и без этого опыта «в жизни ты был / Ни при чём, ни при чём! (Т.2, с.205).
Нельзя, конечно, пройти и мимо «Коней привередливых» (1972). Вся картина помещена в условные пространство и время, мы знаем о них только то, что времени может не хватить, чтобы допеть, а пространство представлено прежде всего краем, за которым смерть. То, что происходит с героем, нельзя иначе описать, как переживание своего порогового состояния. Причём пересечение порога, похоже, не сулит облегчения — «там ангелы поют такими злыми голосами». Элегия этого типа занимается переживанием во всех его тонкостях и парадоксах — он описан ещё на примерах Баратынского и Пушкина и имеет собственное наименование: аналитическая элегия. Видно, что её лирический сюжет близок у Высоцкого к балладному — просто от него взята лишь ситуация, которая развивается только эмоционально, внутренне. Так же написаны и «Песня конченого человека» (1971), и замечательное «Белое безмолвие» (1972), и великолепные по своей сжатости и сложности «Купола» (1975).
Всё это уже обречено остаться классикой.
Роль шедевров
Принадлежность традиции, умение работать с разными жанровыми моделями — от почти фольклорных, до «высоких», способность развивать их, при этом не только не растворяясь в них, но — складывая из них мозаику своего индивидуального художественного мира, — это, по большому счету, филологическое доказательство состоятельности поэта. Высоцкий начинает как поэт принципиально многоликий — и он мог таковым и остаться, не претендуя на собственное «я». Но в зрелом творчестве все линии оказались завязаны в единую, хотя и двоящуюся стилистически сюжетику, в единый образ поэта — не столько стоящего на краю, сколько — вживающегося и таким образом наделяющего голосом окружающий мир в самых разнообразных его проявлениях.
Есть и еще один способ определения уровня поэта.
Мне не раз приходилось слышать — преимущественно, кстати, от редакторов — довольно показательный принцип оценки поэтов: выигрывает не тот, кто написал больше всех хороших стихов, а тот, кто меньше всех написал плохих. Надо понимать, что по этому критерию Высоцкий всегда будет недооценён — так ему приходится расплачиваться в том числе за любовь к «низким» жанрам. Просто сам критерий, на мой взгляд, глубоко неверен. Могу назвать целый ряд авторов, о которых я бы не хотел знать вообще ничего, если бы они не написали буквально несколько неповторимых шедевров. Уровень поэта, конечно, определяется уровнем шедевра. Если шедевр есть, он преображает всё остальное творчество, наполняет его тем смыслом, который рвался-рвался — и в полной мере прорвался, возможно, лишь однажды. У Высоцкого он прорвался не однажды. У него есть два десятка стихотворений, которые выиграют в самой конкурентной поэтической борьбе, — в силу неповторимости. И ещё десятка три-четыре прекрасных текстов, условно говоря, «низких» жанров — и по ряду тем, как мы говорили выше, у Высоцкого вообще не будет конкурентов.
Если кому-то не хватает аргументов для того, чтобы назвать Владимира Высоцкого большим поэтом, то — это были они.
[1] См. Шаулов С.М. Не ждали. Явление Высоцкого истории литературы // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2014-2015. Воронеж: ЭХО, 2015. с.60-83.
[2] Здесь и далее все тексты цитируются по изданию Высоцкий В. Собр. соч. в четырёх томах. М.: Время, 2009. Ссылки на это издание даются в скобках после цитат с указанием года написания стихотворения.
[3] Терц А., Синявский А. Отечество. Блатная песня // Терц А., Синявский А. Литературный процесс в России. М.: РГГУ, 2003. С.270.
[4] Адоньева С., Герасимова Н. «Никто меня не пожалеет…» Баллада и романс как феномен фольклорной культурной традиции нового времени // Современная баллада и жестокий романс. СПб.: Изд—во Ивана Лимбаха, 1996. С.348.
[5] Там же.
[6] Терц А., Синявский А. Указ. соч. С.259.
[7] См. об этом: Богомолов Н.А. Между фольклором и искусством: самодеятельная песня // Богомолов Н.А. От Пушкина до Кибирова: Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. – М.: Новое литературное обозрение, 2004.
[8] Говорю «почти», поскольку исследователь Высоцкого А.В.Кулагин убеждён, что как раз эта песня была написана под влиянием поэта Михаила Анчарова, одного из родоначальников авторской песни, в частности — под влиянием его песни «Цыган-Маша» (1959).