Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 5, 2014
ВЛАСТИМИЛ ГАРРИГ[1]
1. Платон мне друг…
Круглое невежество — еще не самое большое зло: накопление плохо усвоенных знаний гораздо хуже.
Платон
I
29 марта 1870 года ученик 6-го класса («секстан») Венской академической гимназии Томаш Масарик был принят в славянский академический кружок в Вене. Хотя членами «академического» кружка могли быть только студенты, для двадцатилетнего гимназиста Масарика было сделано исключение.
Прием в общество соплеменников-славян среди германского мира заключал в себе одно важное условие: вступающий обязан был принять чисто славянское, древнее, значимое имя.
Серьезность этого требования напоминала не то обряд инициации, во время которого мальчик, становясь воином, менял свое «детское» имя на «мужское», не то традицию мудрых даосов — каждые семь лет менять имя, чтобы при этом перерождаться в нового человека.
Как бы то ни было, Масарик решил стать патриотическим «мужчиной». Выбрал себе очень значимое имя «Властимил» (по-чешски — «любящий родину»). Хотя вряд ли при этом переродился в древнего славянина.
Несколько позже в личном дневнике, никогда не предназначавшемся к публикации, он записал: «Мы, австрийцы…». Как в приватной жизни, так и в общественной, он считал себя «критически мыслящим австрийцем» вплоть до первых месяцев Первой мировой войны[2] — когда почувствовал, очевидно, что теперь можно стать и «критически мыслящим чехословаком»…
Однако в те же годы в письме другу Масарик высказался и несколько по-иному: «Что касается патриотизма, то я чех душой и телом и не настанет такого времени, когда бы я забыл речь, которую с детства воспринимал как родную. Однако, кроме того, что я чешский патриот, я еще и космополит… — и этим все сказано»[3].
Австриец, чех, космополит…
Но было и еще одно определение: «Мы, чехи, находясь в тесном и непрестанном общении с немцами, служим исторически данным соединительным мостом между культурами, между Германством и Славянством… Такова издавна наша работа на пользу человечеству в целом и Славянству в частности»[4].
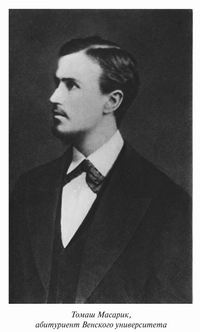
Мост между немцами и славянами — значит, ни немец ни славянин? Или — и немец и славянин (каким Масарик и был по рождению: мать — немка, отец — словак)?
Да, Масарик в конце XIX века выразил это свое ощущение «конструктора моста» такими словами, как «австриец», «космополит». А в начале XXI века, обратившись к чехам в разговоре как к славянам, мы услышали такой ответ: «Не славяне — среднеевропейцы».
Кажется, вот это и хотел сказать довоенный Масарик, одновременно принявший славянское имя «Властимил» и писавший: «мы, австрийцы…»
Но на этом широта его самоидентификации далеко не закончилась…
II
Курс философского факультета, на который перешел Масарик, после смерти брата Мартина навсегда простившись с классической филологией, был трехлетним. Итогом обучения должна была стать диссертационная работа по специальности, успешная защита которой приносила диссертанту титул доктора философии (но не докторскую степень!). Специальностью Масарика была философия, то есть «любовь к мудрости».
За годы учебы план работы у Масарика в голове постепенно созрел. В 1875 году он принялся за его воплощение на бумаге. Это должен был быть труд о любимом философе Масарика — Платоне, ученике Сократа.
Но еще до начала трудов над докторской диссертацией в Ораторско-литературном клубе академического венского кружка Масарик прочел свои первые доклады на темы философии, истории и социологии — «Об истории философии» (в декабре 1873), «О философии Гартмана» (зимой 1873—1874), «О России» (в ноябре 1875), «О самоубийстве» (зимой 1875—1876).
В докладе, посвященном немецкому мыслителю Эдуарду Гартману, Масарик выступил против его «пессимизма». Масарик вообще активно и принципиально выступал тогда (1873—1876) против «пессимистической философии». А поскольку Гартман был последователем Шопенгауэра, Масарик должен был непременно разделаться и с Шопенгауэром.
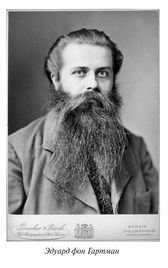
Почему именно в это время Масарик восстал против пессимизма? Ответ очевиден: он только что потерял брата Мартина, вслед за ним — своего главного благодетеля Ле Моньера, разочаровался в классической филологии, пережил в Вене эпидемию холеры, наблюдал крах Венской биржи и еще одну эпидемию — самоубийств, и если бы еще в дополнение ко всему этому он проникся модной тогда повсюду философией мировой скорби, жизнь его потеряла бы всякую цель и всякий смысл. Ей просто не на чем было бы держаться: глубокой интуитивной веры у Масарика уже не было, веру стала заменять поверхностная рациональная логика.
Но научной логики было мало, чтобы держаться в этой жизни. Нужна была еще страсть. Масарик хотел в За́мок, он должен был выполнить, пока был жив, какую-то миссию, какую, он еще и сам не знал, но, как это бывало с ним всегда и как это будет с ним потом, увидев, что все идут в одну сторону, он — возможно, чисто инстинктивно, тут же шел в противоположную.
Отсюда резкое и бескомпромиссное отвержение таких идолов эпохи, как Эдуард Гартман и его вдохновитель Шопенгауэр. Конечно, важно было то, что́ каждый из них конкретно писал и говорил, но еще важнее для Масарика было то, что оба философа вошли в моду, что все перед ними преклонялись. Масарик этого не выносил — создания модных идолов, преклонения перед кем-либо. Он и к старику Францу-Иосифу I повернулся спиной — во время приема австрийским императором депутатов Имперского совета. Рабство (или то, что он воспринимал как рабство) — в любом его виде, физическом или интеллектуальном — он отказывался испытывать, да еще добровольно, — ему было достаточно детских лет, когда он наблюдал рабство своего отца.
Однако в такой позиции таилась и опасность гиперкритицизма, просто из чувства «вопреки», «наперекор», «а я вот так…». Эта черта еще терпима у частного лица, но у политического деятеля?.. В то время как политика — это искусство компромисса…
Вот заявление Масарика 1913 года: «Я не позволял, чтобы мои политические убеждения мне диктовали из Праги, не позволю, чтобы мне их диктовали и из Вены, как я не позволял этого во время процесса Хильснера, во время Загребского процесса, да и теперь не позволяю…»[5]
Возможно, именно из этого свойства характера и проистекает жестокая, наперекор мнениям чешской политической общественности, борьба Масарика в годы мировой войны за выход чехов «на волю» из австрийского защитного кокона.
«Одна только мысль о том, что чех должен был бы все на свете выпрашивать как нищий, повергает меня в ужас…»[6], сказал он еще в 1895 году в своей работе «Чешский вопрос».
III
Итак, перед тем как начать размышлять и писать о Платоне, Масарик размышлял и писал о Гартмане и Шопенгауэре. Доклад о Гартмане, сделанный в 1873 году, пропал, а «лекцию» о Шопенгауэре Масарик в феврале 1875 года послал редактору пражского журнала «Освета» Вацлаву Влчеку. В обеих своих работах, о Гартмане и Шопенгауэре, Масарик предупреждал, что чешский народ надо спасать от немецкого пессимизма. Бил в набат и призывал не распространять вредные труды Шопенгауэра и Гартмана в чешском обществе.
Конечно, пражские интеллектуалы смотрели на выскочку из Вены с некоторым недоумением, возможно, даже с брезгливостью. Когда Масарик, придя в гости к чешскому профессору Венского университета, преподавателю чешского языка и литературы Алоизу Шембере, стал распространять свои антишопенгауэровские идеи в присутствии приехавшего к Шембере в гости известного пражского философа Йозефа Дурдика, пражанин, услышав все это, довольно выразительно… промолчал, поскольку, очевидно, понял, что спорить с молодым провинциалом бесполезно. Масарик за это молчание на Дурдика очень обиделся и поспешил обвинить его в высокомерии и авторитарности.

На первый взгляд, действительно странно, что Масарик, будучи студентом философии, то есть уже отчасти профессионалом, так примитивно, с позиции исключительно социального заказа, воспринял философию Шопенгауэра. Масарик вынес немецкому философу очень жесткий вердикт: он приговорил его к молчанию — по крайней мере на пространстве, которое занимал чешский этнос.
Но вся «странность» мигом исчезает, если мы поймем, что Масарик написал эту статью не как конкретный «Масарик», а как символический «Властимил». В данном случае отстаивание не философской истины, а патриотической позиции было главной задачей славянского студента Венского университета, не поиск понимания, но защита заданной идеи.
Как мы уже отмечали, весьма своеобразный чешский язык Масарика не вызвал энтузиазма у такого языкового пуриста, каким был Влчек, редактор журнала «Освета» (т. е. «Просвещение»)[7], но не язык был главной причиной отказа печатать масариковский текст о Шопенгауэре. Теперь нам должно быть ясно, что главной причиной было совсем другое — мудрый Влчек понял: явился идеолог. Причем идеолог с запретительной идеологией.
Ибо Масарик требовал не более и не менее, как запретить в Чехии философа — за его идеи, противоречащие идеям самого Масарика. Запретить философа следовало по той простой причине, что его мизантропические тексты могли плохо подействовать на, очевидно, неподготовленный в умственном плане и склонный к впитыванию всяких чуждых антиславянских влияний чешский народ, могли развратить его, то есть лишить оптимистической надежды в процессе тяжкого противостояния немцам.
И действительно, Зденек Неедли пишет, что, с точки зрения Масарика, народ чешский был мал и слаб, несвободен, несамостоятелен, из последних сил боролся за выживание, и потому нельзя было его ко всему прочему еще и соблазнять вредным учением. Народу предстояла борьба за национальное будущее, в котором не должно было быть никакого пессимизма. Поэтому нечего было ему, народу, читать Шопенгауэра, а интеллектуалам незачем было его переводить и публиковать свои переводы в целях удовлетворения своего эгоистического тщеславия.
Так прямолинейно, как это излагает Неедли, Масарик, конечно, не рассуждал, и, свободно учась вместе с другими чешскими, моравскими и силезскими студентами в Венском университете, вряд ли считал, что таким образом чешский народ из последних сил борется за выживание, но статью он действительно написал резко антишопенгауэровскую, со всей страстью студенческого максимализма. И не только написал статью, но и призвал лично философа Дурдика (того самого, которого встретил в гостях у Шемберы), чтобы тот способствовал запрету распространения в Чехии философии Шопенгауэра. Можно себе представить изумление Дурдика, когда он это услышал! Ведь дажеправительство не запрещало — философов.
А еще, на свое несчастье, Масарик написал эту свою статью как раз в то время, когда в журнал «Освета» поступили материалы о Шопенгауэре от пражских философов Мирослава Тирша и Франтишека Закрейса, которые справедливо видели в немецком мыслителе глубокий ум и трагическую душу.
Суждение Масарика было, конечно, более чем примитивным. Когда бы оно было просто примитивным, это было бы еще полбеды, и в таком случае печатать его статью было бы ошибкой, но суждение Масарика было агрессивно антидуховным, и в этом случае печать его текст было бы преступлением. Влчек мгновенно это понял. Биографы же Масарика сделали из этой рядовой истории целый заговор против будущего президента, которому злые «пражане» («злые завистники», «злые интеллектуалы» и т. п.) не давали возможности реализоваться.
IV
Одной из программных мировоззренческих работ Масарика-диссертанта стала статья о патриотизме… Платона.
Статья о земном патриотизме родоначальника философского идеализма родилась в результате работы Масарика над докторской диссертацией «Сущность души в учении Платона», которую он начал писать в 1875 году по-немецки (Das Wesen der Seele bei Plato). Статью же «Платон как патриот» (Plató jako vlastenec) Масарик писал по-чешски, и она была напечатана в «альманахе моравской молодежи» «Зора» в конце 1876 года за подписью «д-р Властимил Масарик».
Чешский текст этой рукописи фактически вынужден был создать заново сотрудник редакции альманаха мораванин Леандр Чех, но он все-таки не отказал Масарику, как отказал ему пражанин Влчек. Оригинал рукописи так и остался в архиве Леандра Чеха. После смерти Чеха рукопись перешла к его дочери Ярмиле, вышедшей замуж за учителя Ярослава Бажанта. Последние годы своей жизни Бажант провел в городе Писек, где в самом начале нацистской оккупации закопал рукопись статьи Масарика о Платоне в саду за домом. Когда рукопись откопали в 1945 году, она рассыпалась в прах. Так погиб оригинал очень важного масариковского текста.
Зачем нужно было спасать от немцев в 1939 году текст о патриотизме древнегреческого философа Платона (428—347 до н. э.), можно понять, только если мы предположим, что речь в этом тексте шла на самом деле совсем не о Платоне и не о его афинском патриотизме, а о чем-то совсем другом, весьма современном и животрепещущем.
Действительно, статья эта — знаковая для мировоззрения нашего героя, в ней прослеживается весь будущий путь Масарика в чешском обществе. В ней Масарик говорит, что он будет бороться с чешским (немецким, любым) обществом не на жизнь, а на смерть, если это общество будет лгать, фальшивить и скрывать правду. Так сказать, пепел Сократа, выпившего цикуту, стучит в мое сердце, хотел сказать Масарик в статье «Платон как патриот».
Поэтому закапывание этой рукописи Масарика в землю с целью спрятать ее от чешских интеллектуалов еще можно как-то объяснить — скажем, паранойей. Ведь текст этот давно уже был напечатан. Но зачем его было прятать от немцев в 1939 году — это выше нашего понимания. Здесь единственным объяснением может быть только страх владельца рукописи, который боялся, что драгоценная реликвия попадет в руки германским завоевателям. Если это так, то мы имеем дело с еще одним, весьма показательным примером патриотического культа — на этот раз культа мощей святого текста. Подобный тип поведения автор самого этого текста страшно не любил…
V
Существует распространенный образ Масарика — царствующего философа, который таким образом воплотил на практике политические идеи другого философа — Платона. Это верно — воплотил, или по крайней мере пытался воплотить. Но не как философ. А как неудачливый прагматик. Неудачливый, потому что был одновременно прагматиком и утопистом. А это — «две вещи несовместные», из их слияния еще никогда ничего кроме абсурда не получалось.
Поэтому философом в истинном смысле слова Масарик, конечно, не был. Да и никакой философской школы он после себя не оставил, так же как и не создал никакой философской системы и никакого учения, никакого «масарикианства». Масарик, скорее всего, может быть понят как частный догматический мыслитель. Как весьма своеобразный мыслитель, не согласный до конца ни с кем, в том числе и с собственными учителями. К тому же духовными учителями Масарика были люди, представления которых об универсуме и жизни в нем, если их сопоставить, — совершенно расходились друг с другом.
Эллин Платон, отец поэтического идеализма, то есть учения о том, что конкретная домашняя кошка есть воплощение некоей метафизической «кошковатости», висящей где-то там в небе или за небом; француз Огюст Конт, основатель строгого позитивизма, то есть всепоглощающей веры в науку как новую религию; шотландец Дэвид Юм, великий скептик, сомневающийся в возможности познания человеком мира в силу слишком ограниченного спектра его чувственного восприятия…
Конечно, Масарик впитал в себя учения не только этой троицы, он отдавал должное и Паскалю, и Миллю, и Энгельсу (посмеиваясь над Марксом как ограниченным приверженцем коллективизма), и Лейбницу, и Льву Толстому, но начал будоражить сознание юного Масарика афинянин Платон.
Хотя, с нашей точки зрения, огромное и определяющее воздействие на всю жизнь Масарика-человека, культуртрегера и политика, оказал все же позитивист Огюст Конт. Конт дал Масарику самое важное — метод, то есть инструмент познания и образ действия. Этим методом была научная классификация всего, что дано. Распределение, разложение объектов по полочкам и затем соответственное их использование и соответственное с ними обращение. Такова разумно устроенная жизнь цивилизованного человека — особенно его политическая жизнь.
Осененный этой идеей разумного приведения в порядок всего, что пока еще находится в беспорядке, Масарик искренне был уверен, что с помощью строгих научных оснований и методов можно безопасно продвигаться по пути прогресса, — и был очень удивлен, когда, став президентом, увидел, что люди глупы, что они не понимают самых простых вещей, таких, например, как научность подхода к политике, что все они подвержены каким-то совсем ненужным и лишним страстям и эмоциям, что они создают радикальные партии и экстремистские группировки, совершают покушения, не хотят подчиняться центральной власти, требуют каких-то прав для каких-то национальных меньшинств в унитарном государстве одного народа, отрицают основополагающие идеи прекрасно задуманного общественного целого и совершают прочие совершенно безрассудные поступки, когда ведь все так понятно в этом мире, и надо просто это понятное разумно организовать.
Но не получалось. Не получалось разумно организовать, не получалось следовать Конту, и Масарик вынужден был следовать Платону. Если философ на троне не мог убедить подданных в правоте своей политической логики, он должен был заставить их в нее поверить, на худой конец, ей довериться. Но для этого он должен был стать диктатором.

«Масарик, предпочитавший правительство специалистов (правительству, сложенному из представителей политических партий. — С. М.), не был чужд помышлениям о “гуманной” диктатуре, которая укрепила бы нашу все еще незрелую демократию; сам себя он и считал своего рода просвещенным диктатором. Журналистам осенью 1933 года он сказал: “Если хотите, это (моя система правления. — С. М.) есть вид диктатуры… При определенных обстоятельствах демократия вполне может совмещаться с диктатурой… Саму демократию должны осуществлять эксперты… Глава государства не должен заниматься подсчетом голосов избирателей, он должен просто назначать правительство специалистов, тех, кто сведущ в искусстве управления…”. Английский журналист, бравший это интервью у Масарика, не выдержал и заметил, что Масарик полностью повторяет аргументы Муссолини…»[8]
Однако задолго до Муссолини эти аргументы обосновал Платон.
VI
Афинянин Платон (имя при рождении Аристокл, что значит «доброславный»), воспитанник Сократа, воспитатель Аристотеля. Родился в день рождения бога Аполлона, покровителя искусств. Зачат непорочно.
Масарик узнал о Платоне в старших классах Венской академической гимназии, сразу его полюбил и стал усердно изучать родной язык философа, следуя известному принципу — «я древнегреческий выучил бы только за то, что им разговаривал Платон». Ничего странного: и Осип Мандельштам выучил итальянский только затем, чтобы читать в оригинале Данте и Петрарку (а не для того, чтобы бежать из России в Италию).
В университете, перейдя с филологического на философский факультет, Масарик поставил перед собой «смешной» вопрос: что такое философия? «Смешной» потому, что обычно предрасположенный к философии человек занимается тем, что сначала неосознанно философствует, читает соответствующие книжки, разбирается в том, кто из философов ему ближе, пытается понять, чем отличается одно философское учение от другого, и только потом принимает осознанное решение поступить на факультет, где эта отрасль человеческого знания и преподается и изучается профессионально.
Масарик же сначала пришел на факультет, а потом спросил: «Как человек становится философом? Что он должен для этого изучать? Математик, физик, юрист, врач — у всех у них ясная научная колея, все они знают, сколько времени им надо будет учиться своей специальности… а философ? Доктор медицины имеет право лечить, перед ним — вполне определенная практика жизни, а что имеет доктор философии? Титул, ничего больше — и еще право выбирать депутатов в парламент…»[9]
Не исключено, что главным образом именно вот ради этого последнего — возможности и права, обладая ученым титулом, легитимно участвовать в политической жизни империи, — Масарик и решил получить высшее образование и титул доктора…
Дальше путь к Платону пролег таким образом: «Я собирал разные определения философии, читал разные тексты… но мудрости не обрел», — признается Масарик. «Я был в отчаянии и попросил тогда совета у одного известного философа (это был неокантианец Роберт Циммерман, профессор Венского университета, опять-таки благодетель-немец. — С. М.). Он мне посоветовал — для того чтобы узнать, что такое философия, — проштудировать ее историю… Ну и только я пустился в изучение истории философии в хронологическом порядке, тут же меня захватил Платон.
Именно вот это меня зацепило, что уже Платон мучился с определением, кто есть философ…
Классификации Платона привели меня позднее к классификациям наук, и так я постепенно пришел к Конту. От него я заодно узнал и что такое социология. И я понял, что только в результате полной классификации специальных наук может быть определено, что такое философия и чем она должна заниматься…»[10]
Вот тебе и на. К чему же Масарик пришел в результате того, что его «зацепил Платон», этот великий идеалист, утопист и поэт мышления? — к тотальному анатомическому позитивизму! Все явления жизни и мира, то есть «путь всех вещей», — разложить, разъять, заформалинить, сугубо научно классифицировать, и тогда в атласе внутренних органов и костей скелета препарированного универсума станут ясно видны очертания философии, ее задачи и цели.
Но так ли пролегает путь к обретению философии, то есть искусства созерцания СИНТЕЗА, искусства междисциплинарного и сверхдисциплинарного размышления о ТВОРЕНИИ и человеке в нем?
По всей видимости, на пути классификации явлений для последующей прагматической манипуляции ими рождается все же не философ, а кто-то совсем иной. Да Масарик и сам отвечает на вопрос — кто. Сказав: «я рос на Платоне», Масарик добавляет: «Платон был моим первым и главным политическим учителем»[11]. «Политическим», не философским!
VII
Учение Платона об «эйдосах», о существующих независимо от воли и сознания человека идеях — прообразах всех вещей (как упомянутая выше идеальная «кошковатость», рождающая материальную «кошку») Масарика интересовало очень мало или, скажем так, интересовало лишь теоретически. «На практике» же его интересовало совсем другое — платоновская «социология», платоновская «политика», то есть концепция идеального общества, строящего идеальное государство, — методология этого строительства.
К какому же пониманию «политики» Масарик в результате чтения Платона пришел? Вот его ответ: «Политика содержит в себе элемент поэзии; она содержит в себе столько поэзии, сколько в ней творческого действия. Я полагаю, что мы способны сознательно формовать и компонировать жизнь своих близких, что жизнь можно и должно созидать… Ибо что есть политика, настоящая политика, как не сознательное формование людей, как не сотворение и конструирование действительной жизни?»[12]
Это, конечно,— гимн прагматической манипуляции. И еще: «Политика стала прикладной наукой… Философия самым непосредственным образом связана с политикой, поскольку философия стремится к созданию цельного мировоззрения, цельного взгляда на жизнь… а тем самым и на общественную жизнь (курсив наш. — С. М.). Сегодня политика современного государства… стремится практически к тому, к чему философия стремится теоретически. Именно в этом смысле надо понимать требование Платона о том, чтобы правителями были философы. Наряду с созданием цельного взгляда на жизнь и мир философия хочет познать фундаментальные истины нашего поведения и познания… Государственный деятель, который возвышается над всеми конфликтами, должен постоянно решать, где истина. Современный государственный деятель должен быть мудр… И не только мудр:он должен уметь погружаться в сознание людей своей эпохи, должен уметь предчувствовать направление общественного развития и видеть идеал, к которому это развитие стремится, — должен иметь воображение… Политик, чтобы вести за собой, должен знать людей — о каком лидерстве может идти речь, если он не знает, чего хотят люди? <…> И повторяю еще раз: прочитанные книги, свидетельства о полученном образовании для политика недостаточны; политик должен иметь жизненный опыт; даже не ум — в политике, как и во всем остальном, речь идет о том, что человек представляет сам по себе»[13].
Если речь не идет ни об образованности, ни даже об уме, а о том, «что человек представляет сам по себе», то тогда речь идет вообще совсем о другом измерении человека — тогда речь идет о харизме.
VIII
Огромное впечатление, по всей видимости, на всю жизнь, произвела на Масарика концепция Платона о необходимости передачи всей власти в государстве лидерам-мыслителям, правителям-философам,вышедшим из народа, выдвинутым народом и ведущим народ, — то есть безусловно обладающим непререкаемой харизмой. Вспомним, что означает это понятие. Слово «харизма» — греческого происхождения и буквально переводится как «милость», «дар». Этот дар — сверхъестествен, то есть человек сам по себе не в состоянии «наработать» или «воспитать» в себе харизму с помощью каких бы то ни было усилий, медитаций, тренировок. Потому это и дар. Он дается Высшими Силами, как бы мы «их» ни называли и как бы мы к «ним» ни относились («они» — это может быть Бог, но может быть и просто определенное сочетание хромосом, или генов, или химических элементов в организме).
С этим даром человек рождается, хотя и не сразу этот дар может в нем открыться. Это может быть дар высочайшего ума, интеллекта, нравственных качеств, обаятельности, притягательности, уникальной духовности, невероятной доброты или патологической ненависти, но все вышеперечисленное не обязательно и — не самое главное. Самое главное — это ощущение людьми воздействия на них некой колоссальной энергии принуждения и одновременно доверия, исходящей от харизматически одаренного человека.
Что это за энергия, мы не беремся судить. Возможно, это просто результат неких физических процессов и химических реакций в мозгу и теле харизматика, действующих на нашу химию и нашу физику (и физиологию) — и ничего больше.
Одно из лучших описаний воздействия харизмы, которое нам попалось, принадлежит Стиду.
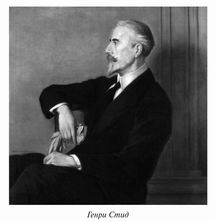
Генри Уикхэм Стид (Henry Wickham Steed, 1871—1956), британский журналист-международник и один из первых профессионалов создающейся на марше британской разведки, будет еще очень важным персонажем нашего повествования, поскольку он, среди других англосаксов, вскоре займет место в череде новых благодетелей Масарика (теперь уже не немцев!) — на этот раз на поле дипломатической деятельности.
В молодости Стид получил работу парижского корреспондента нью-йоркской газеты World, а затем перешел в британскую The Times и постепенно стал специалистом по Германии и Австро-Венгрии. О политических и расовых взглядах Стида и об общей направленности Times как органа агрессивной и дезинформационной пропаганды мы еще поговорим, поскольку и то и другое сыграло свою роль в процессе изобретения Масариком, Стидом и другими государства Чехо-словакия. Здесь же — лишь маленький эпизод из молодости Стида, из начальных времен его журналистской деятельности.
В июле 1892 года Стид отправился в Германию учиться политической журналистике. Первую корреспонденцию Стид послал из Йены о речи Бисмарка, который говорил, что Германия больше не должна воевать, а тем более на два фронта, — и особенно, если один из этих фронтов будет русским. В своей корреспонденции Стид пишет: «Бисмарк обладал особым личным магнетизмом и вызывал трепет у каждого, кто находился рядом с ним. Не избежал этого трепета и я. Более того, чувство, которое я тогда испытал, засело у меня в памяти, в моих бессознательных реакциях. С тех пор это чувство служило мне своеобразным эталоном для измерения человеческой индивидуальности. Существует очень мало людей, одно присутствие которых, благодаря их внутренней силе, — еще до того как они откроют рот и что-нибудь скажут, — заставляет трепетать присутствующих так, что у них мороз идет по коже. У Бисмарка такая сила была»[14].
Как нам кажется, это очень точное и красивое описание харизмы. Такая сила была и у Масарика. Недаром от своих приверженцев он получил прозвище Пастырь(!). Так же как и Бисмарк (хотя, безусловно, и в меньшей степени), Масарик порой воздействовал на людей одним своим присутствием, даже одним своим молчанием. А иногда не воздействовал — и тогда терял контроль над собой. Так, его (чешскую) харизму совершенно не воспринимали (австрийские) министры иностранных дел — ни Алоиз фон Эренталь, ни Леопольд фон Берхтольд.
Платоновская идея «философов-правителей» настолько засела у Масарика в сознании — при том что ведь он и сам, его судьба, вся его политическая карьера были подтверждением этой идеи, — что и «вождей» своей эпохи он подчас воспринимал так же, то есть как вышедших из народа прирожденных лидеров-«философов», носителей безусловной харизмы, наличие или иссякновение которой (например, в трагической ситуации императора Николая II) этнос немедленно чувствует. Потому, скажем, и избрание Гитлера общегерманским канцлером в январе 1933 года Масарик воспринял как выражение победы прямой «народной демократии».
Один из лучших современных чешских историков, Антонин Климек, замечает по этому поводу: «Президент Масарик видел в [немецком] нацизме, — как и в [итальянском] фашизме и [русском] коммунизме, — элементы народные, демократические; в своем понимании истории он не учел возможность появления тоталитаризма; главную опасность для народа он по-прежнему усматривал в реставрации монархизма. В интервью английским газетам в марте и июне 1933 года Масарик сказал: “Новым вождям необходима опора в народе, и все они происходят из народа: Гитлер, Муссолини и Сталин, все они из народа. Это есть особый вид демократии…”»[15]
Таким образом, Масарик увидел в избрании Гитлера канцлером Германии успех германского, приближающегося к идеальному платоновскому, государства и просто не заметил, что это избрание было победой ультрарадикального национализма и расизма, которые, как правило, и выходят на поверхность в результате торжества так называемой прямой демократии, то есть торжества архаического большинства этноса.
IX
Платона Масарик ставил между апостолом Павлом и Иисусом Христом, то есть на второе место, а первое, место самого Иисуса в философии, он присуждал Сократу. Чем же Сократ так нравился Масарику?
Оказывается, опять же, не своим философским учением, как и в случае c Платоном, а умением в диалоге доказать оппоненту, что тот — некомпетентен (а грубо говоря — просто идиот). «Иисус был для меня религиозным пророком», сообщает нам Масарик, «а Сократ — философским… Ох уж эта его… ирония! Вот остановит он на улице жреца и так долго расспрашивает его о религии, пока греческий отец сам не поймет, что он болван (trouba); или, например, говорит он с генералом о военной науке или с софистом о софистике и показывает всем, что эти люди не способны разумно мыслить даже о том деле, которым они профессионально занимаются… (ti lidé nedovedou myslet ani o svém kšeftu)»[16].
В этом замечании Масарика о Сократе как в зерне содержится все его отношение к окружающим и способ держать себя с ними: в течение всей своей сознательной жизни он доказывал самым различным людям, что они ничего не понимают в своей профессии — философ в философии, историк в истории, филолог в филологии, священник в религии, министр иностранных дел во внешней политике, император в управлении империей… И Масарик терпеливо (или гневно) им объяснял, почему каждый из них на самом деле — trouba.
Например: «Платон является для меня авторитетом в обосновании бессмертия души. В этом смысле я платоник… Я выступаю вместе с Платоном против современных теологов, которые хорошенько не понимают, что им с верой в это бессмертие души делать…»[17]
Что касается первой части этого высказывания о Платоне как «авторитете в обосновании бессмертия души», то оно прозорливо и верно. Хотя можно и задать вопрос: как же так, почему для Масарика авторитетом в вопросе бессмертия души является древнегреческий язычник, а не Сын Божий, в которого Масарик ведь верил гораздо раньше, чем узнал о существовании Платона?
Ответ на этот вопрос совершенно неожиданно (как бы) — на самом деле не-ожиданностей нет, все для нас предуготовлено — дает русский философ Владимир Соловьев. Соловьев ведь был ровесником Масарика (младше на три года), и свой ответ о Платоне, опять же, казалось бы, по удивительному мистическому совпадению, дал как раз в те годы, когда Платоном занимался и Масарик (1873—1876). А за два года до смерти, в 1898 году, Соловьев написал специальное исследование, во многом интимное и исповедальное, «Жизненная драма Платона». О бессмертии же души и в связи с этим о Платоне Соловьев написал вот что: «…Греческая философия начинается с… Сократа. Сущность… взята из восточных религиозных систем. Гораздо ранее появления философии у нас, на… Востоке существовали уже целые системы… Это целый умственный мир, и открытие теперь этого мира важнее открытия Америки… Гимн Ригведы: воплотившийся дух, многоокий, многоголовый, коренился в груди человеческой и вместе с тем проникал во всю вселенную. Это существо есть мир, все, что было и что будет… Элементы этого (т. е нашего, земного. — С. М.) мира составляют только четверть его существа, остальные три четверти составляют его бессмертие в небе. Эти три части возвышаются над [нашим] миром, одна же остается в [нашем] мире и есть то, что в странствии души пользуется… плодами… [ее, души] дел… Философия Платона есть, в сущности, то же самое, только развитое во вкусе эллинского гения. Христианство имело основой это же самое, только с прибавлением некоторых исторических фактов. И, наконец, новая западная философия приходит к признанию тех же самых истин, которые 1000 лет тому назад исповедовались на берегах Ганга…»[18]
В общем именно так относился к христианству и платонизму и Масарик — «христианство имело основой то же самое, только с прибавлением некоторых исторических фактов…», поэтому первым, чтобы не углубляться до Ригведы, «авторитетом», обосновавшим, по крайней мере в Европе, идею бессмертия души, он и считал Платона.
Что же касается второй части высказывания Масарика, где он говорит, что выступает «вместе с Платоном против современных теологов, которые хорошенько не понимают, что им с верой в… бессмертие души делать… (jdu s Platónem proti moderním teologům, kteří si s vírou v nesmrtelnost nevědí dost dobře rady)», то здесь речь идет о совершенно определенном симптоме (или скорее синдроме) душевного состояния самого Масарика. Это симптом непреодоленных «комплексов неполноценности» (inferiority complex), обретенных в детстве и юности. Результатом такого «непреодоления» становится очень часто совсем обратный «комплекс» («комплекс» размышления и поведения вопреки, назло, наперекор), так называемый комплекс превосходства (superiority complex), иначе называемый манией величия. Первый признак такой мании — убеждение в своем монопольном праве на обладание истиной — в той или иной области знания, а чаще всего — во всех существующих и вместе взятых.
В большой степени именно с этих позиций, то есть с позиций своего монопольного права на обладание истиной, Масарик и рассматривал своих современников (во всяком случае, своих чешских современников), которые, с его точки зрения, такого права были лишены. Кем? Провидением! Провидение (Prozřetelnost) всегда было на стороне Масарика. Не знаем, полагал ли это всерьез он сам, но так по крайней мере считают его биографы. (А вот кто сам был бесконечно уверен в том, что он есть дитя Провидения, Промысла Божия, так это Эдвард Бенеш, талантливый ученик, соратник и последователь Масарика, второй после него президент республики…)
Лишение права на знание истины и поддержку Провидения распространялось, как мы видим, и на теологов. Оказывалось, что все современные Масарику богословы (перечислять которых здесь мы, естественно, не будем, упомянем только первых, моментально пришедших в голову, скажем, Тейяра де Шардена, Жака Маритэна, Габриэля Марселя), пишущие в своих трудах о вечной жизни, которая ждет каждого человека в результате личного Спасения… понятия не имеют, о чем они пишут и что им с этой вечной жизнью делать…
X
Точно так же и с еще бо́льшим презрением Масарик относился и к политикам (конечно, имеются в виду политики Австро-Венгрии; к политикам Антанты Масарик относился с прагматическим пиететом). Что путного могли эти политики сделать, если они не читали книжек Платона и не руководствовались его государственными идеями?
Так каковы же они, собственно говоря, были, эти государственные идеи Платона? В своих трактатах «Государство» и «Законы» и в диалоге «Политик» Платон рассказывает нам, каким ему видится идеальное государство. Речь идет именно о государстве как идее, о полисе-эйдосе.
Эйдос полиса (т. е. прообраз идеального государства в мире идей) существует сам по себе — извечно и непоколебимо, точно так же, как эйдос кошки. Здесь, на земле, нам нужно стремиться отразить его — эйдос полиса — в нашем реальном земном государственном строительстве, как в гигантском общественном зеркале. Поскольку вещи вообще несовершенны, а совершенны только их идеи (эйдосы), несовершенны пока и все виды и формы государств на земле. Это все «человеческое, слишком человеческое…» Наша задача — совершенствовать государство и досовершенствовать его до такой степени, чтобы оно в максимально возможной земной версии соответствовало своему сверхъестественному эйдосу (поскольку полное, тотальное совпадение конкретной вещи (кошки) и ее общей идеи (кошковатости) принципиально невозможно). Это строительство все более совершенного государства, строительство, уходящее в бесконечное и все более совершенное будущее, нам знакомо…
Но это еще не все, что вызывает в нашем сознании естественные аналогии с тоталитаризмом коммунистического толка. Есть у Платона в запасе и еще одна великая мысль: счастье отдельного человека не берется в расчет при совершенствовании государства до роли все более гармоничного отражения неизвестно чего, в расчет берется только счастье этого государства в целом! Его сугубое совершенство, его максимальная гармония — вот счастье целого.
Платоновский человек оказывается тем самым хорошо нам известным пресловутым винтиком общего механизма, он должен знать свое место в буквальном смысле этого слова, поскольку в приближенном к идеальному государстве Платона каждый должен безропотно занимать отведенную ему социальную нишу (общество делится на четыре разряда, государство строго наблюдает за строгим соблюдением раз и навсегда данных общественных отношений и т. д. и т. п. — все это уже тысячу раз описано Замятиным, Оруэллом и даже — хотя и с обратным знаком — Николаем Гавриловичем Чернышевским, если внимательно приглядеться к «снам Веры Павловны» из романа «Что делать?»).
А если у кого-то возникают с его нишей проблемы, то к нему борющееся за свое счастье государство может применять меры физического принуждения (наручники, дубинки, розги, парализаторы, нагайки, водные пушки, слезоточивый газ, резиновые пули, в крайнем случае — цикуту…).
Применять эти меры позволяют самые совершенные (справедливые) законы. Законы же эти разрабатывают правители совершенствующегося государства. Этих правителей учитель Платона Сократ называл совсем как Дон Хуан у Кастанеды — «знающие», «ведающие» (почти «видящие»). Платон им дал название «философы». Вот и ответ для Масарика: «философ» это тот, кто лучше всех в мире умеет управлять самым лучшим в мире государством.
Кажется, что Масарик понял это определение Платона совершенно буквально и, создав лучшее на среднеевропейском и восточноевропейском пространстве демократическое государство, стал им, с его, масариковской, точки зрения, философски и гуманно управлять. Это правление в следующих главах нам придется, однако, описывать в терминах Яакова Лейба Талмона, автора знаменитой книги о происхождении «мессианской демократии»…
Платон, таким образом, был, возможно, первым догматическим (и даже в какой-то степени тоталитарным) мыслителем, особенно в области политологии, в своей утопической концепции совершенного государства, которая через многочисленные модификации многочисленных утопистов (Кампанеллы, Томаса Мора, Роберта Оуэна, Сен-Симона, Фурье и др., имя им легион) дошла и до наших дней — в лице целого ряда «этно-коммунистических» проектов и модификаций.
XI
До воплощения в земной реальности рецептов Платона относительно государственного строительства Масарик, слава богу, не дошел (да и не собирался доходить, увидев вовремя для самого себя (вот исторический парадокс!) развернувшееся строительство идеального государства русскими большевиками, — со всем, что при таком строительстве обычно происходит). Тем не менее идеи Платона Масарик считал весьма оптимистическими. И именно этот оптимизм он и противопоставил пессимизму Шопенгауэра, во-первых, и фанатизму обязательной религии, во-вторых. Здесь ядро размышлений Масарика.
Из католицизма Масарик ушел еще в конце 1870-х годов, полностью разочаровавшись в людях католической церковной иерархии, которых он позднее называл «злейшими врагами нашего народа». Впоследствии он уже полностью разделял мнение своего единомышленника, протестантского священника, американского чеха В. Краличека, который писал Масарику: «Католицизм — это большевизм в религии, тогда как большевизм — это католицизм в хозяйственной жизни»[19]. Уйдя из католицизма, а затем женившись на американской протестантке Шарлотте Гарриг, Масарик спонтанно потребовал у своего знакомого протестантского священника Фердинанда Цисаржа, чтобы тот немедленно приобщил его к протестантизму.
Протестантизм в Чехии обычно называют «евангелизмом», а протестантов — «евангеликами», именно потому, что для них авторитетом в вере является не церковная иерархия, а Евангелие, Благая Весть о жизни и миссии Сына Человеческого и Сына Божия. Избавляясь от вездесущей австрийской католической церковной иерархии и ее догм, Масарик стремился, естественно, на другой, противоположный полюс — к чешским «евангеликам».
Но и на этом полюсе были свои догмы. И не все их Масарик разделял. Цисарж упорно не хотел исполнять желание Масарика именно потому, что хорошо понимал, что Масарик и к протестантизму тоже никакого глубинного влечения не испытывает и что его каприз перехода в «евангелизм» есть лишь логическое завершение процесса отрицания католицизма, и не более. Но такого состояния души и духа было слишком мало для того, чтобы стать членом «евангелического» сообщества.
А кроме того, было тут еще некоторое затруднение: в одном незначительном пункте Масарик несколько расходился с христианской доктриной вообще, что с католической, что с протестантской, а именно — Масарик не признавал Иисуса Христа Богом, а только пророком, «религиозным гением» и… участником освободительного движения неимущих.
Цисарж сопротивлялся. Масарик же просто не мог допустить, что кто-то способен ему в чем-то отказать, и вцепился в деревенского пастора мертвой хваткой. Наконец, в августе 1880 года, в маленьком молитвенном доме протестантского сообщества (sborový dům) в деревне Гершпице Цисарж и еще несколько протестантских пасторов, скрепя сердце, приняли Масарика в лоно «евангелической» церкви.
Описывая этот эпизод, Зденек Неедли задает несколько странный вопрос — относительно состояния новообращенного! — был ли Масарик удовлетворен (Byl li Masaryk — spokojen? — Курсив Неедли). И вот тут оказывается, что Масарик и протестантизмом тоже не был удовлетворен, и не только не был удовлетворен, но даже злился. Почему же? Оказывается потому, что при обряде принятия в «евангелическое» сообщество его заставили произнести общехристианскую формулу исповедания веры, которая на Западе называется Credo.
Апостольский Символ веры состоит из двенадцати обещаний (обетов), и очевидно, не все из этих двенадцати обещаний Масарика устраивали. Например, обещание номер два: верить в то, что Иисус Христос есть Бог-Сын, предвечно рожденный от Бога-Отца через Святого Духа, или обещание номер одиннадцать: верить во всеобщее воскресение мертвых, или, соответственно, обещание номер двенадцать: верить в вечную жизнь… и т. д.
Масарик обещать верить в подобные научно недоказуемые вещи никак не мог. А почему не мог, вполне откровенно нам объяснил: «Было мне предложено произнести Апостольский символ веры Кредо, и было это для меня очень тяжело и горько… Нехорошо это было, не по-дружески со стороны тех, кто меня принимал в протестантскую церковь, ведь они заставляли меня повторять тезисы, которые были лишь догмой, не имеющей отношения к науке(!). Я это хотя и сделал, чтобы показать им, что это мне ничего не стоит, но заноза этой их лжи в душе и памяти у меня осталась…»[20]
Нет, Масарик верил не в воскресение мертвых, и не в жизнь вечную, и не в Сына Человеческого, преобразившегося на горе Фавор в Сына Божьего нам во Спасение и в надежду, — а в историософскую догму широкоплечего Платона и в научное упорядочение реальности, предложенное Огюстом Контом. У них Масарик обрел тот оптимизм разума — или тот разумный оптимизм, — который можно было противопоставить повседневной жизни с ее бесконечными глупостями.
И это хорошо. Потому что вера в научный и философский оптимизм давала Масарику силы жить — мыслить и совершать поступки, — а что еще, собственно говоря, человеку надо? Главное, что ведь при этом Масарик не призывал к физической ликвидации верящих во что-то иное оппонентов…
XII
Проблемы веры в чешском обществе 80-х годов XIX века замечательно проанализировал культуролог Мартин Ц. Путна, один из самых глубоких современных чешских умов. В рядах чешских богоискателей конца века Путна находит наряду с мистически верующими еще и тех, кто надеется с помощью по-новому понятой традиционной религии решить актуальные общественные проблемы — экономические, политические, психологические (проблему самоубийства, например…) и т. п.
Эти люди ищут реальную религию, в которой преобладает не индивидуальное мистическое чувство (метафизическая вера в сверхъестественное), а лишь стремление к практически осуществляемой этике. В отличие от них другие люди ищут религию романтическую, именно метафизическую, мистическую, не имеющую отношения к общественным проблемам и не направленную на их решение. Чешский народ, издавна разделенный на «евангеликов» и католиков, пишет Путна, логически должен выбирать из этих двух религиозных путей один, для каждого свой. И поэтому в связи с таким — исторически обусловленным — положением дела истинная проблема состоит в том, что «чешский духовный человек», как правило, пребывает в некоем пограничном межеумочном пространстве, не в силах «выбрать» ни католицизм, ни протестантизм (ни Россию, ни Европу, ни Восток, ни Запад, ни «социализм», ни «капитализм», ни «славянство», ни «неславянство», добавим мы).
В этом пограничном пространстве очутился в конце XIX века и Масарик. Но Масарик, один из сильнейших харизматиков своей эпохи, в отличие от множества других почти нашел свой, третий, путь, — путь создания собственной религии. Масарик действительно всерьез задумывался о создании современной гуманистической религии для всех, религии разумной, логичной, строго позитивной. Здесь, правда, сразу же возникает вопрос, возможна ли вообще такая религия? — ведь само слово religio означает «связь» земного человека с непознаваемым и сверхъестественным миром гипотетически существующих Высших Сил…
Тем не менее почти как попытку заложить собственную Церковь Масарик в конце века осуществляет создание собственной партии — партии «реалистов». Группу сторонников Масарика (напомним, прозвище его было — Пастырь) еще и до создания партии неспроста называли «масариковской сектой», а в 1929 году пражский немецкий профессор Христиан фон Эренфельс вполне серьезно призвал президента Чехословацкой республики Масарика к основанию новой Церкви, так называемой Церкви «реального католицизма»[21].
Масарик был настолько мудр, что это восторженное предложение, конечно, отверг, но тем не менее все же до конца дней он оставался единственным прихожанином собственной гуманистической Церкви, далекой как от католицизма, так и от протестантизма. В конечном счете он сам стал себе Церковью и был наконец-то вполне этим удовлетворен.
XIII
Что касается платоновской метафизической историософии, которую Масарик воспринял как свой истинный — истинно оптимистический! — символ веры, то ее можно, используя научную классификацию позитивиста Конта, разделить приблизительно на восемь степеней, или уровней. Когда мы это сделаем, нам станет вполне понятен оптимизм Масарика.
Итак, наше непременное будущее, с точки зрения Платона, выглядит так:
[1] В человеке есть три силы, три энергии; первая, низшая, это похоть, инстинкт, материя, тело, его страсти; вторая, более высокая, это влечения сердца, которые ведут нас к поступкам отваги, внушают нам веру в самих себя и делают нас честолюбивыми; и, наконец, третья сила, высшая, это наш разум, который стремится управлять двумя низшими силами и дать нашей жизни духовный, благородный — идеальный смысл.
[2] Итак, человек изначально несовершенен, но изначально же располагает возможностью это свое несовершенство преодолеть — с помощью разума; поэтому человек должен развивать, укреплять, усиливать свой разум, и, поскольку такая способность в человека заложена универсумом от рождения, человек, в сущности своей, — хорош, ибо может совершенствоваться.
[3] Но точно по такому же принципу «устроен» не только человек, но и весь мир; и он глубоко несовершенен, поскольку, как и все вещи, несовершенный земной мир есть лишь отражение совершенного мира идей-прообразов; однако, в связи с тем что в земном мире отражается мир идей и земной мир может это отражение в себе зафиксировать с помощью деятельности разумного человека и таким образом максимально приблизиться к совершенству мира идей (полностью сомкнуться с ним земной мир никогда не сможет, поскольку идеал, как ему и положено, недостижим — иначе какой же это был бы идеал), постольку и земной мир тоже потенциально хорош — ибо и он может и должен совершенствоваться и приближаться к идеалу.
[4] Ну а поскольку и человек, и его мир содержат в себе отражение мира идей, а сам мир идей есть мир Абсолютного Блага, значит, и в человеке, и в его мире это Абсолютное Благо существует в потенциальных фрагментарных формах, и человек, и его мир должны эти формы обнаружить, понять, принять и развить с помощью разума, а значит, и человек, и его мир в общем-то несут в себе — в отраженном виде — то самое Абсолютное Благо в его еще не развитой, недоделанной форме; его надо лишь превратить из потенциального в реальное; а поэтому можно с уверенностью сказать: в глубине своей, в принципе своем, и человек, и его мир — благи!
По поводу картины, которая возникает при анализе подобных рассуждений, Зденек Неедли всерьез помещает целый гимн платоновской идее человека и мира; маленький фрагмент этого гимна стоит привести: «Не является ли такой взгляд на мир действительно прекрасным? Что может лучше укрепить человека, особенно когда он вступает в жизнь, чем такой оптимизм, не слепой, а цельный, ничем не искаженный? С каким желанием идет и должен идти в жизнь тот, кто несет это мировоззрение в своем сердце!»[22]
При этом незачем, очевидно, напоминать читателю, что все утверждения Платона, принятые Масариком и воспетые здесь Зденеком Неедли, не имеют абсолютно никаких реальных доказательств, а суть лишь абстрактные спекуляции ума, и что вся эта теория потенциального и конечного блага есть исключительно вопрос веры — веры участников процесса построения в земном «котловане» отраженного идеального мира с его Абсолютным Благом…
[5] Итак, раз в человеке и его мире скрыто потенциальное благо, которое нуждается в высвобождении, нам надо неустанно работать, чтобы добиться этого освобождения (ведь труд, как будет сказано несколько позже, освобождает, а также есть дело доблести и геройства). В принципе, и человек, и его мир просто обречены на самосовершенствование, в достижении которого и состоит наша жизненная (в том числе и политическая!) задача.
[6] А инструментом, которым человек осуществляет в самом себе и вокруг себя работу по высвобождению блага, является, безусловно, его разум. Поэтому естественная и первичная задача человека заключается в развитии его разума — человек должен учиться, получать цивилизационные навыки, ибо только разум может вывести человека из состояния животного, из болота похотей, страстей, инстинктов и общего несовершенства.
[7] Но точно так же, как человека, можно совершенствовать и мир; и в мире, чем дальше, тем все больше должен царствовать разум, поскольку что́, собственно говоря, есть мир, как не людское сообщество, государство людей, один гигантский всеземной человек; и в нем, в этом всеземном человеке, проявляются, по Платону и Масарику, все те же три силы, три энергии: низшая, дело которой — удовлетворять телесные нужды человека (этим занимаются крестьяне и ремесленники); более высокая, которая одушевляет сердце мужеством (ею располагают воины, защищающие государство); и, наконец, третья сила — дающая разум (ею обладают лишь философы-политики); поэтому мир совершенствуется именно в результате правления философов-политиков, которые усиливают в нем правление разума.
И, наконец, уровень восьмой: что же конкретно способствует усилению власти разума? Ответ Платона — философия. Ведь человек без разума находится как бы в тюрьме своих страстей. Только философия может освободить его и вывести в мир познания. Точно так же обстоит дело и с политикой — и вот здесь ответ Платона переходит в ответ Масарика, — ибо политика есть, собственно говоря, не что иное, как глобальная философия.
Что это значит — политика как глобальная философия? Это значит, что задача этой политики-философии состоит, по гамбургскому счету, в том, чтобы усиливать влияние разума в мире, в человеческом обществе, в государстве. Чьего разума? Разума, которым обладает истинный философ-политик, воспринявший своим местным харизматическим умом объективную правду Высшего Разума. Причем истинный философ-политик по Платону (а эти профессии — философа и политика — постепенно становятся как у Платона, так и у Масарика неразделимыми) не ограничивается теоретическими рассуждениями, он идет в жизнь, в самое ее пекло, в ее броуново движение и устанавливает там власть разума — то есть власть порядка.
Такова была оптимистическая историософия Платона — как ее воспринял, понял и пытался затем на протяжении всей жизни осуществлять Масарик. Вот об этом и говорил Эзра Паунд: дело истинного народного вождя — конкретно Паунд имел в виду Муссолини — упорядочивать хаос.
XIV
Однако можно ли назвать сам этот принцип мышления — прагматически-прикладной, использующий философское наследие полуторатысячелетней давности как инструкцию к действию, причем к действию не в частной и экзистенциальной, а в общественной и политической жизни,— в чистом виде «философией»? И если это не философия, то что это?
Здесь надо отметить еще одну, последнюю ипостась Платона-мыслителя, важную для нас в повествовании о Масарике-«философе-политике». Вот что пишет чешский протестантский теолог и философ Йозеф Лукл Громадка, наиболее искусный аквалангист в глубинах масариковского мировоззрения: «Философия Платона (о Сократе уж и не говорю) не есть лишь размышление по поводу некоей теоретической проблемы, философия Платона рождается из потребностей и тревог Эллады. В диалогах Платона вы переживаете эту эпоху, все ее болезни, недостатки, увечья. Своими размышлениями Платон отвечает на нравственные и практические вопросы своей эпохи и хочет дать своей родине, которая неостановимо погружается в трясину внутреннего разложения, твердый умственный религиозно-философский и нравственный стержень (у Громадки — páteř, «позвоночник»! — С. М.)».
И дальше Громадка сравнивает Платона с богословом-рационализатором средневековой христианской идеологии Фомой Аквинским: «…его (Фомы Аквинского. — С. М.) система… есть попытка познания самых разносторонних тенденций его эпохи в их корнях и в их сущности с цельюподчинить их одной идее (курсив наш. — С. М.), которая придала бы каждой жизненной сфере тот смысл, который должен ей сопутствовать, которая бы всю эту разносторонность свела в единую форму, которая подчинила бы все постоянно сталкивающиеся друг с другом мировые тенденции и сообщества одной цели и одной задаче»[23].
А теперь сравним с размышлениями Громадки признания Масарика, сделанные им позднее в доверительных беседах с Карелом Чапеком: «…у Платона особенно прекрасна эта монолитность его мировоззрения (курсив наш. — С. М.), хотя, конечно, она и несет в себе черты определенного несовершенства, — но это оттого, что на тогдашнем уровне развития научные дисциплины еще не были так четко классифицированы и разграничены(!)…»[24]. Таким образом, монолитную и потому монопольную идею широкоплечего Платона об универсуме и человеке и их совместном развитии (причем, что касается человека, то о развитии людского сообщества в идеальной государственной форме) оставалось только научно обосновать и классифицировать с позиций современного позитивиста Огюста Конта — и мировоззрение Масарика было готово.
На вопрос, что это было за мировоззрение, опять же не скажешь лучше, чем это сделал Йозеф Лукл Громадка, правда, вложивший в свое определение смысл, совершенно обратный тому, который вкладываем в него мы (не забудем, однако, что Громадка писал все это в 1930 г., т. е. еще до практического расцвета тоталитарных моноидеологий): «Философия Платона всей структурой своей совершенно пронизывает мышление Масарика; пронизывает гораздо в большей степени, чем исследователи масариковской философии хотят допустить. При этом Платон не является школьным (т. е. только теоретическим. — С. М.) философом; он хочет, чтобы философия управляла практикой, чтобы она стала властительницей жизни, чтобы жизнь индивидуума и всего государства управлялась и направлялась философией, чтобы политическая практика опиралась на прочные, теоретически продуманные основания, а не была отдана на произвол предрассудкам, случайностям, своеволию и религиозным догмам. Платон хочет выяснить саму суть того, что может познать человек,хочет определить, что есть добро, правда, справедливость сами по себе, вне человеческого хаоса, неуверенности, чувств, независимо от индивидуалистических интересов и желаний. Этот пример усилий Платона по созданию твердых основ и четко очерченных параметров практической жизнипритягивает к себе Масарика как в молодости, так и позднее…»[25]
Это, конечно, определение тоталитарной идеологии. От воплощения ее в жизнь созданную Масариком страну Чехословакию спасло только то, что в отличие от Сталина и Гитлера Масарик действительно — при всей своей нетерпимости к оппонентам — никогда не страдал ни кровожадностью, ни жаждой физической мести.
Но теоретически он абсолютно солидаризировался с Платоном в его протототалитаризме; еще в 1919 году в своей книге «Россия и Европа» Масарик писал: «Истина к человеку (согласно учению Платона) приходит извне, она объективна, абсолютно объективна, а не субъективна, и именно благодаря своей объективности она и является для нас истиной…»[26]
XV
Остается только решить, кто устанавливает, что данная конкретная истина — объективна. Ведь даже непреложные физические законы — скажем, закон тяготения, — во-первых, в определенной степени относительны, а во-вторых, в измененных состояниях сознания воспринимаются исключительно субъективно, и эта субъективность восприятия, скажем невесомости или даже состояния левитации, человеком, находящимся в состоянии измененного сознания, для этого человека в высшей степени объективна.
Что же говорить об объективности «правды», когда речь идет не о физических законах, а о законах человеческого общежития, о законах нравственных — если в одной культуре объективной правдой считается убийство дочери или сестры за «бесчестие», которое она нанесла семье своим вольным поведением, а тут же, рядом, в соседней культуре, на тот же самый стереотип поведения, то есть «свободную» любовь, смотрят весьма снисходительно и даже считают ее необходимой для развития личности? Чья «объективная правда» в данном конкретном случае является правдой, приходящей «извне» для нас? Понятно, что принадлежащая той культуре, ценности которой разделяет и наш менталитет. Разговор же о некоей абстрактной объективной правде, приходящей извне и объективной (т. е. одинаковой) абсолютно для всех, да еще и в рамках чуть ли не принудительного долженствования этой объективности, обязательно упирается в проблему тоталитаризма, в тупик тоталитарной идеологии.
Нет, Масарик не был философом. Масарик был — идеологом. Как это правильно понял в свое время редактор «Осветы» Влчек. Идеологом Масарик имел предрасположенность спонтанно стать по сути своего характера — и стал им убежденно под воздействием Платона.
Как и положено в таких случаях, он в конце концов стал идеологом собственной партии (хотя и небольшой и не очень влиятельной). Но от этой партии благодаря демократическим законам «феодальной» и «лоскутной» Австро-Венгрии Масарик был избран (первый раз — в 1891 г.) депутатом в Имперский совет, то есть в парламент Цислейтании, австрийской части империи, и в этом парламенте стал делать свою политику.
Довоенную политику Масарика можно назвать чисто «платоновской» — это значит, что он стремился к непременному воплощению «идеалов справедливости» и торжеству «объективной правды», иногда и «через трупы», и не всегда символические, хотя никаких умерщвлений противников, он, конечно, не предполагал. Однако не всегда люди выдерживали его уничтожающий полемический напор.
«Идеалы справедливости» довоенного Масарика можно обозначить как идеалы не совсем явно очерченного славянского патриотизма (причем, как это ни странно, не то чтобы в пользу чехов, а скорее — в пользу южных славян). А его «объективную правду» — как догматическую правду личной веры в еще менее явно очерченную некую высшую разумно-научную инстанцию, которая доведет до ума бедную и недостаточную земную реальность, если действовать строго «по науке» и не отвлекаться на мракобесия.
Но приходилось отвлекаться. Потому-то впоследствии и не вышло задуманное государство совсем «по науке», как предполагалось, — не только Масариком, но и его соратником Бенешем.
Русские обитатели Чехословацкой республики с пиететом называли Томаша Масарика (сына Йозефа Масарика) на русский лад — Фома Осипович. Возможно, во времена существования русской эмиграции в масариковской Чехословакии между двумя мировыми войнами это и было к месту. Но в довоенную эпоху, а точнее в период с 1875 по 1914 год, этого человека надо было бы называть — Властимил Платонович.
XVI
Между тем история людей неотвратимо двигалась по предназначенному Эволюцией пути. Этносы превращались в «народы», народы в «нации», нации требовали себе «национальных государств», а места в Европе было мало, и кругом, в этой тесноте, еще упорствовали и упрямствовали соседи, и все претендовали на одни и те же территории, в буквальном смысле на одну и ту же жилплощадь, площадь для житья…
Судьба Масарика, как и судьба каждого из нас, совершалась в историческом контексте. Вне этого контекста судьбу человека тяжело понять и объяснить, как невозможно понять ключевое предложение, вырванное из одной книги и перенесенное в совсем другую, которая не имеет ничего общего с первой. Часто это делается сознательно, часто — бездумно, в угоду идеологии или традиции. Предложение — человек, личность! — теряет свой подлинный смысл и приобретает тот, который обусловлен неподлинным контекстом.
Поэтому одна из наших задач в попытке понять судьбу Масарика состоит в фиксации аутентичного исторического контекста. Человек Масарик, хотел он этого или нет, постепенно включался в определенный сюжет мировой истории, и жизнь его в связи с этим неотвратимо менялась. Судьбоносные для Масарика изменения в историческом контексте начали происходить в 1875 году, когда его докторская работа о сущности души в учении Платона была в самом разгаре.
XVII
Пятого июля 1875 года Перо Тунгуз, по происхождению герцеговинский серб, бывший капитан русской армии, ставший разбойником (в апологетических источниках его называют «сербским партизаном»), выстрелил из засады в районе Цетной поляны в голову предводителя турецкого каравана, везшего продовольствие и боеприпасы в ближайший турецкий гарнизон, и убил его на месте. Этим выстрелом началось не только восстание христианского славянского населения небольшого Невесинского края Герцеговины против турок, но и все последующие события, приведшие постепенно к мировой войне. Сначала восстало несколько сотен крестьян Герцеговины, нищих, бесправных. Восстали они сначала не против религиозных или национальных притеснений, а против диких обычаев проворовавшейся местной администрации, которая была где турецкой, а где и своей, славянской. В короткое время мятеж перекинулся в Боснию, к нему стали присоединяться тысячи, а сам характер мятежа начал меняться, превращаясь из экономического бунта в освободительную войну.
В июле 1875 года Масарик, студент третьего курса философского факультета Венского университета, отправился на каникулы домой, в моравскую деревню Клобоуки. Там он решил сходить в деревню Чейч, где прошло его отрочество. Поздно вечером, возвращаясь домой и проходя через деревню Крумвирж, он услышал пьяные вопли, доносившиеся из местной пивной, шум драки, дикую ругань… Он подошел к открытому окну, постоял, посмотрел, послушал, а потом, оставаясь невидимым во тьме, заорал нечеловеческим голосом: «А ну прекратить резню!». Все застыли, молча таращась друг на друга и опустив ножи. Потом бросились к двери. Но Масарик уже исчез в ночной июльской тьме. Народ потоптался во дворе и вернулся в пивную, почесывая затылки, однако, мирно. Так Масарик в первый раз выступил в роли миротворца.
Двадцать шестого июля 1875 года он решил навестить старого друга и учителя, католического священника Франтишека Сатору. Ранним утром он отправился в деревню Бояновице, где у того был приход. В Бояновице Саторы не оказалось — его позвали в деревню Угерчице. Масарик пошел в Угерчице. Наконец к двум часам дня добрался. Нашел Сатору. Перед ним сидел старик 49 лет — конченый алкоголик с трясущимися руками и мутным взглядом. Этот человек когда-то проповедовал юному Масарику героизм миссионерства, призывал осуществлять в жизни свое предназначение. Масарик дал ему немного денег из собственных скудных запасов — больше ничего сделать не мог.
Отчаяние и тоску лечил интеллектуальным трудом — в глухой моравской деревушке Клобоуки писал и писал свою диссертационную работу о Платоне. Работа подвигалась с трудом, но все же давала жизни смысл.
В 1876 году партизанское герцеговинско-боснийское восстание окончательно переросло в регулярную сербско-турецкую и черногорско-турецкую войну. Весной 1876 года поднялась Болгария. Турки подавили выступление болгар с невероятной жестокостью, замучив и вырезав более тридцати тысяч гражданских лиц, в том числе детей, женщин и стариков. Карательные меры турок вошли в историю под названием «болгарских ужасов» (The Bulgarian Horrors).
К январю 1876 года Масарик свою диссертационную работу сдал в университет и ждал приговора, который должен был вынести ему научный руководитель, великий Франц Брентано. Das Wesen der Seele bei Plato. Сущность. Душа. Платон. Клобоуки. Крумвирж. Чейч… Брентано похвалил скорее не саму работу, а авторские усердие, трудолюбие, начитанность и «склонность к благородным идеалам». Но очень поругал за темный язык и общую нечленораздельность изложения, а также за то, что автор выступает в тексте не как объективный наблюдатель, а как предвзятый апологет Платона. В общем, положительной оценки заслуживают не столько сами тезисы и выводы диссертации, сколько те усилия, которые автор потратил на их создание.
В марте 1876 года Масарик еще сдавал три устных экзамена, философию, латынь, греческий. На экзамене по греческому языку Масарику задали очень сложный вопрос: как переводится на греческий язык латинское слово sapientia («мудрость»). Ответить молодой адепт философии не смог. Ответил за него рассерженный экзаменатор (конечно, немец) и влепил Масарику предпоследнюю оценку, то есть «двойку», если считать, что последняя — «кол». Однако экзаменационная комиссия решила не заметить этой проблемы перевода, и 10 марта 1876 года Масарик стал доктором философии с правом писать работу для занятия должности доцента (так называемую габилитационную работу).
Восьмого июля 1876 года российский император Александр II и его министр иностранных дел Горчаков встретились с австрийским императором Францем-Иосифом I и его министром иностранных дел Андраши в Рейхштадтском замке в Богемии (теперь это замок в городке Закупи Либерецкого края Чешской республики). В ходе встречи было заключено так называемое Рейхштадтское соглашение. Это соглашение предусматривало, что Австрия, продолжая свою давнюю миссию очищения Балканского полуострова от турок, продвинется на юг и вернет в лоно европейской цивилизации Боснию и Герцеговину (до сих пор в русской историографии принято называть это событие «австрийской оккупацией»; очевидно, если бы туда ввела войска Россия, это было бы названо «долгожданным освобождением»).
В обмен на согласие с этим историческим актом Россия получала согласие Австрии на присоединение к своим территориям юго-западной Бессарабии, ну и еще порта Батум на Черном море. Относительно положения дел на Балканском полуострове остановились на том, что часть Болгарии получит автономию в рамках Османской империи (но в русской версии договора оказалось, что не автономию, а полную независимость, и не часть Болгарии, а все земли, заселенные этническими болгарами!). А ведь в ходе встречи, результаты которой были засекречены, была также достигнута договоренность о том, что балканские славяне «ни в коем случае не смеют образовывать на Балканском полуострове одного большого государства».
Турцию обо всем этом в известность вообще не поставили, хотя и собирались делить ее территорию. Потом весь сентябрь 1876 года Россия еще пыталась уговорить Австрию согласиться с вводом русских войск в Болгарию и Англию — с вводом в Мраморное море объединенной эскадры великих держав. Австрия и Англия, конечно, в ужасе от этих уговоров отбивались: австрийцы боялись русских войск на Балканском полуострове как ночного кошмара, а англичане — русских кораблей, свободно проходящих через Босфор и Дарданеллы прямиком в британское Средиземное море, а там Греция, Египет, Мальта… — и в итоге Россия в Гибралтаре!
В октябре 1876 года Масарик, окончивший курс философии в Венском университете, прибыл на годичную стажировку в саксонский город Лейпциг для создания своего габилитационного труда. Труд был посвящен проблеме самоубийства. Über den Selbstmord…
Пока Масарик подсчитывал в Лейпциге статистику самоубийств, что не мешало ему счастливо жить в дружественной немецкой семье в доме напротив старинного университета, 15 января 1877 года Россия заключила письменное соглашение с Австро-Венгрией, пообещав свой нейтралитет в момент «оккупации Австрией Боснии и Герцеговины». Австро-Венгрия, в свою очередь, давала России гарантии свободного прохода через Восточные Балканы на юг — теоретически до самого Константинополя, если, конечно, получится.
Как и Рейхштадтский договор, это соглашение 1877 года держалось в строжайшем секрете. О нем не знали даже русские дипломаты, включая и русского посла в Турции. Можно с уверенностью сказать, что будущий «пакт Молотова — Риббентропа» со своим секретным приложением заключался по этим старым проверенным образцам тайной дипломатии XIX века.

Все кончилось тем, что 14 апреля 1877 года Россия, обеспечив себе австрийские тылы и настороженную британскую снисходительность, объявила войну Турции.
XVIII
Милада Паулова пишет, что в 1877 году, когда началась Русско-турецкая война, Масарик не просто изучал, а прямо «переживал югославянские проблемы», что он «испытал великое воодушевление в эпоху осуществления славянских надежд, с которыми восставшие балканские славяне воспринимали победоносную русско-турецкую войну 1877—78 гг.»[27]
А Станислав Полак утверждает обратное: «В газетах он [Масарик] прочитал о начале русско-турецкой войны. Его славянские чувства при этом воспламенились, однако его человеческие симпатии — и он ничего не мог с этим поделать — были на стороне турок, потому что они были более слабыми… а вообще он сочувствовал обеим враждующим сторонам — ведь и те и другие воевали за все то, что им было дорого»[28].
Прав, конечно, Полак. Внутренний мир Масарика был гораздо сложнее и гораздо противоречивее, чем это представляла себе М. Паулова. А самое главное, что мир его был на самом деле уже тогда миром глубокого индивидуализма, обороняясь в котором, Масарик, одновременно идеалист и прагматик, очень мало был подвержен влияниям коллективистских симпатий или антипатий.
10 сентября 2014 года
Клементинум
[1] ТГМ (TGM) — традиционное чешское сокращение имени первого президента Чехословацкой республики Томаша Гаррига Масарика (Tomáš Garrigue Masaryk). Продолжаем публикацию эссе. Начало в №№3(60),4(61).
[2] Opat, Jaroslav. Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka. Česká otázka včera a dnes. Praha, 2003. S. 27.
[3] Polák, Stanislav. T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou. D. 1—4. Praha, 2000 // D. 1. 1850—1882. S. 407.
[4] Opat. Op. cit. S. 33.
[5] Doležal, Jaromir. Masarykova cesta životem. V Brně, 1921. D. 2, S. 88.
[6] Ibid. S. 126.
[7] См. журнал «Иностранная литература», № 3, 2014 г.
[8] Klimek, Antonín. Nástup Hitlera k moci. Začatek konce Československa. Praha, 2003. S. 146.
[9] Doležal. Op. cit. D. 2. S. 45.
[10] Ibid.
[11] Nejedlý, Zdenek. T. G. Masaryk. Kn. 1—4. V Praze, 1930. Kn. 1. 1850—1882. S. 235.
[12] Čapek, Karel. Hovory s T. G. Masarykem. Praha, 1990. S. 153.
[13] Čapek. Op. cit. S. 309—310.
[14] Steed, H. W. Třicet let novinářem. 1892—1922. Vzpomínky. D. 1—2. V Praze, 1927. D. 1. S. 26. (Перевод на чешский с английского оригинала: Through Thirty Years, 1892—1922: A Personal Narrative. London, 1924.)
[15] Klimek, Antonín. Nástup Hitlera k moci. Začatek konce Československa. Praha, 2003. S. 145—146.
[16] Čapek. Op. cit. S. 74.
[17] Čapek. Op. cit. S. 301.
[18] Соловьев, В. С. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 2000. Т. 1: 1873—1876. С. 245.
[19] Klimek, Antonín. Boj o Hrad. Praha, 1996. D. 1. S. 29.
[20] См.: Nejedlý. Op. cit. D. 2. S. 250—263.
[21] Putna, Martin C. Česká katolická literatura v evropském kontextu. 1848—1918. Praha, 1998. S. 588—592.
[22] Nejedlý. Op. cit. D. 1. S. 233.
[23] Hromadka, Josef Lukl. Masaryk. Praha, 1930. S. 80.
[24] Цит. по: Nejedlý. Op. cit. D. 1. S. 234.
[25] Hromadka. Op. cit. S. 82.
[26] Цит. по: Hromadka. Op. cit. S. 84.
[27] Paulová, Milada. Tomáš G. Masaryk a Jihoslované. V Praze, 1938. S. 7.
[28] Polák. Op. cit. D. 1. S. 247.