Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 4, 2014
ТГМ-2. Благодетели[1]
Хромой мальчик
XIII
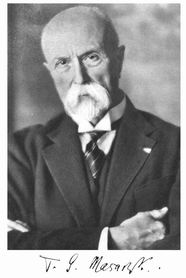
Хлопнув дверью в доме böse Deutsche[2] Франца Людвига, директора школы в деревне Чейковице, Масарик отправился делать то же самое в немецкую гимназию города Брюнн, где вскоре столкнулся с директором Антоном Крихенбауэром, который был Deutsche еще более «böse», чем Людвиг.
Между Чейковице и Брюнном была короткая интерлюдия. В начале 1865 года, набравшись опыта в школе Людвига, Масарик начал экстерном готовиться к сдаче экзаменов за первый класс («приму») в немецкой гимназии города Стражнице (нем. Штрасснитц).
Школы в Стражнице славились еще со времен «чешских братьев». В 1604—1605 годах, всего за 260 лет до Томаша Масарика, в одной из стражницких школ учился Ян Амос Коменский. В период Контрреформации (или, как называют его чешские католики, — Рекатолизации) в Стражнице пришли итальянские монахи из ордена пиаристов. В первой половине XVIII века они построили здесь барочную школу и костел. В 1864 году школа все еще принадлежала ордену.
Классным воспитателем Масарика и преподавателем катехизиса был старый монах-пиарист патер Гувар, лях по происхождению (это не гоголевское означение поляка, а официальный этноним небольшого народа, живущего между поляками и чехами). Отец Гувар орал на учеников-немцев, учеников-мораван-словаков-ганаков и учеников-евреев на ляшском наречии. Те его, правда, понимали, но самый факт лишний раз показывает, что объединяющим империю и ее многочисленные народы языком мог быть тогда только немецкий, несущий с собой культуру мирового значения. Кричал патер Гувар на учеников по-ляшски, а оценки им ставил по-немецки, и в табеле Масарика напротив латыни, немецкого, истории и географии везде стояло recht gut («весьма хорошо», т. е. «четыре»). Это recht gut уже давало бедному провинциалу право продолжать образование в «столицах». Первой такой столицей поблизости был Брюнн, метрополия маркграфства Моравия.
В немецкую гимназию Брюнна Масарик поступил сразу во второй класс, то есть в «секунду». В классе был семьдесят один ученик мужеского пола; семнадцать тех, у кого в метрике было записано slawisch, четырнадцать евреев, а остальные — немцы: в «феодальной» Австрийской империи национальность указывалась согласно самоощущению человека, а не по приказу полиции (т. е. государства); в частности, Масарик вполне мог записаться — по матери — как deutsch, если бы немцем себя чувствовал, но записался как slawisch. Национальный состав класса приблизительно отвечал и национальному составу населения города, поэтому, относительно к тому времени, мы со спокойной совестью можем называть его Брюнн, а не Брно, как он называется сейчас.
Масарику было тогда пятнадцать лет, но в классе учились и одиннадцатилетние дети. Одним из них был хромой уроженец Зальцбурга Франц Ле Моньер.
XIV
1865 год, когда Масарик пошел в «секунду» немецкой гимназии в Брюнне, для нас важен. В этом году австрийскому императору Францу-Иосифу I исполнилось тридцать пять лет (согласно Библии и Данте — половина жизни), а чешский историк Франтишек Палацкий опубликовал свой политический трактат «Идея государства австрийского».
Что касается императора, то «земную жизнь пройдя до половины», он очутился в на редкость «сумрачном лесу»[3]. Тень, окутавшая этот лес, имела фамилию Бисмарк. «Собиратель Земли Немецкой» Бисмарк уже давно собирался превратить Пруссию в Германию, тогда как Франц-Иосиф Габсбург полагал, что Германия — это одна из потенциальных этнических частей Австрии наряду с другими ее этническими частями.
В этом утверждении нет анахронизма. Франц-Иосиф не мыслил, конечно, в категориях «этносов», но подразумевал именно их, когда говорил о «своих народах». Именно с этими словами: «К моим народам!» — An Meine Völker! (нем.), Mým národům! (чешск.), Népeimhez! (венг.) — 17 июня 1866 года из Вены и 28 июля 1914 года из Бад Ишля император обращался к населению своей импе-рии, со скорбью оповещая его о начале войны, в первом случае — с Пруссией, во втором — с Сербией.
Вот тут-то и проходила граница между ним и Бисмарком. Бисмарк никак не мог обратиться к жителям Баварии, Вестфалии, Гессена, Вюртемберга как к «своим народам», поскольку идея Бисмарка состояла как раз в том, что все эти баварцы, вестфальцы, гессенцы, вюртембержцы есть один народ — немецкий, который теперь и объединяет своими героическими усилиями Пруссия. Бисмарк создавал государство принципиально для одного народа — не предполагая, конечно, насколько печально известным станет впоследствии принцип Ein Volk — Ein Reich, — тогда как Франц-Иосиф, выполняя, как он считал, заветы предков, пытался объединять в своей империи разные народы, тем самым создавая прообраз будущей соединенной Европы.
И опять же, в современных категориях «Европейского союза» Франц-Иосиф, конечно, не мыслил, но необходимость и долг цивилизовать и хранить среднеевропейское пространство со всеми населяющими его «народами» император понимал совершенно ясно.
В этой точке геополитических и историософских идеалов политика Пруссии пересекалась с политикой Австрии и не могла не привести к войне между ними — к войне не только и не столько за «господство» над Германией, сколько за то, в каком направлении пойдет развитие Европы и, как впоследствии оказалось, всего мира.
В 1865 году Франц-Иосиф уже отчетливо понял, что столкновение с Бисмарком неизбежно. Как понял и то, что столкновения этого австрийская армия не выдержит. Более того, он просто приготовился к гибели и сразу после поражения в австро-прусской войне 1866 года написал матери, что «должен выполнить свой долг и пасть с честью»[4]. Но Бисмарк, слава Богу, не собирался убивать лично Франца-Иосифа, и тот не погиб, «земную жизнь пройдя до половины», а погиб, пройдя еще половину с четвертью.
В это же время чешский историк Франтишек Палацкий, опубликовав в апреле-мае 1865 года в пражской газете «Народ» (Národ) серию из восьми статей под общим названием «Идея государства австрийского» (Idea státu Rakouského), явил себя городу и миру как один из самых проницательных умов Богемии и Европы (Чехии тогда на политической карте не было). Свое время он во многом обогнал, особенно в результатах анализа мировой и — исходя из этого — австрийской истории и ее смысла. А вот что касается истории славян, и конкретно чехов, то тут он во многом остался на уровне романтических теорий эпохи Гердера. Странно, конечно, но, видимо, такую дань платит ум патриотизму.
Понимание же австрийской истории, как это ни покажется парадоксальным, роднит «угнетенного чеха» Палацкого с «немецким угнетателем» Францем-Иосифом Габсбургом. Еще в своем знаменитом письме Франкфуртскому парламенту от 11 апреля 1848 года Палацкий писал, что существование австрийского государства — «в интересах Европы и гуманизма (курсив наш. — С. М.)»[5]. Гуманизму угрожает варварство. В XIV—XVI веках варварство представляло собой господство османов, которые неумолимо надвигались на Европу. Дело защиты среднеевропейских народов от угрозы c юго-востока и взяло на себя тогда австрийское государство — оно стало «плотиной, вставшей на пути турецкого наводнения».
Род Габсбургов был «направлен Промыслом Божьим», чтобы успешно цивилизовать и охранять пространство, которое Палацкий упоминает под его первоначальным обозначением: deserta Bojorum — «пустыня бойев»: так издревле называлась страна, из которой ушли кельты — бойи; так она называлась еще долго и после того, как туда пришли предки славян — чехи.
Это название — «пустыня бойев», как место, цивилизуемое и охраняемое Габсбургами, вызывает неизбежную ассоциацию еще с одной «пустыней». Речь идет о впечатляющем образе из романа итальянского писателя Дино Буццати «Пустыня Тартари» (1940) и одноименного фильма по этому роману итальянского режиссера Валерио Дзурлини (1976). В романе и фильме рассказывается о судьбе многонационального гарнизона ветшающей пограничной крепости. Защитники этой крепости на краю «Пустыни Тартари» знают, что далекий горизонт в один прекрасный день ощетинится копьями кочевников, и в течение сотен лет своей службы они ждут этого дня. Единственная цель их существования состоит в том, чтобы принять в конце концов неравный и безнадежный бой.

В фильме Дзурлини, как и на иллюстрациях к роману Буццати, защитники крепости одеты в мундиры, напоминающие форму военнослужащих австро-венгерской армии времен Первой мировой войны. Государство Габсбургов как изначальный и в то же время последний защитник цивилизации против нашествия варваров, ясно просматривается в качестве одной из возможных аллюзий, вызываемых романом и фильмом.
Но именно такой образ «государства австрийского» нарисовал и Палацкий. По его глубокому убеждению, миссия и цель Габсбургов и их империи — в охране населяющих ее народов от «копьеносных кочевников», будь то турки, пруссаки или «держава, которая держит весь Восток». Есть, однако, у этого государства и еще одно предназначение, главное, как справедливо считал Палацкий, и оно состоит в предоставлении его «народам» возможности мирно и цивилизованно превращаться в нации, то есть в равноправные политические субъекты, которые во вполне обозримом будущем должны бы составить габсбургскую федерацию, мультиязычную, мультинациональную и мультирелигиозную, живущую в условиях правового и нравственного консенсуса.
В своем историософском труде «Идея государства австрийского» Палацкий и разрабатывает в деталях структуру такого федеративного устройства, причем замечает, что импульс к созданию федерации, собственно, уже дан в недавнем конституционном проекте императора Франца-Иосифа[6]. И действительно, в так называемом «Октябрьском дипломе» от 20 октября 1860 года, обращаясь «к своим народам», Франц-Иосиф предлагает им то, что через пять лет Франтишек Палацкий определит в своем трактате как основу австрийской федерации: суверенное самоуправление исторических королевств, земель и территорий в рамках скрепляющей их империи, где Имперский совет, состоящий из депутатов, избранных субъектами федерации, решает вопросы обороны, внешней политики, финансов, транспорта и связи, а все вопросы, связанные с образованием (подразумевается, на местных языках), независимой юстицией и региональным политическим управлением, передаются в компетенцию местных сеймов-парламентов.
Издание императором конституционного «Октябрьского диплома» отнюдь не было случайностью. Вступая на трон в 1848 году, Франц-Иосиф уже тогда сообщил населению своей империи следующее (а мы можем сравнить его слова с известным заявлением вступающего на трон Николая II — в 1894 году — о «бессмысленных мечтаниях» русских сословий по поводу разделения власти между ними и царем):
«К моим народам! <…> Признавая по собственному убеждению необходимость и высокое достоинство свободного и соответствующего эпохе государственного устройства, Мы уверенно вступаем на путь, который должен вести нас к новому спасительному устроению и омоложению всей Нашей державы. На основе неколебимой свободы, на основе равноправия всех народов империи и равенства всех граждан перед законом, а также при участии народных представителей в системе законодательства, сможет наша родина снова восстать во всем своем величии и с молодой силой… чтобы стать просторным жилищем племен разных языков, которые под скипетром предков Наших в течение многих столетий собирались в братский союз… Будучи решительно… готовы разделять права Наши с правами представителей народов, мы верим, что с помощью Божьей и в согласии с народами удастся Нам все земли и племена державы объединить в одно великое государственное целое… Установление внутреннего мира есть первое условие успеха великого дела конституционного… Мы ожидаем с доверием при этом, что все народы через своих представителей будут мудро и искренне этому успеху способствовать. Мы верим в здравый смысл всегда верных обитателей сельских, которые, благодаря последним постановлениям законным, освободившим их от основных тягот подданства, вступили ныне в полное пользование правами гражданскими… Мы будем приветствовать усилия каждого, независимо от его сословной принадлежности… Народы австрийские! <…> Великие обязанности и великую ответственность возлагает на Нас Промысел Божий… Дано в… Оломоуце 2 декабря 1848 г. Франц-Иосиф»[7].
Таковы были, во всяком случае теоретические, перспективы и искренние идеалы. Практика, как всегда, оказалась иной. Двигаясь в направлении Цивилизации по известному (и всем привычному) принципу «полшага вперед, полста шагов назад», постоянно колеблясь и нащупывая «здраворассудочный» путь между федерализмом и абсолютизмом, Дунайская империя выбрала в конечном счете — как первые «полшага» — австро-венгерский дуализм, на котором и остановилась, — до самого сараевского покушения.
Тем не менее движение в сторону федерализма было все же задано и идея его определена. Последние лидеры государства Габсбургов, наследник престола Франц-Фердинанд д’Эсте (в этом году, 28 июня 2014 г., исполняется ровно сто лет со дня его убийства. — С. М.), и затем император Карл I прямо ставили своей целью преобразование империи в федерацию. Однако идею этого преобразования, предложенную и разработанную в 1860—1865 годах Францем-Иосифом и Палацким, Масарик ровно через пятьдесят лет, в 1915 году, смел с лица земли.
XV
Однако осенью 1865 года Масарику было не до идеи государства австрийского. Задача его состояла в том, чтобы, учась в гимназии, еще и просто выжить.
Перед дорогой в чужой мир юный Масарик по давнему деревенскому обычаю обошел самых богатых соседей, не исключая и местного священника, и у всех попросил вспомоществования для учебы в столичном городе. Так ему удалось насобирать шесть золотых. Потом они вдвоем с матерью вышли в дорогу. Мать несла свернутую перину и две буханки хлеба. Пешком из деревни Чейч в город Брюнн шли несколько часов, пока перед ними постепенно не выросла гора Шпильберг с крепостью-тюрьмой наверху, под которой раскинулся город. В северном предместье нашли «квартиру» у портного; он традиционно сдавал часть жилья самым бедным ученикам и подмастерьям, так что на каждого приходился свой угол и общая крыша над головой. Голов в небольшой комнате оказалось шесть. Потом мать ушла обратно в Чейч. Масарик остался один.
Школьный год начался в воскресенье 1 октября 1865 года молитвой к Святому Духу. Ученики пошли на торжественное богослужение в храм Святого Иакова, затем вернулись в школу и выслушали правила поведения. В понедельник гимназисты уже заняли места в своих классах.
После покупки самых необходимых учебников и книг для чтения у Масарика осталось 70 крейцеров. Впереди была нищета. У портного он получал постель, скудный завтрак и белье. За все это надо было платить два золотых в месяц. Масарик не дрогнул: быстро нашел частные уроки — кондиции — и стал за два золотых в месяц учить сына железнодорожного чиновника, а даром — дочь пекаря, который щедро расплачивался с ним не деньгами, а хлебом. Так началась жизнь в Брюнне.
Первую четверть первого года в брюннской гимназии Масарик окончил блестяще — по успеваемости оказался первым из семидесяти одного. Императорская справедливость не замедлила ждать — с февраля 1866 года Масарик был освобожден от платы за обучение. Более того, с мая того же года — по решению венского Управления императорских поместий — служащему этих поместий Йозефу Масарику стали выплачивать стипендию на обучение сына, солидную по тем временам сумму в 20 золотых: ни социальное положение, ни национальное происхождение Масарика этому не были препятствием.
Во второй же четверти первого года дела Масарика изменились вообще кардинально: по рекомендации преподавателя математики Карла Швиппеля (Schwippel) Масарик был принят в дом богатой четы Ле Моньеров как домашний учитель (прецептор) и компаньон их хромого сына.
Глава семьи, кавалер (Ritter) Антон фон Ле Моньер (Le Monnier), был родом из Франкфурта-на-Майне, занимал должность начальника полиции в Зальцбурге и оттуда был переведен начальником полиции в Брюнн. Наряду с наместником маркграфства Моравия он был вторым официальным лицом в городе и провинции, отвечавшим за порядок и защиту прав граждан. Такой пост должен был занимать человек твердых моральных принципов и профессионал. Антон Ле Моньер отвечал обоим этим требованиям. Сам Масарик называет его «благородным человеком». Более того, Антона Ле Моньера Масарик называет своим «единственным настоящим благодетелем»[8].
В чем же состояли благодеяния этого просвещенного полицейского начальника? В самом главном: он пустил шестнадцатилетнего Масарика в свою библиотеку — и Масарик пропал. Это естественно. Чтобы понять мир, нужны знания. Знания — кроме собираемых в прямом опыте повседневной жизни — хранятся в книгах. Но где достать их, как получить к ним доступ провинциальному моравскому словаку, только что явившемуся в спесивый немецкоязычный Брюнн из глухой славянской провинции образца 1866 года? Конечно, существует школьная библиотечка, но она очень скудна и настоящей литературы в ней нет. Увидеть же подлинно богатые книжные собрания можно либо в замках аристократов, либо в домах просвещенных администраторов, либо в резиденции архиепископа. В «Замок» Масарик все еще идет, к архиепископу у него пути нет, и вот, волею случая или волею Провидения, выпадает третье, выпадает дом Антона Ле Моньера. Масарик входит в его библиотеку и начинает глотать книги, начинает познавать.
Книги, конечно, немецкие, и по-немецки молодой Масарик читает все лучше и лучше, есть и французские книги, и потому Масарик берет уроки языка у француженки, учительницы младшего Ле Моньера, начинает читать и по-французски, вот он уже съедает Бальзака, Жорж Санд, Гюго… Но на первом месте — все же немецкие авторы. Самый важный среди них, прямо открытие для Масарика, — Лессинг.
Масарик не зря влюбился в этого человека эпохи немецкого Просвещения. Готхольд Эфраим Лессинг (1729—1781) был не просто просветителем, он был еще и радикалом Рацио, ставившим разум превыше церковной схоластики и сословных предрассудков. Будучи убежденным рационалистом, он полагал (и справедливо полагал, с нашей точки зрения. — С. М.), что история человечества есть процесс постепенного и неизбежного, хотя и медленного, развития человеческого сознания, преодоления мракобесия и скудоумия, освобождения от косных и стадных догм. Кроме того, Лессинг считал, что человек должен жить живой динамичной жизнью и на практике реализовывать задуманное. Вот это последнее стало с того времени главным девизом Масарика — реализовывать себя. Недаром и чешская политическая партия, которую он основал через много лет после прочтения Лессинга, получила прозвище «реалистической», а ее члены стали в чешской среде называться «реалистами». Радикализм Лессинга очень сильно подействовал на юношу Масарика и цепко пустил корни в его сознание. Конечно, не мог Масарик не заметить и тот факт, что с позиций радикализма Лессинг оценивал также состояние сознания и своих соплеменников-немцев, что Пруссию, например, он называл «самой рабской страной Европы» (что, конечно, было сильным полемическим преувеличением). А тут как раз подоспела война с этой самой Пруссией.
XVI
Это была та война, которую предчувствовал, которую не хотел и которой боялся император Франц-Иосиф, его война с Бисмарком за Германию. В чешской традиции эта европейская война (или скорее война за Европу) получила название «вой-ны немцев с немцами». Масарик, сам того не желая, оказался вовлеченным в эту «немецкую» войну и даже получил почти «боевое» ранение.
Война ХIХ века открывалась так: 20 июня 1866 года командиры прусских армий получили спецпакеты; в них содержался официальный текст, которым королевство Пруссия объявляло войну Австрийской империи; этот текст прусские офицеры должны были на следующий день вручить австрийским пограничникам, ждавшим, чем кончится сосредоточение прусских войск перед австрийской границей. Кстати, одним из пограничных пунктов, где происходило официальное вручение текста с объявлением войны, был и силезский городок Освенцим, входивший тогда в состав государства Габсбургов. Текст был вручен 21 июня, и только после этого начались первые, официально разрешенные, схватки между переходящими границу прусскими соединениями и австрийскими аванпостами. Начался так называемый «семидневный поход по Бомерланду», как пруссаки называли те земли, которые теперь называются Чешской республикой.
В одном из первых же боев — у местечка Курживоди 26 июня 1866 года — австрийцы со своими шомпольными ружьями (т. е. заряжающимися с дульной части ствола при помощи шомпола) сразу же познали все преимущества прусских игольчатых ружей (т. е. заряжающихся с казенной части унитарным патроном), скорость стрельбы которых была в 4—5 раз выше. Соответственно и потери австрийцев тоже были пять к одному: австрийцы потеряли в этой первой серьезной схватке 264 солдата, пруссаки — 46. Собственно, уже в этом бою стало ясно, кому достанется победа в войне.

Третьего июля 1866 года Австрия и ее союзница Саксония потерпели катастрофическое поражение в битве у Градца Кралове (тогда он назывался Кёниггретц). Австрийцы потеряли более 40 тысяч солдат убитыми, ранеными, пропавшими без вести и взятыми в плен, пруссаки, соответственно, — около 9 тысяч. При этом командующий австрийскими войсками фельдмаршал Людвиг фон Бенедек сумел все же вывести бо́льшую часть армии из окружения и таким образом спас жизнь десяткам тысяч своих солдат[9].
Австро-прусская война пришлась на летние каникулы. Первый учебный год Масарика в немецкой гимназии в Брюнне закончился — 30 июня 1866 года, чуть раньше времени — в связи с военными действиями, — гимназия была закрыта. На каникулы Масарик ушел к родителям в деревню Чейч. Чешские одноклассники Масарика были настроены патриотически и добровольно записывались в австрийскую армию. Сначала присоединился к ним и Масарик, но потом передумал. И, несмотря на это, все равно попал на войну. Чейч оказался как раз в тех краях, которыми отступала в Венгрию армия Бенедека, выскользнувшая из прусских клещей.
Жарким днем в начале июля Масарик шел с друзьями купаться на пруд между Чейчем и Чейковице и тут в первый раз увидел австрийских кирасир, уходивших от пруссаков. Они несли с собой зловещий слух, что наступающие хватают всех юношей и молодых мужчин и силой забирают их в прусскую армию. Надо было что-то делать: или прятаться от пруссаков, или уходить вместе с австрийскими частями. Как раз в это время в Чейч вошла австрийская тыловая колонна; начальник ее спрашивал, как добраться до Годонина. Масарик предложил свою помощь и вместе с солдатами ушел из Чейча. Колонна не осталась в Годонине, пошла дальше на Голич. Масарик, который знал все эти места как свои пять пальцев, указывал дорогу. 16 июля 1866 года в районе Голича появились первые прусские разъезды. Вскоре началась схватка прусской кавалерии с австрийской пехотой. Масарик с еще несколькими земляками отбежали на недалекий холм и, прячась там за стеной кладбища, наблюдали за сражением. Было уже довольно поздно, около 9 часов вечера. Тут они увидели, что к ним приближается раненый австрийский офицер, как раз начальник той обозной колонны, с которой Масарик ушел из Чейча. Масарик сбегал к ближайшему брошенному обитателями дому, нашел там кусок полотна, намочил его в колодце, вернулся назад и этим импровизированным бинтом перевязал офицера. Но к тому времени Масарик и сам был ранен. Намачивая полотно в колодце, он глубоко насадил ногу на торчавший гвоздь. Боль была такая, что он не мог идти. На дороге положили его в первую попавшуюся телегу отступавшей австрийской армии и отвезли в Прессбург (венг. Пожони, словацк. Прешпорок, с 1919 г. — Братислава), где он попал в лазарет. Перед Прессбургом австрийцы остановили пруссаков в отчаянном бою у Ламача, севернее города, а 26 июля 1866 года между королевством Пруссия и Австрийской империей было заключено перемирие.
Самым главным и роковым для Австрии результатом войны 1866 года было перемещение сферы геополитического влияния государства Габсбургов. Направление неизбежных культурно-экономических воздействий (претензий) шло с этого времени не на север, а на юг. На юге, однако, был не Германский союз, в большей или меньшей степени тяготевший к Австрии, а Балканский полуостров, который к ней отнюдь не тяготел, который надо было еще убедить, что австрийские цивилизационные воздействия ему необходимы. Убеждение это с самого начала шло с трудом, а потом и вообще наткнулось на мощную встречную волну таких же неизбежных культурно-экономических претензий (воздействий) Сербии и России. Поэтому на юге постепенно стали накапливаться предпосылки для следующей войны, на этот раз мировой. Бисмарк до нее не дожил, Франц-Иосиф, никогда ее не желавший, хлебнул ее сполна, а Масарик эту следующую войну реалистически использовал для своей собственной геополитики.
Между тем рана на ноге затянулась, и юный искатель приключений вернулся из Прессбурга снова в Чейч. Но на этом его приключения в этом году не кончились. Поздно вечером 5 августа 1866 года, когда он шел домой из соседней деревни, где навещал своего священника Сатору и прислуживал ему во время обряда отпевания, на него напал бродяга, которых много развелось во время войны в здешних местах. Бродяга неожиданно ударил Масарика ножом в бок, но юноша сумел ответить ему ударом в лицо тяжелой заупокойной свечой, которую, по счастью, нес с собой, и свалил нападавшего в придорожную канаву. Рана была не очень глубока, и он быстро от нее оправился, но то, что произошло, вместе со всем тем, что он увидел на войне, заставило его всерьез задуматься над смыслом жизни и составляющих ее судьбоносных и нелепых (или необходимых?) случайностях[10].
XVII
Пруссаки принесли с собой холеру, началась эпидемия, и школа открылась довольно поздно, лишь 22 октября 1866 года, после тщательной дезинфекции. Масарик пошел в третий класс гимназии («терцию») и вернулся в дом Ле Моньеров.
Франц Ле Моньер был на четыре года младше Масарика, хрупкого телосложения и от рождения хром. Масарик помогал своему ученику не только в приготовлении уроков, но и при ходьбе, поддерживая хромого мальчика на пути в школу и домой. Водил он его и на прогулки, в компании однокашников, на игровые площадки. О чем они говорили друг с другом, неизвестно, но говорили, конечно, по-немецки.
Мать Франца приняла Масарика как члена семьи, кормила его обедами, в дом Ле Моньеров он приходил каждый день, и никто никогда не позволил себе по отношению к нему бестактность каких бы то ни было разговоров о его социальном или национальном происхождении.
Кроме заработка у Ле Моньеров Масарик получал теперь «от императора» еще и личную стипендию 52 золотых в год. Он снял себе новое удобное жилье и даже перевел на учебу в город младшего брата Людвика, которого содержал полностью за свой счет.
Антон Ле Моньер все это время продолжал заниматься воспитанием учителя своего сына. Он направлял Масарика по пути самообразования и учил его духовной дисциплине и систематичности. Под руководством Ле Моньера Масарик стал читать немецких классиков, в частности Гете и Шиллера, хотя любимым его автором все же оставался Лессинг. Затем пришла очередь ученых мужей, как гуманитариев, так и естественников, объясняющих мир: Масарик прочел труды филолога и философа Вильгельма Гумбольдта и его младшего брата, зоолога, географа и метеоролога Александра Гумбольдта, а потом с головой погрузился в Дарвина.
В итоге Антон Ле Моньер, с его направляющим умом и доброй волей, оказал на Масарика такое сильное положительное воздействие, что даже чешскому патриотическому исследователю пришлось назвать этого немца «аристократом духа», хотя в том же абзаце он не преминул означить его и как «австрийского бюрократа»[11]. Между тем Антон Ле Моньер был просвещенным либералом и гуманистом, он избегал резких решений и окончательных характеристик и именно поэтому представлял собой идеальную фигуру на посту полицейского президента в мультиэтничной провинции, которая не знала ни погромов, ни бунтов, ни террористических организаций — как во времена Ле Моньера, так и до самого последнего дня существования государства Габсбургов.
XVIII
Весной 1867 года — Масарик оканчивал тогда «терцию», и ему пошел восемнадцатый год — случилось событие, итогом которого для Масарика стало то, что люди, верящие в судьбу, называют «переменой участи»: в гимназию Брюнна был назначен новый директор, Антон Крихенбауэр (Kriechenbauer). Это был опытный администратор и педагог, до перевода в Брюнн он руководил гимназией в Иглау (теперь Йиглава), и перевод в столицу маркграфства был для него повышением.
Вот как определяет этого человека (или демона?) чешский масариковед: «Был то не просто немец, но жесткий германец, прямо свирепый тевтон. Уже один внешний вид его был страшен. Он был рыж и так вращал глазами, что наводил на всех ужас, и этот ужас возрастал еще и потому, что будучи близоруким, он каждого ставил прямо перед собой и как бы подавлял всем телом. И режим, который он завел, был подчеркнуто немецким. Но это, правда, стало в связи с тем…», как бы мимоходом замечает исследователь, «…что 1 октября 1867 г. в Брно открылась отдельная чешская гимназия, а старая гимназия стала после этого чисто немецкой…»
Так, в условиях невероятного национального угнетения чехов немцами, в немецкоязычном Брюнне открывается, оказывается, чешская гимназия, и мало того, в старой, теперь чисто немецкой гимназии, остается такая дисциплина, как чешский язык, правда, факультативно… И вот тут-то и начинается святая национальная борьба за права и свободы чешского народа — начинается она чешскими учениками в немецкой гимназии. Да почему же не перейти теперь в чисто чешскую гимназию, созданную специально для чехов? Нет, нельзя так унизиться, надо выдержать (vytrvat — именно это слово употребляет чешский исследователь) и победить. А что, собственно, надо выдержать? А то, что немцев теперь в гимназии больше, а чехи представляют собой малый островок посреди немецкого моря. Но это, оказывается, очень полезно для национального освободительного движения, потому что чем больше вокруг немцев, тем острее чехи чувствуют свое чешство, особенно остро его чувствовал Масарик, который изначально объявил, что он чех (т. е. slawisch, а это название «чехов в Моравии», сообщает нам чешский историк)[12].
Теперь весь этот пересказ текста о Масарике, который написал Зденек Неедли, придется перевести на человеческий язык. Слово tschechisch в смысле «чех» официально тогда не употреблялось. По отношению к людям, населяющим провинцию Богемия, использовался термин bömisch, и этот «богемец» мог быть любого этнического происхождения — славянского, германского, семитского. А по отношению к людям, населяющим провинцию Моравия, использовались два официальных термина — deutsch или slawisch, а для евреев — обозначение по вероисповеданию (но если еврей был атеистом (что для того времени трудно себе представить) или христианином (что представить гораздо легче), то и он тоже определялся либо как германец, либо как славянин, смотря по тому, какой язык общения он для себя выбирал). Никаких же «чехов» в провинции Моравия официально не существовало, да Масарик себя «чехом» никогда и не чувствовал, он всегда говорил, что он словак по происхождению. Но поскольку такой политической нации — словацкой — тогда официально тоже не было (как, впрочем, и политических наций чешской или австрийской), все представители многочисленных и разнообразных славянских диалектных групп Моравии официально записывались австрийскими властями как slawisch, в чем была своя логика борьбы с этническим хаосом и некая попытка славянской унификации. Поэтому Масарик был slawisch, и только slawisch, но этот термин никогда не был обозначением «чехов в Моравии», и Масарик «чехом» себя никогда не объявлял — просто потому, что им не был.
Точно так же не было в гимназиях Брюнна, что в немецкой, что в новооткрытой чешской, «чешских учеников», то есть учеников некоей официально признанной на территории Моравии чешской национальности (tschechisch). Чешской гимназия считалась по языку преподавания — им был действительно язык Праги, единственный более-менее кодифицированный литературный славянский язык, имеющийся в распоряжении славян Богемии, Моравии и Силезии в то время, — а не в связи с национальным составом учащихся. Что касается их национальности, то они были в большинстве своем мораванами разных диалектных групп (slawisch), возможно, было там и несколько чехов из Королевства (bömisch), но могли там быть, безусловно, и евреи, и даже немцы. Само открытие славянской гимназии в Брюнне в 1867 году было, безусловно, актом просвещенного гуманизма со стороны австрийских властей (теперь уже лишь одной из властей Австро-Венгрии, поскольку в этом году произошло разделение империи на австрийскую и венгерскую части). Это был еще один, и вовсе не такой уж маленький, шажок к гипотетической федерализации — и шаг к будущему открытию чешского университета в Праге, уже по-настоящему чешского (а не просто славянского), куда в 1882 году перейдет работать по специальности «философия» и некий молодой профессор Масарик из Венского университета. Не надо только забывать, что открывались все эти чешские школы, гимназии и университеты по решению «немцев», то есть многонациональной правительственной администрации государства Габсбургов.

Тем не менее, резкое разделение в 1867 году класса первой гимназии Брюнна на противостоящих друг другу славян и германцев безусловно способствовало также и резкому росту самого радикального национализма — с обеих сторон. Конечно, молодой Масарик активно включился в это противостояние.
XIX
Включение ученика терции, а затем кварты и квинты, в национальную борьбу могло вылиться только в один ее вид — в «борьбу» с учителями и самим директором школы. Чем Масарик и занялся, вспомнив уроки священника Саторы и свою, еще тинейджерскую, борьбу с ректором Францем Людвигом, жене и дочери которого он отказался целовать ручки.
Однако борьба эта «за национальное достоинство и против немецкого гнета», о которой пишут многочисленные биографы первого президента, носила довольно странный характер. Она напоминала скорее некий перманентный глумливый скандал в духе романов Достоевского, чем какой-то сознательный «освободительный» акт.
По сути дела Масарик по самым ничтожным поводам склочничал и ругался с учителями, да и с самим директором. Можно, конечно, сказать, что он таким образом отстаивал свою «свободу» и «правду» от низких людей, как это и интерпретируют некоторые историки (Долежал, Неедли, Полак), но с нашей точки зрения, он просто был груб, высокомерен, тщеславен, плохо воспитан, безусловно, страдал повышенной обидчивостью, а свои комплексы неполноценности (социальной и национальной) вытеснял активной агрессией, собственно и принимавшей форму глумливых скандалов.
Начал он с того, что стал поучать учителей и ловить их на плохом знании законов логики, а также уличать в безнравственности. Обвинение в безнравственности и в непонимании законов логики с тех пор вообще стало любимым занятием Масарика, он практиковал его потом и будучи депутатом Имперского совета в Вене, и будучи президентом Чехословакии.
Моральному осуждению Масарика подверглись прежде всего, конечно, «одродильцы» среди учителей, сознательно принимавшие германизацию. Одним из них был классный воспитатель по фамилии Станек. Преступление Станека перед чешским народом состояло в том, что еще весной он подписывался по-чешски, то есть Staněk, а после каникул стал подписываться по-немецки — Staniek. Этого Масарик простить ему не мог и на полях книги Гая Юлия Цезаря «Записки о галльской войне» начал собственную войну с классным, написав там Staniek = Staněk. Учитель был, естественно, оскорблен и сделал Масарику выговор. Но Масарик уже победил его морально.
Станек, однако, не успокоился и решил Масарику «отомстить», и вот эта «месть» Станека приводит нас в самый центр проблем — но не проблем чешско-немецких взаимоотношений, а проблем возникновения и кодификации чешского (и словацкого) литературного языка и наряду с этим — проблем национальной самоидентификации.
Дело в том, что хотя отец Масарика Йозеф и был венгерский словак, фамилия его произносилась окружающими не по-словацки с твердым «р» («Масарик»), а по-моравски (и так же по-чешски), с мягким «рж» («Масаржик») (а звука «рж» в словацком языке нет), и писалась в связи с этим произношением самыми различными способами: Masařík, или Massařík, или Maszarzik, — и все эти формы фигурировали в документах Томаша Масарика, так что унифицированного написания его фамилии в 1867 году не существовало вовсе.
Сам же Томаш, ощущая себя словаком, произносил свою фамилию так, как ее произносил дома его отец, то есть исключительно по-словацки, с твердым, несмягченным «р», и при таком произношении его фамилия должна была бы писаться (по-словацки) Masárik. Однако тут вступали в противодействие уже законы чешского (пражского) языка, согласно которым после твердого «р» нельзя писать мягкое «и» (т. е. нельзя писать ri), а можно только твердое «и» — то есть ипсилон (тогда написанное будет выглядеть как ry). Вот на это и указал немец Станек «чеху» Масарику: если вы считаете себя чехом, почему же вы произносите в вашей фамилии твердое словацкое «р», а если уж вы произносите твердое «р», то где же тогда ваш чешский ипсилон? И Станек порекомендовал Масарику раз и навсегда унифицировать свою фамилию.
Полак пишет, что Станек сделал это с язвительностью и злорадством. Возможно и так, но в результате Масарик побежал к приходскому священнику и потребовал, чтобы в свидетельстве о рождении ему заменили мягкое «р» («рж») на твердое, а после твердого «р» написали ипсилон. Так фамилия Масарика стала раз и навсегда писаться Masaryk, и в само́м этом написании раз и навсегда остался заключенным парадокс — но и предзнаменование, — потому что произносится эта фамилия по-словацки (ибо, как уже было сказано, звука «рж» нет в словацком языке), а пишется по-чешски (с ипсилоном после твердого «р»). Таким образом, фамилия Masaryk есть чистый чехословацкий гибриди одновременно — исключение как из чешского, так и из словацкого узуса написания фамилий (т. е. по правилам возможно лишь или чешско-моравское Masařík или словацкое Masárik).
Таким образом, граждане бывшей Чехословацкой республики должны были бы быть, по сути дела, благодарны «одродильцу» Станеку за то, что их первый президент сделал себе в итоге «чехословацкую» фамилию.
Изменение фамилии ничего, однако, не изменило в поведении Masarykа. Уличив в безнравственности Станека, он перешел к наставлениям в области логики. Сидел он как-то на уроке греческого, слушал учителя и «строил рожи». Учитель возмутился и спросил Масарика, почему тот гримасничает и смеется. «Ничего подобного, — спокойно сказал Масарик, — это мне солнце попало в глаз, и я прищурился». Учитель не поверил и продолжил обвинять Масарика в непристойном поведении. Тогда Масарик поднялся во весь свой уже немалый рост и прочел учителю греческого языка лекцию о логике, то есть о ложных посылках и, соответственно, о ложных умозаключениях. Учитель греческого, безусловно, знал, что такое логика и чем она отличается от демагогии, и спорить с учеником не стал, но об этом случае масариковской наглости, как и о подобных ему, был, конечно, информирован директор.
Поэтому очередной скандал, теперь уже с самим директором, был как бы запрограммирован в освободительных планах Масарика. Скандал этот он прямо спровоцировал, когда открыто закурил сигару — где? — конечно же, под окнами директорского кабинета, за что и был вызван на ковер. В кабинете директора Масарик заявил, что Крихенбауэр (тот самый «свирепый тевтон», «рыжий», «вращающий очами») лжет и что он, Масарик, вовсе не курил. Как так? А вот так: начинкой сигары, объяснил Масарик глупому директору-немцу, был не табак с никотином, а целебные травки, и вот их-то он и курил. С таким же успехом Масарик мог сказать, что не совершил проступок курения табака, потому что на самом деле курил марихуану. Совершенно ясно, что Масарик просто издевался над директором, над всеми учителями, да и над всей австрийской системой среднего образования в придачу.
Следующий скандал — и, как оказалось, последний (он пришелся на 1868 г., Масарик оканчивал пятый класс гимназии, «квинту») — был связан с отказом Масарика ходить на исповедь. Когда он снова был вызван к директору и тот дружески попросил Масарика (где же тевтонская свирепость?) исполнять эту формальность, сказав, что он и сам должен так делать как государственный чиновник, хотя и не верит в поповские фокусы, Масарик недолго думая обозвал директора подлецом. Не будем забывать, что все эти разговоры происходили по-немецки. Масарик сказал в точности вот что: Wer gegen seine Überzeugung handelt, ist ein Schuft («Кто поступает против своего убеждения, тот подлец»). Директор побледнел и хотел дать Масарику пощечину. Но Масарик отскочил к камину, схватил каминные щипцы и встал в угрожающую позицию. Директор позвал школьного сторожа. Прибежал сторож. Масарик швырнул щипцы в камин и ушел победителем.
На этот раз все было кончено. За такое поведение Масарика должны были выкинуть из школы с волчьим билетом, то есть запретом учиться где бы то ни было на территории Австро-Венгерской империи. Оставалось либо искать счастья в Америке (потом мысль эта не раз приходила Масарику в голову), либо возвращаться в свою деревню. Вот только возвращаться было уже некуда.
Не то плохо, что Масарик вел себя в школе подобным образом — все это были проявления нормального юношеского максимализма, проблемы роста, хотя и осложненные непростой жизнью между двумя мирами, — а то плохо, что биографы первого президента делают из всех этих многочисленных и тщательно ими собранных случаев юношеской вздорности сознательные акты национально-освободительной борьбы. Между тем бороться с немцами Масарик не собирался — он жил в их семьях, учился у их профессоров, защищал у них диссертации и преподавал на их языке, и вплоть до осени 1914 года никогда не занимался «национальным освобождением».
XX
В 1868 году, когда Масарик угрожал директору гимназии каминными щипцами, ситуация осложнилась еще и тем, что в этот момент своей жизни восемнадцатилетний Масарик потерял дом. Дом он потерял потому, что его отец был обвинен в государственной измене.
Продвигаясь в глубину Моравии, пруссаки в 1866 году заняли и деревню Чейч, где жила семья Масариков. И Йозеф Масарик исчез. Отсутствовал он несколько дней, где был, так и осталось неизвестным, но домой вернулся он другим человеком: чисто выбритым и… в очках. Дома он заявил, что выполнял спецзадание: прятал запасы зерна от пруссаков. Но очень скоро поползли слухи, что все было как раз наоборот, что он сам напросился к пруссакам на службу и выдавал им продовольствие и ценности, припрятанные местными от захватчиков, особенно это касалось запасов славного моравского вина, хранящегося десятки лет в деревенских погребах.
Как только был заключен мир и пруссаки ушли, на Йозефа Масарика поступил донос, его начали вызывать на допросы, началось тщательное расследование. Здесь надо отметить, что никакой барин не выпорол и не вздернул моментально ничтожного господского холопа Йозефа Масарика за пособничество заклятому врагу, отнюдь нет, поведение господского холопа было подвергнуто цивилизованному судебному расследованию, которое продолжалось целый год, причем местные власти не имели права судить его за государственное преступление, дело было передано в Вену, господский холоп регулярно и без конвоя навещал окружной суд в Годонине, где давал показания и оправдывался.
В сентябре 1867 года Йозефа Масарика уволили со службы и сообщили ему, что до конца следствия он будет получать лишь треть заработной платы (!). Семье грозила нищета, замечает чешский исследователь, единственной надеждой оставался заработок Томаша Масарика, который он получал как домашний учитель у Ле Моньеров.
Дальше исследователь с гневом и горечью сообщает нам, какая несправедливость вообще царила в Австрии. Вот, например, бургомистр Брно немец Карл Гискра дружески приветствовал представителей оккупационных войск, позвал их на обед в ратушу и даже произнес тост за ликвидацию Австрийской империи, и… ничего ему за это предательство не было. А вот со славянином Йозефом Масариком поступили иначе: ну дружил, дружил он с вражескими солдатами, хотя следствие так никакой конкретной его вины и не доказало, но Вена была по отношению к нему немилосердно жестока, тогда как Гискра, который не мог дождаться присоединения Моравии к Пруссии, не только не был ни в чем обвинен, но еще и получил повышение (действительно, с 1867 г. Карл Гискра стал министром внутренних дел).
В начале 1868 года дело Йозефа Масарика было закончено: суд признал, что Масарик во время войны совершил недостойный поступок и в связи с этим не может больше находиться на службе у императора, то есть быть служащим императорских поместий. Йозеф Масарик был лишен заработка, и ему было приказано к 1 марта 1868 года освободить служебную квартиру. Что же в ответ на это сделал обвиненный в государственной измене господский холоп в Австрии образца 1868 года? Он опротестовал решение суда и подал прошение о пересмотре дела. Ответ холопу из столицы пришел в сентябре 1868 года: протест не был удовлетворен, Йозеф Масарик лишался работы и заработка за «непатриотичное поведение во время оккупации». Немецкий гнет действительно не знал границ.

Йозеф Масарик был уволен с императорской службы, и больше никто им не интересовался, в том числе и полиция. Оказавшись на воле и распрощавшись с императорскими (т. е. по сути дела государственными) поместьями, Йозеф Масарик очень быстро (уже в начале 1869 г.) нашел работу в «частном секторе», у одного барона в Южной Моравии, где получил все ту же работу завхоза, так что его социальное положение, несмотря на обвинение в измене и суд, ни в чем не изменилось к худшему.
Но почему же все-таки и в самом деле изменника Йозефа Масарика преследовали в судебном порядке и наказали, а изменнику Карлу Гискре все сошло с рук, и он даже получил повышение по службе? Нам нужно это понять, это очень важно.
XXI
Поведение Гискры во время австро-прусской войны 1866 года — если мерить его стереотипами нашего времени — было действительно открыто коллаборационистским. После поражения австрийской армии у Градца Кралове он почтительно приветствовал прусского короля, затем торжественно принимал в брюннской ратуше прусского канцлера, а потом даже исполнил по просьбе Бисмарка миссию посредника в переговорах о мире. Он действительно провозглашал тост за ликвидацию Австрийской империи и за вхождение всех ее земель, населенных немцами, в состав Пруссии. По своим убеждениям он был пангерманистом, то есть таким же «собирателем земель немецких», каким был Бисмарк, и поэтому искренне сопереживал последнему и не страдал излишним австрийским патриотизмом.
Но дело в том, что идейное течение, к которому принадлежал Гискра, было легитимным, ему позволялось существовать и развиваться, оно не считалось в толерантном государстве Габсбурговподрывным, сепаратистским, преступным. Да и вряд ли мы вообще можем судить Гискру с моральной точки зрения, как это делают чешские историки. Гискра поступал как патриот своего народа, то есть моравских немцев, он не верил в возможность федерализации Австрии, которую отстаивал Палацкий. Как и все пангерманисты, он полагал, что любое послабление государственной политики в отношении славян, составляющих большинство населения Богемии и Моравии, приведет — в связи с их недостаточной цивилизованностью и отсутствием в их политической культуре развитых принципов правового сознания — к умалению прав немецких соседей, а затем и к прямой их дискриминации и, возможно, полному исчезновению.
Нельзя сказать, что в исторической перспективе Гискра был так уж неправ: о его прозорливости говорит история независимой Чехословакии, где немецкое население (три с половиной миллиона человек в Чехии и Моравии и не менее полумиллиона в Словакии) не только не было признано национальным меньшинством и не получило никакой автономии, но в той же исторической перспективе было безусловно обречено на ползучую государственную «чехословакизацию». Пангерманисты, конечно, видели германофобские славянские настроения и отвечали на это адекватной славянофобией, превращавшейся постепенно в «габсбургофобию».
Действительно, единственным посредником и миротворцем в этой ситуации было правительство Габсбургов, которое старалось лавировать и искать пути разрешения славяно-германского противостояния, не вмешиваясь радикальным образом ни во внутренние взаимоотношения, ни в идейный мир обоих национальных движений. В чем-то эта политика Габсбургов была даже уникальной. Ведь она не мешала не только разваливающим империю пангерманистам, но и разваливающим империю панславистам, терпеливо позволяя выходить наружу излишкам идейного напряжения, чтобы не восстановить против себя ту или иную часть своих подданных.
Поэтому с точки зрения этой осторожной политики властей Гискру не за что было судить. Наоборот, исходя из того, что Гискра разделял «личное» и «общественное» (идеология идеологией, а служба службой) и в служебном смысле свою страну и свой город не предавал — будучи бургомистром Брюнна, рьяно заботился, чтобы в период оккупации все городские службы функционировали исправно, достиг в этом выдающегося успеха (в военное время!) и был признан за это почетным гражданином Брюнна (1866 г.), он и получил за свои достижения одну из высших наград государства Габсбургов, орден Леопольда, дававший право на личное рыцарство, а затем был продвинут на позицию министра внутренних дел — по той простой прагматической причине, что с этими делами профессионально справлялся. Идеи же Гискры мало заботили императора и двор — главное, чтобы функционировала инфраструктура.
Но если Гискра лишь излагал вслух свои мысли — хотя и излишне громко, — то Йозеф Масарик занимался реальным грабежом. Причем совершенно цинично грабил своих же собственных соседей и в условиях войны повел себя как гиена. Отобранное пруссаками у своих земляков вино распивал вместе с захватчиками, служил им проводником, сводил счеты со своими деревенскими врагами, был заурядным военным мародером, способствовал военному хаосу, против которого как раз всеми силами боролся Карл Гискра. С этой точки зрения наказан Йозеф Масарик был совершенно справедливо, хотя и невероятно мягко.
Австрийское правительство достаточно терпимо относилось не только к пангерманистам (типа Карла Гискры), но, как уже было отмечено, и к панславистам. Карелу Крамаржу, например, который так же открыто, как Гискра, в свое время ратовал за вхождение Моравии в состав Пруссии, а позднее боролся за вхождение исторического Чешского Королевства в состав Российской империи, австрийское правительство ни в малейшей степени не мешало. То есть не только не мешало думать и писать то, что он думал, но не мешало и ездить в Россию, принимать там участие в панславистских сходках, провозглашать верность династии Романовых и т. п., и только во время мировой войны терпение австрийского правительства наконец лопнуло и оно посадило представителей чешского панславизма (а точнее панрусизма) в тюрьму, приговорив их всех к расстрелу. Правда, последний император Карл I, как только взошел на престол, тут же всех их амнистировал и освободил. Но благодарности от них не дождался.
Крамаржа посадили и приговорили к смерти, поскольку в 1914 году речь шла уже о существовании Австро-Венгрии, которая не могла выиграть войну с пятой колонной внутри — прорусские пропагандисты в тылу были страшнее, чем русские солдаты на фронте. Но в 1866 году вопрос о существовании или несуществовании Австрии не стоял вовсе, речь шла лишь об утрате некоторых пограничных территорий. Поэтому Гискру с точки зрения австрийского правительства в общем-то не за что было наказывать — он просто вел себя как свободный человек, имеющий право на свою точку зрения.
Конечно, впоследствии именно из идей Гискры и его единомышленников родилась пангерманская маниакальность Гитлера, но пангерманист Гитлер не больше способствовал гибели государства Габсбургов, чем панславист Крамарж. Государство Габсбургов уничтожили оба национализма, дружно взявшись за руки, — германский и славянский.
Между этими двумя национализмами как рыба об лед непонимания бились Палацкий и множество подобных ему. На опасность пангерманского экспансионизма Палацкий открыто указал в своем письме депутатам общегерманского парламента во Франкфурте. Но в этом же письме он достаточно откровенно писал и еще об одной опасности. Поскольку именно эти строки Палацкого цитируются редко, их стоит здесь привести в как можно более полном виде, не забывая, что предвидения, в них высказанные еще в 1848 году, во многом сбылись и продолжают сбываться:
«Вы знаете, господа, какая держава держит весь великий Восток нашей части света; вы знаете, что эта держава, которая ныне возросла в великость огромную, сама из себя и в себе каждые десять лет усиливается в такой степени, в какой не может этого сделать ни одна страна Запада; что, будучи в центре своем недоступною для любого нападения, она давно уже стала опасной для всех своих соседей, и хотя ворота ее распахнуты также и в сторону полуночи, она всегда все-таки, руководимая природным инстинктом своим, особенно стремится расшириться на юг, и туда-то она расширяться и будет; что каждый шаг ее, который она на этом пути сделает вперед, чем далее, тем более будет нести в себе угрозу создания мировой монархии (выделено Палацким. — С. М.), а это было бы невероятным злом, это было бы безмерным, безграничным несчастьем для человечества, так что я, хотя и славянин телом и духом, был бы всем этим тяжко сокрушен, хотя бы монархия эта и провозгласила себя славянской… При всей своей пламенной любви к народу своему, я все же выше всего ценю добро для человечества… По этой причине уже сама возможность существования мировой русской монархии имеет в моем лице самого решительного ее противника и отрицателя… И не потому, что такая монархия будет русской, а потому, что будет мировой… Вы знаете, господа, что на юго-востоке Европы, вдоль границ с Российской империей живут многие народы, различные по происхождению, языку, истории и обычаям — славяне, валахи, мадьяры, немцы, греки, турки, албанцы, — и никто из них сам по себе не в силах успешно и долго сопротивляться своему мощному восточному соседу; это возможно только при условии объединения их всех в один тесный и крепкий союз. Истинная жизненная артерия этого союза народов есть Дунай, от его берегов объединительная власть этого союза не смеет никогда отдаляться, если хочет, чтобы этот союз действительно существовал. Поэтому если бы государства Австрийского не было с давних пор, мы должны были бы в интересах Европы и самого гуманизма сделать все возможное, чтобы его создать…»[13]
Между тем, если чешские либералы XIX века эти мысли Палацкого еще так или иначе воспринимали, то чешские радикалы первой половины ХХ века уже не воспринимали их вовсе. Примером такого сознательного и принципиального «невосприятия» может служить крайне резкая оценка философа-экзистенциалиста Ладислава Климы, который 23 июня 1924 года отметил в своем философском дневнике: «у раболепных чехов постоянно цитирование Пал.[ацкого]: если бы Австрии не было… — Палацкий из них всех был, кажется, наираболепнейший…»[14]
XXII
В результате войны с Пруссией оказалось, что Томашу Масарику — уже начавшему понемногу втягиваться в «борьбу славянства с германством» и в 1868 году отчисленному из гимназии в результате своей собственной фанаберии, отчасти и национальной, — податься некуда: семейное жилье в деревне Чейч перестало существовать. Оказалось, что нет больше ни дома, ни школы.
Здесь опять, как deus ex machina, на сцену являются немецкие благодетели. Во-первых, труд каким-то образом договориться с Крихенбауэром взял на себя Антон Ле Моньер, хотя он мог этого не делать, и тем более не обязан был это делать. Ле Моньер был о директоре немецкой гимназии Брюнна самого высокого мнения и один раз даже отстоял его от обвинения в «бесчеловечности» и «терроризме», охарактеризовав «свирепого рыжего германца, вращающего глазами» как «энергичную натуру реформаторского типа», как «дельного директора, которого отличает энергия слов и поступков» и которого «нельзя обвинить ни в одном акте жестокости или произвола»[15].
Однако подлинные благородство и человечность Ле Моньера состояли в том, что он мог понять или, скажем так, вжиться и в ситуацию Масарика, которому по юношеской глупости грозил в случае получения «волчьего билета» полный жизненный крах — в буквальном смысле изгнание из рая просвещенного либерализма обратно во тьму деревенского невежества — с его Солнцем, крутящимся вокруг Земли. Поэтому полицейский начальник заключил с директором гимназии «тихий договор», согласно которому Масарику разрешено было окончить «квинту» и с миром покинуть эту школу без всякого наказания. Схватка в кабинете директора оставалась тайной, пока президент Чехословакии сам не открыл ее в своих интервью.
Во-вторых, именно в это время благодетель Масарика Ле Моньер получил перевод из Брюнна в Вену. Перевод этот состоялся по ходатайству Карла Гискры, который к тому времени стал министром внутренних дел. Антону Ле Моньеру он по заслугам предоставил высокий пост полицейского президента столицы империи. В ноябре 1869 года Ле Моньеры переехали в Вену. Вместе с ними, как домашний учитель Франца Ле Моньера, навсегда покинул Моравию и девятнадцатилетний Томаш Масарик. В итоге можно сказать, что Масарика спас (или послужил орудием его спасения в Замысле Божьем?) именно тот коллаборационист Гискра, на которого так гневаются чешские историки.
В Вене Масарик, конечно же по рекомендации Ле Моньера, был вместе с Францем принят в «сексту», шестой класс знаменитой Академической гимназии, лучшей, как тогда считалось, гимназии не только Вены, но и всей империи. Из этой гимназии дорога уже вела прямо в университет.

В своем классе Масарик был самым старшим и самым долговязым среди пятнадцатилетних детей почти двадцатилетним переростком. Едва ли не все ученики в сексте были венскими немцами, славян вместе с Масариком было пять человек. Как заботливо замечает чешский исследователь, «их национальность никому не мешала»[16].
На этот раз Вена уже не показалась Масарику такой ужасной, как в 1864 году, когда он, будучи четырнадцатилетним учеником слесаря, сбежал домой, бросив и ученичество, и Вену. На этот раз он жил в комфортабельной квартире Ле Моньеров в доме № 1 по Зальмштрассе в качестве «гофмистра» и всеми любимого члена домашнего клана. В семье его доверительно называли Масса, с ним дружили кузены и кузины Франца, да и остальная молодежь, которая приходила в дом. Излишне напоминать, что все это были немцы.
Только теперь Масарик начал по-настоящему узнавать столицу империи. Как раз в это время в Вене происходила реконструкция, впервые с эпохи Средневековья радикально менявшая внешний вид и внутренний облик австрийской метрополии. До 1857 года, когда император Франц-Иосиф приказал снести городские стены, Вена представляла собой темный перенаселенный город, стесненный средневековыми крепостными сооружениями. Предместья были отделены от старого городского центра так называемыми гласисами, незастроенными, поросшими травой лугами, ширина которых достигала почти полкилометра. Это вольное пространство использовалось как огромный плац для регулярной строевой подготовки и смотров австрийских войск. Вот эти-то луга, в ущерб армейским амбициям и традициям, император и приказал застроить по последнему слову архитектурной мысли и моды.
Строительные и дорожные работы интенсивно велись в течение восьми лет, после чего в 1865 году, за четыре года до приезда в город семьи Ле Моньеров и вместе с ними Масарика, состоялось торжественное открытие Рингштрассе, или попросту Ринга — венской окружной дороги наподобие Садового кольца в Москве. Отличие Ринга заключалось в том, что согласно свободным фантазиям архитекторов и планировщиков он был застроен архитектурными шедеврами всех стилей и эпох. От роскошного и величественного здания австрийского парламента, построенного в стиле позднего эллинизма, через остроконечные громады Вотивного храма и ратуши в стиле новой готики и до великолепных ренессансных зданий венского Бургтеатра, Венской придворной оперы, биржи и университета.
Строительные работы на Ринге велись почти полстолетия, начавшись задолго до приезда в Вену девятнадцатилетнего Масарика в ноябре 1869 года и закончившись перед самым приездом туда семнадцатилетнего Гитлера в мае 1906 года.
В одной из своих речей 1929 года Гитлер сказал, что в основание проекта Рингштрассе была положена политическая идея, суть которой состояла в том, чтобы «сосредоточить символ власти монархии и ее притягательной силы… в едином, все превосходящем, прекрасном центре… Маленький человек, приезжающий в столицу и видящий резиденцию правительства, должен был почувствовать, что там живет властелин…»[17]
Вряд ли «маленький человек» Масарик что-либо такое чувствовал или о чем-нибудь таком думал, наоборот, больше он должен был думать о самом себе, о резком повороте в собственной жизни, ведь переезд в столицу империи означал еще один шаг в сторону того «За́мка», который оставался целью его предчувствий.
Ринг соединил старое городское ядро с многочисленными ближними и дальними предместьями, и уже к 1900 году Вена стала неохватным городом. В 1869 году эта перспектива для Вены только начиналась, но уже и тогда Масарику было где побродить и на что посмотреть. Вдоль широкого Ринга с невероятной быстротой вырастали великолепные здания жилых домов для богатых, кафе, рестораны, гостиницы, шикарные магазины; Ринг по гигантскому кругу обегал весь старый город и как бы замыкал его у набережных Дуная. Вена уже тогда славилась множеством парков, скверов, садов, а на окраинах города начинались холмы, за цепями которых в далеком тумане угадывались отроги Альп. Город был прекрасен, и юный Масарик, имея надежную крышу над головой и надежную перспективу достойного образования, жил в нем полной жизнью.
XXIII
Экзамены на аттестат зрелости в венской Академической гимназии Масарик сдал 4 июля 1872 года, было ему уже 22 года. На каникулы отправился в моравскую деревню Клобоуки, где его отец уже второй год был управляющим в большом поместье, так что коллаборационизм в итоге помешал Йозефу Масарику в карьере столь же мало, как и Карлу Гискре.
Осенью 1872 года Масарик записался в Венский университет на классическую филологию. Все это время он жил в доме Ле Моньера и получал от него содержание за опекунство над хромым Францем, которому в ту пору исполнилось уже 18 лет. Эта беззаботная и даже счастливая жизнь кончилась внезапно. В 1873 году в судьбу Масарика, кажется в первый раз, «вмешалась» Россия.

Первого мая 1873 года в Вене началась Всемирная выставка. На ее открытие и позже в столицу Австро-Венгерской империи съехалось множество королей, принцев и принцесс. Прибыли также один царь и один шах. В знак уважения к представителям династии Гогенцоллернов Франц-Иосиф I, чертыхаясь и ворча, что чувствует себя врагом австрийского императора, вынужден был надеть мундир прусского гренадерского полка, в котором был почетным командиром. Приемы, встречи и прощания были длинными, помпезными и изнурительными. Еще больше, чем Франц-Иосиф, страдала его жена Елизавета (она же просто Зисси), которая терпеть не могла ни русского царя, ни пруссаков, ни итальянцев (страх был провидческим: через двадцать пять лет императрица была убита итальянским террористом с помощью бандитской заточки). Надо сказать, что царь Александр II воспринимал австрийцев соответственно, всем своим сдержанным и даже неприветливым видом давая понять, что не забыл «предательство» Австрии во время Крымской войны. Что касается Франца-Иосифа, то тот вообще ни одному русскому царю никогда не верил, а новоиспеченного германского императора Вильгельма I считал человеком грубым до наглости, самодовольным и лицемерным[18].
В обязанности полицейского президента Вены Антона Ле Моньера входило, естественно, в первую очередь обеспечение безопасности царствующих особ во время их приездов и проводов. Во всех этих мероприятиях ответственный Ле Моньер участвовал лично. Лично поехал он провожать на вокзал городка Пенцинг (который тогда еще не был частью Вены) и русского царя Александра II. Во время долгой церемонии проводов Ле Моньер, который и так уже несколько дней чувствовал себя неважно, подхватил простуду и 17 июня 1873 года, в возрасте 53 лет, скоропостижно скончался от воспаления легких.
Еще до этого ужасного для Масарика события (подобного неожиданной смерти одного из первых его благодетелей, хозяина замка в Чейковице Франца Шустера), произошли события, не менее катастрофические. Через несколько дней после открытия Всемирной выставки в Вене началась эпидемия холеры. Ее жертвами стали более двух тысяч человек. В это же время смерть, хотя и не связанная с эпидемией, пришла и в семью Масарика. Его родной брат Мартин тоже переселился в Вену и жил в предместье Флоридсдорф, занимался там торговлей. В начале 1873 года он был призван на срочную службу в артиллерию. Весной во время утренней строевой подготовки он простудился и попал в военный госпиталь; там у него начался брюшной тиф, в мае он умер.
Между открытием выставки, на котором мучились Франц-Иосиф и Елизавета Габсбурги, и смертью Мартина Масарика, которая привела Томаша Масарика в состояние исступления, произошло еще одно ужасное событие. 9 мая 1873 года обрушилась венская биржа. Австрийский золотой был обесценен. Прекратилось строительство замечательных зданий, закрылись роскошные магазины, десятки тысяч вкладчиков и акционеров в одно мгновение стали нищими, людей охватили паника и отчаяние. Газеты сообщали, что «каждую минуту где-нибудь в городе находят тело самоубийцы»[19].
Двадцать второго мая 1873 года Масарик вернулся домой с похорон Мартина и в гневе зашвырнул в угол Катулла, Тибулла и Проперция — с классической филологией было покончено, она ничем не могла помочь. 1873 год стал для Масарика годом тяжелейшего потрясения и кризиса. «С того времени я полностью доверился философии», написал он позже, «я искал в ней утешение — и нашел его»[20].
В июне 1873 года осиротевшая семья Ле Моньеров должна была освободить служебную квартиру на Зальмштрассе, дом № 1. Средств содержать еще и домашнего учителя у вдовы не было. Масарик простился с людьми, в доме которых, не будучи им ни родственником, ни даже соплеменником, прожил не менее семи лет, с которыми каждый день сидел за общим обеденным столом, в библиотеке которых прочел или просмотрел каждую книжку, с помощью которых обрел редкую для человека его сословия возможность получить образование в лучшей школе страны. Простился и никогда больше не интересовался их судьбой.
XXIV
О Масарике той поры осталось множество воспоминаний современников — односельчан, одноклассников, учителей, студентов, и только тот, с кем он жил в одном доме и виделся каждый день, его ученик и воспитанник Франц Ле Моньер, не оставил никаких мемуаров о первом чехословацком президенте и никогда о нем не вспоминал.
Яромир Долежал с некоторой долей обиды пишет, что хотя Ле Моньер «и до сего дня живет в Вене (писано в 1920 г. — С. М.), он тот единственный, кто о своем многолетнем учителе якобы ничего теперь не знает»[21]. И Зденек Неедли без всяких объяснений замечает, что Ле Моньер о Масарике «якобы не помнит, либо не хочет помнить»[22]. Чем же была вызвана такая «забывчивость» Франца Ле Моньера, такая его неохота что-то говорить о Масарике?
Возможно тем, что, как скандалы Масарика в брюннской школе, так и отношения между Массой и «Хромоножкой» не могли в общем-то не развиваться в атмосфере, прямо созданной для воплощения в жизнь не то сюжетов того же Достоевского, не то теорий Фрейда и Юнга. Стоит лишь внимательнее присмотреться.
С одной стороны — пышущий здоровьем и бравирующий самостоятельностью, независимый в мыслях и поведении, не скрывающий своей германофобии, упрямый, эгоцентричный, сильный славянин, с другой — от рождения хилый, маленький, слабый, ущербный, с неизбежным комплексом неполноценности «австрияк», плативший за знания и за физическую помощь деньгами, несамостоятельный, наверняка завидующий, а после смерти отца к тому же переживший «предательство» воспитателя, то есть его отчуждение, отдаление, окончательный уход, — о чем и зачем ему вспоминать? В его присутствии развивались романы Массы; его, который и ходил-то с трудом без посторонней помощи, брал Масса на деревенские танцы, где сам танцевал и знакомился с девицами… а что делал в это время Франц? Масса и так-то не тонок, а тут вообще толстокож. Да и принципиально толстокож. Чем платит он за бескорыстное добро? В худшем случае тонким издевательством, в лучшем — равнодушием, пренебрежением.
Биографы Масарика не без злорадства сообщают, что в Австрии Франц Ле Моньер достиг впоследствии «высокого» положения: занимал должность заведующего не то книжным складом, не то складом школьных учебников. Возможно, что это и так, но поиски показали, что вообще-то Франц кавалер фон Ле Моньер уже в 1878 году, то есть в возрасте 24 лет, был уважаемым членом правления Императорско-королевского Географического общества в Вене и отвечал за его библиотеку. Более того, он, оказывается, еще и писал.
Вот некоторые из его книг:
«Литература о полярных регионах Земли» (Karpf, Alois, Le Monnier, Franz Ritter von. Die Literatur über die Polar-regionen der Erde von Josef Chavanne. Wien, 1878).
«Новая карта железных дорог Средней Европы» (Le Monnier, Franz von. Neue Eisenbahnkarte von Zentraleuropa. Wien, 1921).
А вот книга о нем:
«Жизнь и труды австрийских картографов Йозефа Шаванна и Франца кавалера фон Ле Моньера» (Dammerer, Franz Peter. Leben und Werk der österreichischen Kartographen Josef Chavanne und Franz Ritter von Le Monnier. Hamburg, 1995).
Оказывается, пока Масарик (1850—1937) занимался созданием партикулярного национального государства, с головой уйдя в интриги местного значения, Франц Ле Моньер (1854—1925) описывал и издавал карты транспортных путей, соединяющих Среднюю Европу, собирал библиографию работ, описывающих исследования белых пятен Земли. Заботиться о целом материке или даже обо всей планете — это характерное занятие для человека, потерявшего дом. Поэтому, видимо, Франц и не хотел впускать в свое сознание «Массу» — ведь первый чехословацкий президент лишил его города и страны, лишил родных мест, где он взрослел, где прошло его отрочество.
29 июня 2014 г., гора Ганспаулка
[1] Эссе «Миф «ТГМ» посвящено судьбе первого чехословацкого президента Т. Г. Масарика и состоит из нескольких частей. Первая часть «ТГМ-1. Выбор языка» опубликована в журнале «Иностранная литература», № 3 за 2014 г. и повествует о проблемах самоидентификации главного героя. Вторая часть «ТГМ-2. Благодетели» состоит из двух глав — «Введение в За́мок» («ОЗ» № 3 (60) за 2014 г., с. 258) и «Хромой мальчик» — и описывает становление моральных убеждений главного героя. Третья часть «ТГМ-3. Изобретение Швамбрании» рассказывает о создании главным героем страны Чехословакии. Четвертая часть «ТГМ-4. Падение богов» анализирует причины гибели этой страны как закономерный результат жизни и деятельности главного героя.
[2] Böse Deutsche (нем.) — «злой немец», почти фольклорная фигура вечного пугала, угрожающего существованию «доброго славянина»; в современном немецком языке это выражение употребляется с ироническим оттенком; однако в процессе контактов германцев со славянами у последних действительно возник своего рода психологический комплекс, который немцы называют «die geheuchelte Angst vor den bösen Deutschen» — «лицемерный страх перед злыми немцами», т. е. своего рода фигура оправдания славянами своих исторических неудач именно тем, что все эти неудачи якобы были вызваны кознями, угрозами и вообще сознательной антиславянской деятельностью немцев; этим комплексом, безусловно, страдали Гавличек, Сатора, Масарик; и до сих пор он существует в Чехии.
[3] См.: Данте, Алигьери. Божественная комедия. Ад. Песнь первая. Строки 1—3. Перевод М. Лозинского.
[4] Van der Kiste, John. Císař František Josef. Život, pád a zánik habsburské říše. Praha, 2008 (перевод с английского: Emperor Franz Joseph. 2005).
[5] См.: Palacký, František. Idea státu Rakouského. Olomouc, 2002. S. 8ff.
[6] Palacký, František. Idea státu Rakouského. Olomouc, 2002. S. 62.
[7] Rak, Jiří. Zachovej nám, Hospodine. Češi v Rakouském císařství 1804—1918. Praha, 2013. S. 82—83.(Перевод с чешского везде наш. — С. М.)
[8] Nejedlý, Zdenek. T. G. Masaryk. Kn. 1—4. V Praze, 1930. Kn. 1. 1850—1882. S. 169.
[9] Bělina, Pavel, Fučík, Josef. Válka 1866. Praha, 2005. S. 191.
[10] См.: Nejedlý. Op. cit. S. 160—162.
[11] Nejedlý. Op. cit. S. 167.
[12] См.: Nejedlý. Op. cit. S. 170.
[13] Palacký. Op. cit. S. 81—82.
[14] Klíma, Ladislav. Sebrané spisy. I. Mea. Praha, 2005. S. 287.
[15] Polák. Op. cit. D. 1. S. 379.
[16] Polák. Ibid. S. 126.
[17] Hamann, Brigitte. Hitlerova Vídeň. Praha, 1999. S. 85—86.
[18] Van der Kiste, John. Císař František Josef. Život, pád a zánik habsburské říše. Praha, 2008. S. 115.
[19] Polák. Op. cit. S. 151.
[20] Nejedlý. Op. cit. Kn. 1. S. 226.
[21] Doležal, Jaromír. Masarykova cesta životem. D. 1—2. Brno, 1920—1921. D. 1. S. 16.
[22] Nejedlý. Op. cit. Kn. 1. S. 223.