Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 3, 2014
Специальный номер «Отечественных записок», посвященный гражданскому обществу, вышел в начале 2006 года. Его название — «Граждане без общества» — констатировало главный изъян тогдашней ситуации: слабость процессов общественной самоорганизации и их отставание от потребностей тех людей, которые уже ощутили себя гражданами. По иронии судьбы (или истории) примерно с этого времени, с середины 2000 года, как раз и начинается очевидный подъем общественной самоорганизации в России, появляются и выходят в публичное пространство многообразные движения — правозащитные, экологические, городские, независимые профсоюзы, многочисленные благотворительные и волонтерские ассоциации и пр. Эти частичные движения, а также социальные уличные протесты второй половины 2000-х, всероссийские (против монетизации льгот в 2005 г.) и региональные (во Владивостоке и Калининграде в 2009—2010 гг.) создавали и постепенно расширяли ту неполитическую публичную сферу, независимую от государства и часто противостоящую ему, которая и является сферой гражданского общества.
В сочетании с политическими протестами (как, например, марши и митинги «несогласных» в 2005—2008 гг.) это создало тот социально-политический фон, на котором стало возможным массовое протестное движение конца 2011—2012 годов, развернувшееся по чисто политическому поводу — фальсификации результатов парламентских выборов и вокруг политических требований — демократизации авторитарного режима и борьбы с коррупцией. Все это происходило вопреки нараставшему с 2005 года стремлению поставить эти движения и организации под государственный контроль и ограничить пространство их деятельности. После массовых протестных демонстраций 2011—2012 годов власть предприняла попытку тотального сворачивания пространства гражданского общества, законодательного ограничения и криминализации практически всех форм независимой гражданской и политической активности. Пропагандистская кампания российской власти и подконтрольных ей СМИ, направленная на дискредитацию демократического содержания украинской революции 2013—2014 годов, аннексия Крыма и неприкрытое поощрение вооруженного сепаратизма в Восточной Украине, развязывание имперской истерии в российском общественном мнении, а также общий антизападный, антилиберальный разворот власти и значительной части общества в России — все это, несомненно, оказывает мощнейшее демобилизующее воздействие на те элементы и институты гражданского общества, которые удалось создать в 2005—2012 годах.
Что произошло с гражданским обществом в России с середины 2000-х годов? Какие проблемы встали перед ним в период подъема и каковы те изменения, которые произошли в нем по сравнению с предшествующим пятнадцатилетием (1991—2006)? Как сочетается общественная самоорганизация и политическая оппозиция, гражданское общество и политический протест? В чем причины того, что подъем протестного оппозиционного движения оказался столь недолговременным, а его результаты — столь малыми и быстро обратимыми? Какова вероятность того, что российской власти удастся задушить ростки гражданского общества, которые появились в 2005—2012 годах? Чем объяснить, что гражданское общество оказалось практически беззащитным перед волной пропагандистской лжи, направленной на дискредитацию демократической революции в Украине, и не смогло этому ничего противопоставить? Каковы основные вызовы, с которыми сталкивается гражданское общество в России в 2014 году и как можно сформулировать его современную повестку?
Обратимся сначала к тому, как виделась проблематика гражданского общества в конце 2005 — начале 2006 года, что из тогдашних представлений оправдалось, а что нет.
Границы гражданского общества
Тогда, в середине 2000-х годов, дискуссии вызывало само представление о гражданском обществе, о его содержании, границах и местоположении. Йенс Зигерт, в частности, писал о двух трактовках понятия «гражданское общество». «Согласно первой, гражданское общество — это особое, четко очерченное общественное пространство. В России для него существует обозначение "третий сектор" (наряду с "первым сектором" — государством и "вторым сектором" — бизнесом). Это представление восходит к диссидентской среде, возникшей 40—50 лет назад в странах Центральной и Восточной Европы, которые находились тогда под контролем Советского Союза. "Гражданское" в таком понимании вполне оправданно противопоставлялось тоталитарному, насквозь милитаризированному государству»[1]. Второй подход к гражданскому обществу «предполагает особое качество социальных взаимодействий, его наличие означает преобладание гражданского образа действий и демократических убеждений у его членов»[2]. В любом случае гражданское общество отделено от государства, его жизнь регулируется этическими нормами, ценностями и традициями и «не требует никакого законодательного вмешательства со стороны государства»[3].
Другие исследователи указывали на принципиальные отличия гражданского общества в России от «импортированных» западных образцов. По мнению Симона Кордонского, «сильное и совсем не стремящееся организовываться гражданское общество — специфика России. Его существование (как повседневных отношений землячества, соседства, родства, этнической и конфессиональной принадлежности и т. д. и т. п.) столь же несомненно для автохтонов, как существование специфической российской семьи и государства. Его [гражданского общества] феномены иногда демонстративны и грубы, чаще привычны и незаметны»[4]. В рамках такого же предельно расширительного толкования гражданского общества лежит и представление Алексея Левинсона о мафии как специфической форме общественной самоорганизации, которая может перерасти в гражданские струк-туры[5]. Эти высказывания отражали достаточно распространенные в 1990-е годы взгляды, согласно которым любая независимая от государства самоорганизация содержит в себе зачатки гражданского общества.
Гражданское общество — это феномен, исторически возникший на Западе, и теория гражданского общества, от Антонио Грамши до Юргена Хабермаса, построена в первую очередь на обобщении западного опыта. Речь идет именно о теории гражданского общества, исследующей и объясняющей целенаправленные действия его акторов — различных ассоциаций, обладающих собственной логикой развития, отличной как от политической (государственной), так и от экономической (рыночной)[6]. Вместе с тем взрыв теоретического интереса к гражданскому обществу и, по сути дела, появление самой теории, были связаны с необходимостью осмысления опыта противостояния авторитарному государству в Восточной Европе и Латинской Америке в 1970—1980-е годы[7]. Поэтому современная теория гражданского общества включает не только анализ «незападного» опыта, но и переоценку, переосмысление ситуации на самом Западе исходя из нового опыта гражданских движений за его пределами. Ключевым для характеристики гражданского общества в рамках этой теории является наличие публичной сферы, отличной от политической организации этого общества, то есть от государства, и автономной по отношению к государству. Эта неполитическая публичная сфера включает саморегулирующиеся ассоциации, что отличает гражданское общество от массового. Эти ассоциации и публичная сфера в целом носят открытый характер в отличие от закрытых, прескриптивных или корпоративных форм общественного устройства. Кроме того, гражданское общество предполагает разнообразие и множественность действующих в нем ассоциаций, определенную степень их приверженности общим задачам и их свободный доступ в политическую сферу[8]. Это «узкое» определение гражданского общества, исключающее из его сферы политические партии и муниципальные структуры, являющиеся по существу посредниками между политическим и гражданским обществом, позволяет ограничить его теоретические рамки, с тем чтобы его можно было использовать как инструмент анализа социальной действительности и ее изменений.
В современной теории гражданского общества существуют, на мой взгляд, достаточно четкие ограничители, позволяющие разделять гражданские и негражданские формы самоорганизации. Во-первых, гражданские ассоциации по определению открыты, свободны, непринудительны, неадскриптивны. Что очень важно, в гражданской ассоциации свободен не только «вход», но и «выход». Принадлежность к традиционным или традиционалистским сообществам (о которых Симон Кордонский говорит как о специфике гражданского общества в России) обусловлена фактом рождения, этничности, землячества, профессионального, религиозного или иного статуса родителей, эти сообщества не свободны на «входе», принадлежность к ним адскриптивна, то есть предписана до и помимо свободного выбора индивида. Во-вторых, гражданская ассоциация, опять-таки по определению, ориентирована на индивида, на ценность и права отдельного человека, принадлежащего к данному сообществу. Иначе говоря, «гражданское общество» в современной теории — это нормативно нагруженное понятие, включающее толерантность, плюрализм, уважение к личности в качестве фундаментальных этических оснований[9].
Ни по одному из предложенных критериев криминальные, мафиозные структуры не могут рассматриваться как элемент гражданского общества, хотя они зачастую являются продуктом самоорганизации. Будучи относительно свободными на «входе», эти структуры, как правило, жестко закрыты «на выходе». Гражданские организации, отстаивая коллективные права своих членов, создают основу для плюралистического взаимодействия внутри общества и между обществом и государством. В организациях, имеющих криминальные, мафиозные корни, интересы отдельных членов полностью подчинены интересам «общего дела». Даже занимаясь благотворительностью, эти организации жестко обуславливают доступ к распределяемым благам и способствуют становлению принудительных, вертикальных, патерналистских конструкций внутри общества и преференциальных, патрон-клиентских отношений с государством. Поэтому институционализация криминальных сообществ свидетельствует, как правило, не об их гражданской эволюции, а о криминализации и деградации государственных структур.

Думается, что опыт, накопленный в России с середины 2000-х годов, вполне однозначно подтверждает эти выводы. Гражданское общество развивалось в неполитическом публичном пространстве, одновременно создавая это пространство и раздвигая его границы. Выжили и усилились те ассоциации и движения, которые отстаивали непосредственные жизненные интересы их участников—движения в защиту жилищных прав, против уплотнительной застройки и принудительных выселений, за сохранение архитектурного облика городов, экологические инициативы в защиту среды обитания, предотвращение вырубки лесов и парковых зон. Сохранились старые и возникли новые правозащитные организации, отстаивающие права граждан против произвола государственных чиновников, правоохранительных органов и бизнеса. Кроме того, в этот период появились многочисленные ассоциации, направленные на защиту интересов других — благотворительные организации и фонды, волонтерские движения, помогающие жертвам катастроф и природных катаклизмов, поддерживающие стариков, больных детей и детей-сирот, защищающие бездомных животных и т. п.[10] Некоторые из этих движений создавали долговременные ассоциации, как например «Движение в защиту Химкинского леса» или «Лиза Алерт», занимающееся поиском пропавших без вести детей и взрослых, другие же оставались неассоциированными группами, распадавшимися после достижения цели или, чаще, в результате неудачи или поражения.
Так или иначе, процесс низовой самоорганизации развивался в 2006—2012 годах во вполне «традиционном» для гражданского общества русле. Не было, насколько мне известно, случаев того, чтобы организации, эффективно защищающие права и интересы граждан (например, в жилищной сфере), выросли на основе криминальных группировок. Напротив, сращивание до полной неразличимости организованных преступных сообществ с властными структурами всех уровней являлось обычной практикой. Российское авторитарное государство во второй половине 2000-х, все более подчиняясь частным интересам приватизировавших его олигархических групп, фактически перестало быть системой основанных на праве публичных институтов и оказалось вполне совместимым с закрытыми неформальными структурами, в том числе криминального характера. Эта ситуация вызвала к жизни новое направление в гражданском движении, целью которого является разоблачение многообразных проявлений коррупции в государственных органах и среди государственных служащих (Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщество «Диссернет»). Представляется, что антикоррупционные движения и в будущем сохранятся как один из важнейших конституирующих гражданское общество факторов.
Гражданское общество и власть
Важнейшей проблемой становления гражданского общества в России остаются его отношения с авторитарной властью. Восемь лет назад, в начале 2006 года, уже было очевидно, что российская власть взяла курс на сокращение пространства гражданского общества. Ужесточение контроля над НКО, введенное в законодательство в 2006 году, вполне последовательно продолжало линию на ликвидацию независимых центров активности, сначала в федеративной структуре, законодательной власти и партийной системе, а затем в экономике и средствах массовой информации[11]. Мария Липман подчеркивала тогда, что «пространство автономи-зации и свобода объединения существует в той мере, в какой те, кто в этом участвует, держатся в стороне от политики. Все это существует и, вероятно, сможет существовать дальше, поскольку наше государство тяготеет к авторитаризму, а не к тоталитарности. И крайне маловероятно, чтобы сегодня был воссоздан тоталитарный проект, хотя бы потому, что невозможно себе представить не изоляционистский тоталитарный проект. А «закрыть» страну невозможно, поскольку худо-бедно существуют рыночная экономика и властная установка на энергетическую сверхдержаву и еще по целому ряду причин»[12].
Прошедшие 8 лет внесли в эту картину очень серьезные коррективы, которые, как представляется, не поддаются однозначному суммированию. Ситуация в гражданском обществе и его взаимоотношения с государством оказалась и «лучше», и «хуже», а, главное, гораздо сложнее и противоречивее той, которая виделась в начале 2006 года.
Во-первых, гражданское общество, несмотря на постоянное давление, оказалось способным не только на дальнейшую самоорганизацию, но и на успешное проведение общественных кампаний сопротивления власти там, где она ущемляла интересы различных групп и граждан в целом, а также на то, чтобы взять на себя функции государства в тех случаях, когда оно с ними очевидно не справлялось. Это касалось, коллективного гражданского действия (помощь бездомным, больным, сбор средств, тушение пожаров в 2010 г. и помощь жертвам наводнения в Краснодарском крае в 2012 г.), различных выступлений против властного произвола, борьбы с коррупцией, протестных акций («Марши несогласных», «Стратегия 31»)[13]. Во-вторых, столкновения по частным проблемам с коррумпированными чиновниками государственных органов разного уровня неизбежно приводили к вынужденной политизации общественных движений. «В условиях, когда исполнительная власть подчинила себе законодательную и судебную ветви, устранив тем самым барьеры для коррупционных интересов чиновников федерального и местного уровня, уничтожив легитимный механизм разрешения конфликтов (независимый суд), общественные инициативы, сталкивающиеся с властным произволом, начинают ему сопротивляться. В итоге они либо прекращают свою деятельность, либо (если уровень институционализации позволяет им вести работу в неблагоприятных условиях) политизируются»[14].
Многообразные процессы самоорганизации во второй половине 2000-х годов, наложившись на нараставшее в обществе недовольство произволом властей, невозможностью защитить свои права в суде, невозможностью повлиять на положение дел в стране, несомненно, подготовили почву для появления массового протестного движения в конце 2011—2012 годов. Вместе с тем это протестное движение не стало просто продолжением социальной самоорганизации, результатом горизонтального структурирования общества и формирования на этой основе неполитической альтернативы власти[15]. Напротив, именно политические мотивы — протест против очевидной фальсификации результатов парламентских выборов — вывел зимой 2011 — весной 2012 года десятки тысяч людей на улицы Москвы. Этот протест был подготовлен, с одной стороны, политической активностью граждан и ассоциаций, организовавших массовое наблюдение за выборами (прежде всего «Голос» и «Гражданин Наблюдатель»), а с другой — деятельностью оппозиционных политических партий и организаций («Солидарности», РПР-Парнас, «Яблока», «Левого Фронта»). Но вместе с тем на улицы вышли десятки тысяч людей, которые не были затронуты ни одним из этих видов деятельности, большинство из них никогда прежде не участвовали в политических митингах и демонстрациях. Очевидно, что за политическим протестом и политическими требованиями — пересчета голосов, отставки главы Центральной избирательной комиссии, а затем отставки Путина и политической реформы — стояло моральное возмущение людей, ощутивших себя гражданами. Спусковым механизмом этого движения стала крайне неудачная попытка власти, просмотревшей наличие общества в России, вести себя в новой ситуации по-прежнему. Наглая и тупая власть, не скрывающая, а демонстрирующая произвол, столкнулась с готовностью людей защищать свои права и достоинство.

С моей точки зрения, важнейшее значение тех событий, которые произошли в России, и в особенности в Москве, в декабре 2011 — марте 2012 года, заключается в появлении нравственной альтернативы тому предельно циничному контракту безнравственной власти с деморализованным обществом, который утвердился в России в 2000-е. Суть этого контракта заключалась в том, что общество в целом соглашалось с навязываемым властью консенсусом: нет и не может быть иного способа жизни в России, кроме адаптации к существующей системе и принятия ее правил игры. Только соглашаясь с жизнью «применительно к подлости», встраиваясь в систему, можно достигнуть успеха. Иного способа жизни не может быть не только в России, но и нигде в мире. Те, кто на словах провозглашает иные ценности, на самом деле действуют из корыстных побуждений, то есть получают за это деньги[16]. Тот дискурс, который власть противопоставила протестному движению, вполне укладывался в рамки убогого мироощущения тех, кто в принципе не может себе представить иных, альтруистических и солидарных мотивов человеческих действий[17].
В конце 2011 — начале 2012 года неожиданно выяснилось, что отнюдь не все готовы и дальше вести унылое существование в рамках этого циничного контракта. Потребовав честных выборов, протестующие открыто выступили против системы лжи и коррупции, пронизывающей всю российскую жизнь. Тысячи людей не пожалели своего времени и сил, чтобы быть наблюдателями на выборах в декабре 2011 и марте 2012 года, десятки тысяч выходили в сильный мороз на митинги и шествия. Пространство политической оппозиции режиму выстраивалось как пространство морального противостояния властному произволу, авторитаризму и коррупции. Не случайно на первый план в руководстве этим движением выдвинулись люди творческих профессий — журналисты, писатели, музыканты (Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко, Ольга Романова, Леонид Парфенов, Юрий Шевчук, Борис Акунин, Дмитрий Быков, Артемий Троицкий и др.).
Представляется, что в период подъема протестного движения 2011—2012 годов в России (точнее, в Москве и Санкт-Петербурге) впервые произошло расширение пространства гражданского общества за пределы «третьего сектора». В него оказались включенными не только разнообразные ассоциации, но и множество отдельных людей, которые, хотя и в неординарных условиях общественного подъема, были вовлечены — через социальные сети — в горизонтальные структуры гражданского взаимодействия. Московские протесты были частью общемирового феномена, распространившегося в 2011—2014 годах от Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло и Каракаса до Мадрида, Туниса, Каира, Стамбула, Киева и Бангкока. Суть этого феномена — в самоорганизации общества, выступающего против политической системы, не выражающей интересов этого общества. Непроницаемость политики для человека, отсутствие его в политической системе повсеместно и, как правило, неожиданно начали приводить к массовому присутствию людей на улицах. Людей, добивающихся признания себя полноправными акторами и протагонистами политики, а своих целей и интересов — общественно значимыми.
Можно ли было трансформировать в 2011—2012 годах потенциал общественного недовольства в политическое действие, направленное на изменение политической системы? Представляется, что это в решающей степени зависело от формирования устойчивых структур общественной самоорганизации, подобных польской «Солидарности» или Партии трудящихся в Бразилии, которые могли бы эффективно трансформировать антиавторитарный общественный протест в политический. Таких устойчивых структур в Москве не возникло, хотя попытки создать их предпринимались как во время протестных выступлений (Оргкомитет митингов, Мастерская протестных действий, Лига избирателей), так и после них (Координационный совет оппозиции). Большинство этих организаций сошло на нет вместе со спадом протестной волны. Опыт практически всех стран, где в последние годы происходили протестные выступления, свидетельствует, что структуры, возникающие в результате общественной мобилизации через социальные сети, как правило, оказываются недолговечными и малоэффективными для достижения тех политических целей, которые они провозглашают. В результате складывается «огромная диспропорция между колоссальной политической энергией этих демонстраций и их крайне незначительными практическими результатами»[18].
Мощный мотор массового действия без организационных приводных ремней в большинстве случаев работает вхолостую. В России, как, впрочем, и в других странах, этот отрицательный эффект был усилен накопившимся в предыдущие годы недоверием к оппозиционным политикам и партиям, неверием в их способность возглавить массовое оппозиционное движение. Остро требовались не столько новые «вожди» (такие появились в лице Алексея Навального), сколько новые структуры, которые закрепляли бы накопленный потенциал протестного действия и позволяли трансформировать его в демократическое политическое действие. В отсутствие таких структур общественное воодушевление неизбежно сменилось нарастающим разочарованием, главным фактором которого было отсутствие результатов, успеха протестного движения, значимых политических изменений.
Вторым изъяном протестного движения в России был его преимущественно столичный характер: оно развивалось главным образом в Москве и с меньшим размахом — в Санкт-Петербурге. Это было движение меньшинства, тех, по выражению Антона Олейника, городских «лишних людей», которые не находят себе места в системе сложившихся в России властных отношений, «выталкиваются из нее из-за своей неспособности отказаться от права на собственное мнение, на индивидуальность»[19]. Это был по преимуществу политический протест среднего класса[20]. Более того, исключительно таким образом он и был осмыслен общественным мнением — не столько самими участниками протестов, сколько СМИ и независимыми аналитиками. В этой весьма упрощенной интерпретации средний класс противостоял не только авторитарной власти, но и «огромному числу люмпенов, совершенно намеренно выращенных властью»[21]. В противоположность «люмпенам», которые надеются на власть и не могут обойтись без ее патерналистской опеки, люди среднего класса защищают свою свободу и достоинство.
Гигантские пропутинские инсценировки на Поклонной горе и в Лужниках, незатейливые мотивы привезенных на них статистов («стабильность», «лишь бы не было хуже» и т. п.) еще больше утверждали участников движения за честные выборы в общей адекватности такого двухполюсного мировосприятия. «"Мы" — не они, "они" — не мы»[22].

Таким образом нужда была превращена в добродетель, слабость протестного движения — его неспособность включить в демократический протест социальные требования большинства населения — была объявлена его силой. Власть не замедлила воспользоваться этой элитистской (чтобы не сказать снобистской) саморепрезентацией протестного движения. Протест был продан телевидением населению как движение «богатых», «норковых шуб», «офисных бездельников» и т. п. Это положило начало в целом успешной политике власти по изоляции протестного движения, которая резко усилилась после возвращения Путина на президентский пост. Устроив, по сути дела, провокацию против массовой демонстрации 6 мая 2012 года, власть перешла в контрнаступление, поставив в первую очередь на репрессивную составляющую своей политики. В течение двух следующих лет репрессии были направлены как против политической, так и против социальной самоорганизации, в которой власть справедливо видит для себя смертельную угрозу. Ограничение политических свобод (ужесточение законодательства о митингах и демонстрациях, политические процессы против участников и организаторов демонстрации на Болотной площади), резкое сужение пространства свободы слова (давление на «Эхо Москвы», прекращение кабельного вещания телеканала «Дождь», отставки ведущих журналистов Газеты.ру и Ленты. ру, закрытие информационного агентства «Новости» и присоединение его к государственному пропагандистскому холдингу, внесудебная приостановка оппозиционных интернет-сайтов Каспаров.ру, Грани.ру и Ежедневный Журнал, принятие закона, приравнивающего интернет-блоги и страницы в социальных сетях к СМИ) сопровождались наступлением на независимые НКО, которых власть вынуждает регистрироваться как «иностранных агентов». Весьма показательным в этом ряду является проект федерального закона о волонтерской деятельности, обязывающий волонтеров получать государственную регистрацию и резко ограничивающий возможности самоорганизации для помощи жертвам чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов.
В отличие от периода 2005—2012 годов, когда власть вела позиционные действия против гражданского общества, оставляя ему пространства и отдушины не только для независимого действия, но и для нормального сотрудничества с государственными органами на местном и региональном уровнях, в 2013—2014 годах путинское государство, по сути дела, объявило тотальную войну всему, что оно не может подчинить себе и поставить под полный контроль. Это происходит на фоне идеологического разворота авторитарного режима, направленного против демократических, либеральных ценностей и западной цивилизации вообще, и растущей апелляции к традиционалистским, православным и автократическим основам российской государственности, восстановление которых этот режим объявляет своей миссией. Представляется, что сейчас, в разгар этого разворота, очень трудно трезво судить о его перспективах. Насколько эффективной может быть политика удушения гражданского общества государством? В какой мере речь идет о возвращении если не к тоталитаризму (советского или иного, корпоративистско-фашистского образца), то к тоталитарным практикам? Прежде чем попытаться ответить на эти вопросы, обратимся к еще одной сфере, от развития которой решающим образом зависит нынешнее и будущее состояние гражданского общества в России.
Гражданское общество и массмедиа
Надо признать, что из всех точек зрения, представленных в специальном номере «Отечественных записок» по поводу состояния общества в России, наибольшую актуальность сохраняют суждения, высказанные Борисом Дубиным в статье «Посторонние: власть, масса и массмедиа в сегодняшней России». Целый ряд явлений и процессов, о которых говорится в этой статье, не только продолжали определять состояние российского социума, но и очевидно усилились в самое последнее время. Говоря о процессе реэтатизации медиапространств, развернувшемся в России с начала 2000-х годов, Б. Дубин отмечает несколько факторов этого процесса:
— «власть с середины 1990-х и с особенной интенсивностью в последние годы отказывается от обращения к разным социальным и политическим партнерам, к разным источникам легитимации и авторитета, все более капсулируясь в себе, своих интересах и собственных закулисных интригах;
— экономические интересы крупнейших собственников, монополизирующих сферу массовых коммуникаций и устраняющих "неудобства разнообразия" — групповые, слоевые различия в требованиях и запросах населения; ведущие предприниматели следуют в этом той же стратегии сужения и упразднения пространств соревнования, общественной дискуссии, контроля со стороны других, предпочитая не взаимодействовать и солидаризироваться с партнерами, а устранять их как конкурентов, причем чаще всего с помощью власти, послушного ей суда, прокуратуры, МВД и т. п.;
— самоопределение новых "прагматичных" руководителей медиа, отстраняющихся тем самым от реальной публики с известным разнообразием ее потенциальных интересов через создание и укоренение в собственном сознании и в общем мнении таких фикций, как "большинство", "масса" (в циничном профессиональном языке — "пипл"); принятый тем самым образ аудитории и риторика такого к ней отношения стала играть для молодых и честолюбивых работников роль символического барьера или фильтра в процессах их кадрового продвижения, критерия при отборе начальством и проч.»[23]
Важнейшим результатом возвращения к государственно-централизованной модели телевидения стало упрощение структуры социума в России, подавление разнообразия и фактическая маргинализация иных, отличных от пропагандируемых телевидением моделей поведении, художественного творчества, общественно-политической мысли и т. п. По данным Левада-центра, от 70 до 80 % российских граждан получают основную информацию по телевидению. Тем самым, по словам Б. Дубина, «консервируется не только, даже не столько транслируемый образец, сколько коммуникативная ситуация в целом — медиальный (виртуальный) характер как бы гомогенного сообщества» и потребитель информации «в роли пассивного анонима, подобного всем другим таким же»[24]. Сращивание антимодернизационно настроенных интеллектуалов с властью и при этом использование новейших технологий (манипулятивной политической и медийной технологии, интернета) позволили новой интеллектуальной обслуге заняться формированием фикции пассивной массы[25]. «Символическая принадлежность к виртуальному "мы", оставаясь чисто демонстративной, не влечет за собой практическую включенность в повседневное взаимодействие и реальную связь с каким бы то ни было партнером, с обобщенным Другим»[26]. Формируемая телевидением виртуальная конструкция коллективной идентичности россиян («большинство», «такие же как все») включает в качестве несущего элемента безальтернативную фигуру первого лица государства. «Значение данной ключевой или замковой фигуры — не в том, чтобы служить обобщенным образом и образцом партнера, помощника, конкурента, любого значимого Другого. Напротив, функция подобной фигуры в том, чтобы запечатлевать и консервировать образ коллективного "мы", у которого нет партнеров (хотя есть чужаки и враги) и которому они не нужны»[27].
Излишне говорить, насколько злободневно звучат эти выводы сегодня. Борис Дубин восемь лет назад описал именно те процессы — формирование фиктивного большинства[28], доминирование первого лица государства в качестве безальтернативной фигуры, изоляционизм, — кульминацией которых стала агрессивная, шовинистическая, иррациональная мобилизация российского общества вокруг политики, проводимой президентом Путиным в Украине. Абсолютно лживая телевизионная пропаганда сыграла центральную роль в том, что для большинства российского общества демократическое содержание украинской революции осталось не только не понятым, но сама она была воспринята как враждебный России феномен. Представляется, однако, что разрушительная и деморализующая роль телевидения объясняет хотя и многое, но отнюдь не все.
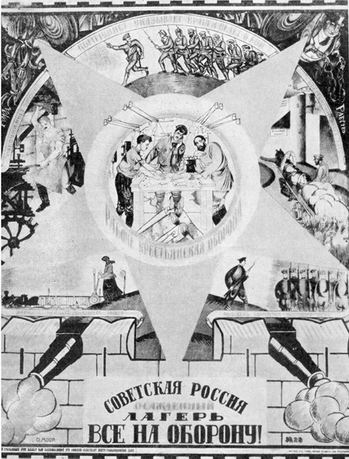
Для того чтобы пропаганда такой интенсивности была воспринята обществом, оно должно быть внутренне готово к этому. Помимо тех процессов, которые анализирует Борис Дубин, важнейшее значение имеет накапливавшийся с 1991 года ресентимент — глубинное уязвленное имперское сознание, до сих пор не преодоленный комплекс обиды, связанный с распадом СССР, большой и сильной страны, в принадлежности к которой многие из ныне живущих россиян видели свою личную состоятельность. За прошедшие 23 года не произошло сколько-нибудь серьезного осмысления, перерабатывания российским обществом и его интеллектуалами тех процессов и причин, которые привели к краху последней империи на европейском континенте. Напротив, нерационализиро-ванное чувство утраты сопровождалось обидой, смешанной с завистью, в отношении воображаемого виновника «величайшей геополитической катастрофы ХХ века» — США и Запада в целом. Этот комплекс неполноценности в отношении воображаемого врага постоянно подпитывал в российском обществе недоверие к его системе ценностей — либерализму, демократии, уважению прав человека. Обиженный создает образ врага, чтобы избавиться от чувства вины за собственные неудачи[29]. События на Украине были использованы как спусковой механизм для актуализации этого имперского ресентимента, главным носителем которого выступил президент Путин[30].
Представляется, что украинская революция вызвала подспудный дополнительный ресентимент еще в одном отношении. Значительной части образованной и даже либеральной публики в России было психологически довольно трудно согласиться с тем, что на Украине удалось свергнуть авторитарный коррумпированный режим, подобный тому, с которым в России вынуждены мириться. Сказывалось традиционное высокомерно-пренебрежительное отношение, свойственное многим российским интеллектуалам по отношению к Украине. По-видимому, гораздо легче для многих оказалось принять официальную версию «бандеровского фашизма», иначе невозможно объяснить, почему образованные люди вдруг заговорили об Украине языком власти и Первого канала. Следует признать, возвращаясь к постановке вопроса Борисом Дубиным, что власть, масса и массмедиа перестали в послеукраинской ситуации быть «посторонними»: от пассивного восприятия сообщество телезрителей перешло к активной мобилизации, к личному ощущению сопричастности к власти как выразителю кровного национального интереса. Трудно сказать, как долго будет продолжаться этот мобилизационный спазм. С моей точки зрения, сложившиеся за последние 20 лет городской образ жизни, модель потребления, образования, досуга, являются контрпродуктивными для долгосрочного поддержания такого рода агрессивной, шовинистической, иррациональной мобилизации. Недаром в экономической сфере люди придерживаются вполне рациональной модели поведения: свои сбережения они предпочитают хранить не в обязательствах собственной страны, которая так мощно встает с колен, а все-таки в обязательствах государства, которое они люто ненавидят и считают воплощением всевозможного зла.
Гражданское общество: новая повестка дня
Все это возвращает нас к ранее поставленным вопросам о перспективах гражданского общества в новой ситуации. Проще всего было бы констатировать очевидное ухудшение этих перспектив практически по всем направлениям. Поэтому мне кажется более интересным и продуктивным попытаться посмотреть на те возможности и объективные условия, в которых придется теперь действовать гражданскому обществу.
Первая проблема связана с перспективами тоталитарной инволюции, насколько они серьезны и необратимы. Малую вероятность возвращения к тоталитаризму до сих пор связывали с экономической невозможностью закрыть страну в условиях рыночной экономики и зависимости страны от экспорта энергоносителей. Сегодня мы видим, что попытки такие предпринимаются (т. н. «национализация» элит, вынуждающая их возвращать капиталы в страну; соглашение с Китаем с целью диверсификации энергетического экспорта; создание собственной платежной системы и т. п.). Николай Петров считает, что поворот к изоляционизму и конфронтации с Западом является результатом внутренней эволюции: «Созданный в последнее десятилетие с небольшим олигархический режим достиг такой степени монополизации экономического и политического контроля над страной, что сохранение и тем более усиление любой открытости вовне, будь то интернационализация бизнеса или политическая модернизация с усилением реальной политической конкуренции, несло реальную угрозу разрушения этой монополии»[31]. Я думаю, что при всей серьезности и обоснованности подобных утверждений существует несколько факторов, которые по меньшей мере ставят под вопрос способность нынешних государственных структур взять под полный контроль экономику и общество в России. Для того чтобы разрушить сложившуюся в России западную модель потребления, нужны, как представляется, усилия, сопоставимые по эффекту с Гражданской войной 1918—1921 годов. Тогда это было результатом социальной катастрофы, сейчас это может стать только результатом массовых репрессий, если, конечно, руководство России не вовлечет страну в глобальный катаклизм. Для осуществления репрессий такого масштаба в стране нет соответствующего аппарата. Существующие репрессивные структуры разложены коррупцией и приобретенными экономическими интересами, сохранение собственности и капиталов важнее для них, чем выполнение специфических профессиональных функций. Поэтому репрессии, скорее всего, будут носить выборочный характер, как это происходило в течение всего путинского правления. В таких условиях возможности для независимого гражданского действия, направленного на борьбу с коррупцией, отстаивание интересов граждан в городской, экологической и социальной сфере, сохраняются, а защита политических и гражданских прав, солидарность с жертвами репрессий становятся жизненной необходимостью.
Конечно, условия для самоорганизации, для формирования и укрепления горизонтальных связей и отношений, основанных на доверии, в «послеукраинской» России будут существенно хуже, чем прежде. Захватом Крыма и вмешательством в Восточную Украину власть посылает обществу ясный сигнал: «Кто сильнее и наглее — тот и прав. Держите сторону сильного, и вам будет хорошо». Часть общества этот сигнал, несомненно, восприняла; политика Путина на Украине стала символом тех аморальных отношений и внеправовых практик, которые реально регулируют российский социум[32]. Вместе с тем, как это ни парадоксально звучит, «Украина» не принесла ничего принципиально нового в эту ситуацию, она лишь усугубила ее, сделала более тяжелой. Те процессы упрощения массового сознания, которые рассматривает Борис Дубин, сосуществовали с процессами общественной самоорганизации и обретения гражданского сознания, которые привели к массовому протестному движению 2011—2012 годов. Так же, хотя и в худших условиях, будет, по-видимому, происходить и теперь.

Важно, как мне кажется, иметь в виду, что ситуация авторитарного режима (в той мере, в какой он остается таковым) — это всегда ситуация неопределенности и внутренней слабости. Как никто не предвидел политических протестов двухлетней давности, так и сейчас, по-видимому, мы не можем говорить о полном схлопывании всех возможностей для независимого гражданского действия. Однако это действие, как показал опыт протестного движения, и не только в России, должно быть организационно подготовленным. Это могут быть любые, не обязательно политические, и скорее неполитические, гражданские структуры, которые способствовали бы горизонтальному структурированию общества. Только на этой основе возможно появление альтернативы вертикальному соподчинению государства и общества и проведение действительно демократических выборов, меняющих систему власти в стране. Иначе говоря, важнейшая модернизационная задача, стоящая перед Россией, — отделение общества от государства — требует определенного возвращения гражданского движения к задачам предыдущего, «дополитического», «допротестного» этапа самоорганизации, когда возникает противостоящий авторитаризму субъект политического действия, который вырабатывает и предлагает обществу собственную повестку дня.
Эта повестка дня, с моей точки зрения, должна обязательно включать социальные интересы зависимых от государства слоев населения — государственных служащих, бюджетников, пенсионеров. Без представительства их интересов в гражданских политических структурах оппозиции демократическое движение будет обречено на то, чтобы оставаться верхушечным и поэтому слабым. Это очень важный отрицательный урок протестного движения 2011—2012 годов, который отличает Россию от Украины. «На Майдан вышли не только представители «нового креативного класса» — главной надежды российских либералов. На Майдане 2013—2014 годов они смешались с мелкими предпринимателями, интеллигенцией (учителями, инженерами), рабочими и селянами. Майдан действительно представлял собой социологический срез украинского общества, а не узкой прослойки городских «лишних людей»[33]. Без включения в демократическое движение социальной составляющей будет всегда сохраняться опасность того, что недемократические, патерналистские тенденции социальных низов (и части средних слоев) будут смыкаться с авторитарными, автократическими тенденциями господствующих групп. В таком случае демократическим путем, через выборы, к власти будут вновь и вновь приходить авторитарные режимы, которые сводят на нет, выхолащивают представительный характер институтов, их способность транслировать интересы общества (в том числе протест) в политическую сферу[34]. В такой ситуации после каждого демократического подъема мы будем снова и снова возвращаться в привычную историческую колею, где угроза краха режима будет заставлять слабое и напуганное общество уповать только на государство, с тем чтобы оно навело порядок.

[1] Зигерт Йенс. Гражданское общество в России // Отечественные записки. 2005. № 6. С. 36—37.
[2] Там же. С. 37.
[3] Там же. С. 35.
[4] Кордонский С. Государство, гражданское общество и коррупция // Отечественные записки. 2005. № 6. С. 24.
[5] Перспективы низовой демократии в России. Круглый стол ОЗ 23 января 2006 года. С. 48.
[6] Напротив, концепция гражданского общества, возникшая в XVIII в., относится в первую очередь к реализации частного интереса в условиях рынка и фактически редуцирует гражданское общество к рынку, к корыстным интересам частных лиц.
[7] Об этом см. классическую работу: Jean L. Cohen and Andrew Arato. Civil Society and Political Theory. The MIT Press, Cambridge and London, 1992.
[8] Eisenstadt S. N. Civil Society and Democracy in Latin America. Some Comparative Observations // Estudios Interdisciplinarios de America Latina e el Caribe. 1993 Vol. 4. № 2. P. 27.
[9] Подробнее об этом см.: Ворожейкина Т. Гражданское общество и авторитарная власть // Гражданское общество: экономический и политический подходы. Московский центр Карнеги. Рабочие материалы. 2005, № 2.
[10] В 2010—2011 г. было проведено качественное исследование, посвященное проблемам гражданского общества в России. См.: Волков Д. Рост общественной активности в России: становление гражданского общества или очередной тупик? // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2011 № 2.
[11] Перспективы низовой демократии в России. Круглый стол // Отечественные записки, 2005, № 6,с. 47.
[12] Там же. С. 50.
[13] Волков Д. Протестные митинги в России конца 2011 — начала 2012 гг.: запрос на демократизацию политических институтов // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2012 № 2. С. 83.
[14] Там же. С. 82. Одним из наиболее ярких примеров такой вынужденной политизации стала деятельность Евгении Чириковой, которая, прежде чем стать одним из руководителей протестного движения, безрезультатно пыталась сотрудничать с «Единой Россией», чтобы остановить уничтожение Химкинского леса.
[15] Говоря в 2010 г. о предпочтительности такого, неполитического формирования альтернативы власти, я опиралась на известную мысль Вацлава Гавела: в посттоталитарной системе по-настоящему значимые политические события происходят при иных обстоятельствах, нежели в системе демократической. В том, что большая часть общества относится столь безразлично, если не откровенно недоверчиво, к выработке концепций альтернативных политических моделей, программ или хотя бы их концепций, не говоря уже об инициативе создания ошозиционньгх партий, сквозит не только разочарование в общественных делах и утрата «высшей ответственности» как результат всеобщей деморализации, но и появляется здравый общественный инстинкт: будто бы люди почуяли, что действительно все уже стало «иным» и на самом деле пришло время действовать иначе». (Гавел В. Сила бессильных // Мораль в политике. Хрестоматия. Составление и общая редакция Б. Г. Капустина. М.: КДУ, 2004. С. 250—251.)
[16] В официальном дискурсе «мораль» (апелляция к «моральным ценностям») означает лишь ужесточение контроля в сфере социализации молодежи, ограничение прав человека (сферы субъективности), деятельности оппозиционных политиков, писателей, содержания СМИ и прочее (…) Следование «общепринятым моральным нормам» и «национальным традициям» в данной ситуации означает требование придерживаться правил обрядоверия, внешний социальный конформизм». (Гудков Л. Человек в неморальном пространстве: к социологии морали в посттоталитарном обществе // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2013. № 3-4. С. 120).
[17] В этом ряду — разговоры о «печеньках» Госдепа, реплики Путина о бандерлогах, сравнение белых лент с «контрацептивами» и пр.
[18] Moisds Nairn. Muchas protestas, pocos cambios // El pals, 29.03.2014.
[19] Олейник А. Киевская «сечь» сменила власть, сможет ли сменить модель управления? // Ведомости, 24.02.2014.
[20] По данным Левада-центра, подавляющее большинство участников декабрьских 2011 г. и февральских 2012 г. митингов в Москве составляли люди с высшим образованием — 80 %, в то время как по стране их было менее трети. «Преобладающей группой на обеих акциях были те, кто «может позволить себе дорогие вещи, но покупка автомобиля вызывает у них затруднение» (40 % в декабре и 41 % в феврале). Около четверти протестующих (28 % в декабре и 24 % в феврале) были в состоянии купить автомобиль. 5 и 3 % составляли те, кто «ни в чем себе не отказывает». В сумме эти три группы составляли 78 % участников митинга на Сахарова и 68 % участников шествия. Для сравнения: в Москве они составляют около половины населения (50—51 %), в России — лишь около одной пятой (22 %). Три наименее обеспеченные группы (те, кому «не хватает денег на продукты», «денег хватает на продукты, но покупка одежды вызывает затруднения» и «денег хватает на продукты и одежду») составляли в сумме 28 % митингующих в декабре и 32 % — в феврале. В столице людей этого уровня достатка насчитывается порядка половины (46 %), а в масштабах всей страны это большинство населения (79 %). (ВолковД. Протестные митинги в России конца 2011 — начала 2012 гг.: запрос на демократизацию политических институтов // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2012. № 2. С. 74.)
[21] Латынина Ю. Собственник и халявщик //http://www.ej.ru/?a=note&id=11772/
[22] Ворожейкина Т. На эти грабли мы уже наступали // Новая газета, 12 марта 2012 г.
[23] Дубин Б. Посторонние: власть, масса и массмедиа в сегодняшней России // Отечественные записки. 2005. № 6. С. 10.
[24] Там же. С. 14.
[25] Там же. С. 12.
[26] Там же. С 15.
[27] Там же. С 17.
[28] Или «сверхбольшинства» в терминологии Кирилла Рогова. (Рогов К. Сверхбольшинство для сверхпрезидента // Pro et Contra. Май — август 2013. № 3—4 (59).)
[29] Подробнее см.: Ворожейкина Т. Украинский разрез российского будущего // Независимая газета, 20 мая 2014 г. Приложение «НГ-политика». С. 11.
[30] С точки зрения Николая Петрова, «взятие» Крыма означает крах имперского проекта — как внешнего, связанного с Евразийским союзом, так и внутреннего, связанного с мультиэтничной государственностью. (Петров Н. Россия-2014: скатывание в воронку // Независимая газета, 20 мая 2014 г. Приложение «НГ-политика». С. 15.) Действительно, для антиукраинской кампании была характерна в большей мере апелляция к русскому этническому, чем имперскому национализму. Думается, однако, что реальные различия между этими двумя видами в российском общественном сознании провести довольно сложно: имперский национализм в России всегда предполагает представления о «государствообразующем этносе», а русский национализм воспринимает практически любую когда-либо завоеванную Россией территорию как часть «русского мира».
[31] Петров Н. Указ. соч.
[32] «С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно; несмотря на то, они были ему преданы: они тщеславились богатством и славой своего господина и, в свою очередь, позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство». (А. С. Пушкин. Дубровский.)
[33] Олейник А. Киевская «сечь» сменила власть, сможет ли сменить модель управления? // Ведомости, 24.02.2014.
[34] Этот вывод был сделан в 2006 г. в результате анализа аргентинского опыта становления гражданского общества и политической демократии. Для современной России он является совершенно актуальным. (Ворожейкина Т. Как стать гражданами: власть и общество в Аргентине // Отечественные записки. 2005. № 6. С. 106.)