Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 2, 2014
Сергей Даниэль. Музей. — СПб.: Аврора, 2012.
Название этой книги сразу обнаруживает ее главный предмет, а также мифологический подтекст — собственно, тот ее смысл, которым диктуется отсутствие на страницах настоящих имен: город называется Городом, сад — Садом, Эрмитаж — Музеем, а учитель — Стариком. А в названии рецензии, в очередной раз использующем расхожую цитату, есть некоторая неточность. Автора «Музея» мы больше знаем в другой роли: того, кто учит видеть и едва ли не лучше всех умеет объяснить, что это такое — «искусство видеть».
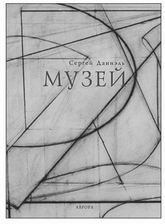
На этот раз перед нами не монография, хотя наряду с городской хроникой и воспоминаниями о недавнем прошлом здесь есть и сюжеты искусствоведческие. Больше всего эта проза похожа на роман, причем на Bildungsroman, как и упомянутая книга Джойса. Автор рассказывает о юности художника, о годах учения, о школе — не только как учебной институции, но и как группе молодых художников, сложившейся вокруг Учителя, и, наконец, школе в самом широком смысле, который имел в виду Пушкин, когда писал: «В начале жизни школу помню я». К слову, «школа», описанная в пушкинских терцинах, очень напоминает Музей и Сад из этой книги Даниэля (при том что у Пушкина, как полагает Г. А. Гуковский, речь идет о выходе из Средневековья, а его персонаж стоит как бы на пороге Возрождения: «великолепный мрак чужого сада» противопоставлен там дантовскому «лесу»). Подобно тому как стихотворение Пушкина допускает биографические проекции («сады Лицея» и Юсупов сад), «школа» Даниэля имеет вполне конкретную временную привязку: это 60—70-е годы прошлого века, многократно описанные в череде недавних мемуаров о «неофициальной культуре» и «застойном времени». Впрочем, «Музей» Даниэля — не мемуары в обычном смысле: там нет настоящих имен, исторический «задник» узнаваем, но написан скорее как «петербургский текст-миф», нежели в духе парфеновского «Намедни» с его ностальгическим перебиранием бытовых фетишей.
«Музей» — это роман в 24 главах с эпиграфом из Аристотелевой «Поэтики», который задает тон повествованию: «правильные фабулы… не должны начинаться откуда попало и где попало заканчиваться». Герой, как и положено романному герою, проходит некоторый путь: изменяется сам и изменяет то, что его окружает. Можно, сообразуясь с предметом, уподобить «Музей» живописному полотну, многофигурной композиции вроде «Ночного дозора», где персонажи отделяются от темного фона, которым служат здесь стены городских зданий, исторические и символические одновременно.
Но начинается «Музей» со сцены абсолютно графической. Голубь кружит в квадратном небесном просвете над питерским двором-колодцем. А в просвете высокой арки возникают два детских силуэта, над ними — воркование, треск голубиных крыльев, под ноги им падает пласт штукатурки: Одним был мой старший брат, другим — я. Мы шли записываться в кружок рисования. Даниэль сразу раскрывает символ, выступая в роли и наблюдателя, и объекта наблюдения, объясняет, как строится его книга: Такое начало истории имеет ряд очевидных преимуществ. Именно так — как бы сверху, большими кругами — должен приближаться к цели мой рассказ. Явление голубя может быть понято как некое знамение, а рухнувшая штукатурка как некое предупреждение; во всяком случае, здесь не обошлось без знаков свыше.
Затем герой перемещается из города в деревню, где пространство резко раздвигается, наполняется цветом и звуком, насыщается движением: Небо, вписанное в прямоугольную раму двора, сменялось огромной полусферой, и под этим куполом происходили сражения облаков, осина била тревогу, ветер гнал стада деревьев, они нагибали седые спины, дождь вколачивал в пыльную дорогу морщинистые листья лопухов, от неба до земли протягивался занавес из струй, но солнце разбрасывало серые трупы туч, светлели лужи, четко вычерчивались усатые силуэты елей, повисал зной, а когда начинало темнеть и небо становилось сине-черным, у нашей избы пел сверчок… Все было живым и осмысленным, и даже воробьиная стая, нанизанная на строчки проводов, казалась неким кратким сообщением.
Это описание уже содержит в себе то, что составит суть книги, рассказ об умении читать зримый мир. О том, как научиться видеть.
Главный герой книги — Учитель, и главная ее коллизия — ученичество. Чтобы рассказать о нем, автор обращается к достаточно специальным материям, относящимся к новейшей истории искусствознания. Материи эти «вписаны» в фабулу, они так или иначе нуждаются в комментарии. Думаю, позволительно раскрыть имена, восстановить настоящие обстоятельства места и действия. Речь идет о так называемой «Эрмитажной школе» Григория Яковлевича Длугача (1908—1988): сведения о ней можно найти в различных справочниках и сборниках по культурной истории Ленинграда 1960—1970-х. Сам Даниэль писал о Длугаче неоднократно и в разных жанрах. С течением времени школа историзовалась, ее участники стали известными художниками, «доросли» от первых квартирных выставок с самиздатскими каталогами до регулярных заокеанских туров (собственно, первым таким туром эта книжка заканчивается).
То, чему учил Длугач, принято называть «аналитическим копированием» или «аналитической интерпретацией». Суть в том, что он призывал видеть скрытую, «порождающую» геометрию вещей. «Скажите, молодой человек, вы хорошо видите?», — спрашивал он нового ученика. Он учил точности и осмысленности линий, постижению их пластической сути. Вот как описывает метод Длугача другой его ученик и, похоже, один из героев этого «школьного» романа Александр Зайцев: Картина старого мастера в его интерпретации вздрагивала, пробуждалась от векового сна и начинала шептать, говорить, загоралась пламенеющими уже в нашем воображении формами, обращалась к нам через посредство этого маленького человека в черном затасканном пиджаке, через его страстное косноязычное красноречие. Как будто эрмитажным шедеврам нужен был он, и они его породили, своего толкователя, целиком и полностью принадлежащего им[1].
В этом эрмитажном («музейном») мире, существо которого — искусство, все вертится вокруг «линии», все построено на «линии». «Линия» — при всей ее графической конкретности — превращается в некий символ, и не случайно через всю книгу проходит сюжет об Апеллесе, а за «школьным» романом со всей очевидностью (даже без авторских подсказок) угадывается «Неведомый шедевр» Бальзака, короткая повесть о юности знаменитого художника, о его учителях и о неведомом «боге живописи», суровом и безумном перфекционисте Френхофере. Эта отсылка к бальзаковскому сюжету объясняет «линию жизни» Учителя — какой она видится автору книги и какой в конечном счете предстает на последней странице романа: Помню, как однажды в Музее он долго стоял у маленькой картины неизвестного мастера, всматривался, надев очки, потом сказал: «Как это хорошо — "неизвестный мастер". А что значит быть известным? Пыль в глаза…».
Коль скоро речь зашла о легендарных «двойниках» Учителя, стоит вспомнить и миф о Сизифе. Это еще одно из имен Старика и еще один ключ к его судьбе: «подобно этому «пролетарию богов», Старик день за днем катил вверх свой камень, чтобы всякий раз снова приступая к работе, обнаружить его у подножия горы».
В этой книге есть еще один прочитываемый, хотя и не вполне проявленный сюжетный конфликт — конфликт визуального и словесного образов, не сводимых друг к другу. Перед нами книга исключительно красноречивого искусствоведа, между тем ее герой, «Старик», испытывает недоверие к слову: «сокровенный опыт видения был для него принципиально невербализуем». Роман — вернее, его автобиографический сюжет — заканчивается тем, что молодой художник дебютирует в роли «теоретика» и составляет программу для первого каталога школы. Здесь он формулирует главные постулаты своего «словесного видения», которые оказываются поразительно похожими на «сизифовы» заповеди Учителя — он точно так же не терпит инерции определений, и ему претит идея прогресса-восхождения: Меня не устраивали слова-этикетки: классицизм, реализм, абстракционизм… Меня не устраивала идея прогрессирующего развития искусства, согласно которой история живописи предстает как восхождение от примитивных форм отражения мира к формам более сложным и совершенным.
В заключение заметим, что у этого романа кроме очевидных модернистских прецедентных текстов — городской прозы Андрея Белого и сочинений Константина Вагинова с прозрачными прототипами героев — есть конкретный «биографический источник»: записная книжка, что-то вроде дневника с выписками и зарисовками, которыми «Музей» проиллюстрирован; по ним читатель может понять, что же представляет собой «аналитическое копирование». «Музей» родился из этой записной книжки, из некой «рукописи», которая существовала прежде всех искусствоведческих монографий Даниэля и из которой, как мы теперь понимаем, они выросли.