Битвы за репутацию
Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 1, 2014
Наука и власть[1]
Битвы за репутацию
Реформа науки в России, объявленная с лета 2013 года, требует ясного представления о положении дел в сообществе и профессии. Но чиновник, мечтающий собственноручно раздавать репутации, выхватывает у науки ее же аналитические методы (в данном случае библиометрию) и начинает использовать их антинаучно во всех смыслах: и некорректно, и против науки как института.
Взбесившийся арифмометр
В основе реорганизации — идея ранжирования научных учреждений по степени эффективности с оргвыводами вплоть до слияния и слива. Оценка базируется на статистике публикаций и цитирования, учете импакт-факторов и пр., хотя известно, что это гиблое дело. В истории полно величайших открытий, которые это сито не прошли бы. Как, впрочем, и лидеров по ссылкам, канувших в небытие. Из новейшей истории: Австралия так за шесть лет подорвала собственную науку. Давно зафиксирован «сдвиг мотива на цель» — библиометрические эффекты создаются искусственно: «салями-слайсингом» (нарезкой одного результата на ряд публикаций), перекрестным договорным цитированием и пр. В ряде стран использование библиометрии законодательно запрещено для большинства направлений точных наук и для гуманитарной сферы в целом — как «деформирующее научный ландшафт». Это вообще разные способности: делать действительно прорывные исследования — или публиковать правильные статьи в нужном количестве и в подобающих изданиях. В российских условиях — тем более. На одного вновь назначенного директора физинститута уже работает подразделение, занимающееся «эрекцией индексов». Для нашей науки беда уже с репрезентативностью основных баз данных (Web of Science, Scopus), дающих огромную фору США и нескольким случайным англоязычным странам, что создает серьезные проблемы даже для немцев. Россия в выборках представлена и вовсе убого. РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) — в зачаточном состоянии. Опираться на все это категорически нельзя, тем более в распределении статусов, оргресурсов и финансов.
Проблема резко обостряется в социогуманитарном знании. Обычные библиометрические методики ориентированы на журнальные статьи, как это принято в естественных и точных науках, но не на книги — основной формат у гуманитариев.
Статья в естественных и точных науках — концентрированное изложение выводов большой предварительной работы. За публикацией может стоять крайне длительный и сложный эксперимент (пусть даже мысленный), который, собственно, и есть тот скрытый задел, что обеспечивает публикуемый результат.
В социальных и гуманитарных науках бывает нечто подобное, но редко. Чаще сама книга, ее текст в полном объеме, как раз и является одновременно и доказательством как «предварительным экспериментом», и, как ни странно, «внедрением результата». То, что в технических науках является продолжением ранее проделанной фундаментальной и прикладной работы, в гуманитарном знании сплошь и рядом входит в состав одного и того же издания: сначала эксперимент и эмпирия обобщаются, систематизируются, анализируются и выводят на доказуемые гипотезы и обоснованные выводы, а затем тут же все это рассматривается в прикладном ключе и излагается в формате, который по аналогии с техническими науками можно было бы защищать патентами и рассматривать как опыт внедрения.
Эти сравнения отнюдь не являются поверхностным упрощением. Здесь заложено принципиальное различие. Внедрение в точных, естественных и технических науках осуществляется вне текста, реализация в итоге должна осуществиться в материале или как минимум в проекте, который, в свою очередь, также предполагает «физическую» реализацию. В философии и гуманитаристике главным и конечным пунктом приложения усилий является изменение сознания, поэтому «внедрение» начинается уже в процессе чтения. В этом смысле «внедренческой площадкой» для философии и социогуманитарной науки является весь объем текста, со всеми его логическими, эстетическими, психологическими и пр. нюансами. Здесь потенциал суггестии и иллокутивная сила текста часто не менее, а то и более важны, чем чистое рацио. Естественно, никакими компактными изложениями результатов большой работы в статейном формате этот потенциал книжного текста не передается.
Важно также учитывать различия в политике цитирования в обычных статьях и в книгах. В первом случае ссылка на статью означает прежде всего ссылку на результат. Во втором случае сплошь и рядом встречаются цитаты, приводящие высказывание, но не интегральную мысль работы в целом, и даже не какую-либо ее второстепенную идею. Часто — именно для опровержения или даже как пример нечистой работы. В этом случае ценность цитирования и связанных с ним ссылок с точки зрения оценки результативности резко снижается: понятно, что удельный вес ссылки на концепцию работы или цитаты отдельного суждения весьма различен. Кроме того, цитирование по фрагментам многократно облегчает взаимное накачивание перекрестными цитатами.
Таким образом мы оказываемся в парадоксальной ситуации: с одной стороны, не учитывать книги в философии и гуманитаристике нельзя, а с другой — статистика ссылок и цитирования здесь имеет существенно иной смысл и оценочный потенциал, нежели в позитивных науках.
Важно также учитывать, что влияние текста на сознание осуществляется необязательно в непосредственном контакте читателя и книги. Есть еще расширение влияния текста через множество медиаторов разных ступеней и векторов. Это не только задает новые, дополнительные требования к оценке результативности философских и социогуманитарных исследований, но и подводит к более сложному пониманию процессов функционирования такого рода текстов в научном и общественном смысловом пространстве.
Сказывается и языковый барьер. Основные базы данных англоязычны. Рекомендация чиновников, взявшихся модернизировать нашу науку, — пишите по-английски — выглядит издевательски и безграмотно. Есть отрасли, изложимые только на языке «места пребывания». В отличие от высшей арифметики и молекулярной ботаники многие хиты в социогуманитарном знании имеют ценность локальную и в мировые издания не проходят уже по предмету.
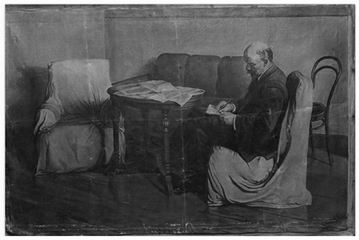
Постсовременная философия и гуманитаристика часто и вовсе избегают академических форматов: здесь обычной библиометрией не ловится как раз самое «внедряемое», публикуемое и читаемое, влиятельное и востребованное. Более того, общество, государство и само время призывают философию и социогуманитарные науки прямо вторгаться в ткань жизни. Но то же государство ставит ученых в нелепое положение: существующая метода ориентирована на застарелый академизм, например, нацеленностью исключительно на «рецензируемые» и «ВАКовские» журналы. Между тем у социально активных ученых статистика ретрансляций только в интернете может достигать десятков тысяч в год и сотен тысяч «на круг». Этот массив ссылок не равен научному цитированию, но значим при любых поправочных коэффициентах.
И, наконец, репутации по-разному аккумулируются в большой истории. В искусстве шедевры равны: здесь нет прогресса во времени. В науке каждая последующая парадигма «встает на плечи» предшествующей, включая ее как частный случай согласно «принципу соответствия» (со всеми оговорками в отношении последнего). Но уже с гуманитарной наукой все не так просто. Философия и вовсе занимает промежуточное положение между наукой и искусством: Хайдеггер и Платон находятся не в тех же отношениях, что Эйнштейн и Архимед, но и не в тех же, что Роден и Пракситель. Кроме того, философов и гуманитариев и самих «открывают», порой посвящая целые массивы текстов именам, ранее не известным. Это академиков выбирают пожизненно — философами становятся посмертно.
Частный интерес, или мультипликатор абсурда
В обеспечение реформы было заказано глобальное исследование с целью картировать наш научный ландшафт. Проект так и называется: «Карта российской науки». Открытый для тестирования результат шокировал. Показатели в разы, а то и на порядки расходятся с реальными данными. Кратные ошибки есть даже в численном составе научных учреждений. Как показал анализ, проведенный математическим отделением РАН, ложна сама идеология проекта. Использован классификатор, неприменимый к существующим направлениям научных исследований, институты отнесены к рубрикам произвольно и ошибочно. Работа вслепую привела к абсурду в описании профильных направлений институтов[2].
Проще всего увидеть здесь обычную халтуру. Но это халтура двойная, со стороны и исполнителя, и заказчика. Провал был гарантирован на уровне задания — закономерный результат «руководства извне». Так бывает всегда, когда анализ нужен не для выработки адекватного решения, а для прикрытия решения спонтанного, субъективного и принимаемого в ситуации вопиющего конфликта интересов.
Ситуация с «картой» — лишь деталь процесса. В российской науке, да и в культуре, сейчас вообще происходит нечто несусветное. Такого сгущения скандалов не было давно или никогда. Будто реорганизаторы всего и вся сорвались с цепи и при этом не в состоянии запустить ни одного проекта, который не вызвал бы в обществе стресса, шока, ответной истерики и яростного противодействия.
Но есть тут и еще один момент: во всех этих реорганизациях вселенский замах счастливо сочетается с корыстью и тихим крысятничеством. Пока эксперты всерьез судят идеологию начинаний, проницательный обыватель видит в них шкурный интерес конкретных людей: личные амбиции, карьерный расчет, голый меркантилизм, а то и просто месть за несостоявшееся признание. Можно нацелиться на монополию в отрасли или чужую недвижимость, а можно учинить реформу, чтобы забросить себя на «политический» уровень. На переправе тебя не сменят: заложником начатой реорганизации становится само политическое руководство, для которого главный кошмар — потерять лицо: своих не сдают, чтобы не портить собственную репутацию. Эксперты таких упрощений не любят, но у нас часто точнее бывает именно «надсалатная конспирология» — как по месту, так и в общем понимании режима, его финальной трансформации.
Повторяемость схем — знак системности явления: чем мельче и прозаичнее задача, тем масштабнее демонстрационная цель и запрос на ресурсы. Когда Валерий Гергиев придумал слить на базе Мариинки питерскую консерваторию, Вагановскую балетную школу и Зубовский институт истории искусств, знающие люди тут же намекнули на здание РИИ с видом на Исаакий. В атаках на Институт искусствознания и Институт культурологии в Москве дотошные аналитики также отметили топографию и качество особняков. Но все это — лишь скромное заимствование: лет двадцать кряду Ирина Антонова безуспешно уговаривала каждого нового начальника подарить ей соседнее здание Института философии. И вот придумала «музейный городок», в котором захват чужого дома не виден за малостью вопроса. Нечто подобное было и в сфере образования: топография «неэффективных вузов» на карте Москвы подлейшим образом выдавала их расположение в кварталах самой дорогой недвижимости.
Цена квадратного метра становится указателем направлений для скоординированного удара по репутациям с участием родного государства. В науке реализуют то, что репетировали на образовании: погром в академии удивительным образом совпадает с предстоящим новым этапом «большой приватизации». Создается еще один аппаратный монстр — на прокорм и потеху всех в науке не преуспевших, но пафосных и голодных. Работа Федерального агентства научных организаций (ФАНО) со штатным расписанием в 1200 единиц началась с выселения институтов и занятия целых этажей в здании Президиума РАН. Приказ № 1 ФАНО называется так: «Об утверждении положений о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы государственным гражданским служащим центрального аппарата Федерального агентства научных организаций и руководителям, заместителям руководителей территориальных органов Федерального агентства научных организаций, о порядке премирования государственных гражданских служащих центрального аппарата Федерального агентства научных организаций и руководителей, заместителей руководителей территориальных органов Федерального агентства научных организаций…»[3]
Принципиальна здесь и дифференциация научного поля. Самая интересная недвижимость — у гуманитариев: все российские власти, кроме этой, нашу гуманитаристику уважали и размещали с душой. Были и гонения, но есть и «сухой остаток»: Аверинцев, Асмус, Аникст… Или так: Лосев, Лихачев, Лотман… Гордость отечественной науки и культуры. Нынешние, похоже, не знают, что это такое, а тем более, как его измерить. Отсюда вся эта «библиометрия асфальтового катка». В итоге мы получим «аудит результативности», который своими антинаучными (во всех смыслах) выводами лишь обоснует отторжение гуманитарного и резекцию «лишнего». Эта реформа застряла во временах до Дильтея и марбургской школы: результаты «наук о духе» здесь замеряют инструментами «наук о природе» с нелепыми данными про патенты, внедрение и проч. Но исправлять подход никто не будет. «Ночь длинных ножей» затягивать нельзя: надо все порубить в фарш, который потом не провернуть назад, даже когда и до самого верха дойдет глупость затеи — в том числе в плане интересов самой власти.
Между тем именно сейчас публичная активность власти переходит в гуманитарную сферу. Когда все плохо с экономикой, модернизацией, технологиями и пр., приходится заниматься духовными скрепами, идентичностью и культурными кодами. Тут лучше не иметь под боком конкурентов и критиков в лице экспертов академического уровня. Это тем более важно для обслуги режима, с научной репутацией попрощавшейся давно и навсегда. Качество «историко-культурного стандарта», предваряющего «единый учебник» истории, — живое тому свидетельство. Чтобы внедрить такие изделия, собственно науку надо частично изолировать, а частично «нагнуть», подорвав и авторитет, и уверенность в завтрашнем дне.
Акцент на частном интересе, роли фигурантов и политических инсинуациях выглядит рецидивом конспирологии и ошибкой редукции. Но это вопрос метода. Во всем этом можно увидеть и логику бифуркационных процессов, в которых малые сигналы на входе дают непредсказуемо мощные эффекты на выходе.
Эта палка о двух концах. Режим позволяет случайным людям делать что угодно со страной, ее наукой, культурой, образованием, но точно так же никто не знает, какая «мелочь» запустит процесс деконструкции системы. Кроме того, именно авторитаризм (в особенности слабый) дает максимум возможностей для манипуляции снизу. Стиль вполне кристаллизовался за последние два года: реакция власти на выборы 2011—2012 годов дала в этом плане образец для подражания всей вертикали. Тут своя этическая максима: «Делай что хочешь, и будь что будет!». Рейдеры на поле культуры и науки активизировались не потому, что сейчас сезон небывалого обострения хватательного рефлекса, а потому, что так устроена всякая агония. Умирающий сучит конечностями, за все хватаясь, перед тем как навеки затихнуть.
Дисциплинарная техника
Цензура часто (а иногда и преимущественно) работает в режиме самоконтроля и самоограничения. Не надо ничего навязывать или, наоборот, прореживать: достаточно поставить человека в такие условия, когда он сам невольно и, как правило, не признаваясь себе, будет контролировать свое письмо. Рефлексия над таким самоконтролем часто затруднена, это практика из тех, которые бессознательно вытесняются. Тем не менее это сильный механизм, и даже у фигур, выглядящих предельно свободными и независимыми, хотя бы в силу нейтральности предмета исследования или концептуализации, всегда остается гипотетическое поле сработавшего самоконтроля — в зоне несказанного.
С этой точки зрения самый обычный административный контроль, проявляющийся, например, в разного рода плановой, справочной и отчетной документации, — не просто каприз околонаучной бюрократии (хотя здесь часто и в самом деле много от помеси самодурства с демонстрацией своей нужности и влияния, статуса), но и применение (тоже часто неосознанное) особого рода дисциплинарных техник. Человеку никто не диктует, что писать, а чего не писать, но фактически обряжают в форму и муштруют. Заполняя многочисленные формуляры, научный работник так же муштруется, как рекрут на плацу. Более того, ему показывают, каково в данный момент главное настроение власти: отпустить вожжи или, наоборот, завинтить гайки. Когда научного работника вынуждают заполнять множество бумаг с весьма странными и неожиданными деталями информации о себе и своей работе, это часто начинает напоминать «Паноптикон» Бентама — прозрачную тюрьму, в которой все заключенные постоянно просматриваются из одного центра. Конечно, это разные степени проявления такого рода практики, но природа здесь одна и содержит в себе ровно то, что Фуко анализировал в качестве дисциплинарной техники. Когда членов диссертационных советов вынуждают заполнять обширные анкетные листы, в которых требуется указать даже толщину корешков переплетов в опубликованных книгах, это может быть и плодом странной фантазии управленцев, но и неосознанно навязываемой воспитательной мерой — попыткой расставить статусы и показать масштаб намерений управляющей инстанции в плане наращивания контроля.
По крайней мере в этом смысле эта политическая, властная и управленческая вертикаль срабатывает как единое целое, чутко улавливающее и транслирующее вниз веяния наверху. Если построить графики политической эволюции постсоветского режима, можно с математической точностью показать, как качания между либеральными и этатистскими, условно демократическими и безусловно авторитарными веяниями в большой политике с небольшим временным лагом, а то и мгновенно подхватывались средней и низовой бюрократией. Инстанции технического регулирования или инспекции ДПС делали это быстрее, органы управления наукой медленнее, но тенденция одна.
Процесс этот асимметричен. Реакционные тенденции подхватываются бюрократическим низом быстрее, но от них гораздо медленнее отказываются, когда наверху меняется политический курс в сторону некоторой либерализации. Это можно понять. Во-первых, здесь срабатывает совпадение или, наоборот, конфликт интересов. Любые ужесточения подхватываются нижними звеньями вертикали как идейно близкие или просто выгодные, в то время как ослабление контроля всегда наносит видимый ущерб аппаратным массам, причем не только финансовый, но и организационный, статусный, морально-психологический и пр. Опыт проведения институциональных реформ начала 2000-х годов (административной, технического регулирования, саморегулирования и пр.) показал, что часто эмоциональная, сугубо статусная реакция оказывается даже сильнее, нежели потери в доходах на эксплуатации административных барьеров. Во-вторых, ужесточение контроля всегда связано с институционализацией, а потому ослабление контроля неизбежно оказывается более инерционным: принцип «разрушать — не строить» в аппаратно-бюрократической логике не работает, когда это касается демонтажа административных структур и схем.
В последнее время научное сообщество явно почувствовало на себе резкое лавинообразное нарастание бумажного документооборота, связанного с необходимостью представления множества планов, отчетов и справочных материалов. Эта тенденция проявила себя еще до начала открытой стадии подготовки реформы РАН. По некоторым оценкам, интенсивность документооборота превысила уже и советские нормы. С одной стороны, это может быть связано со сложностями регулирования контента, а тем более прямой цензуры, а с другой — с упрощенными возможностями саморазрастания бюрократии в настоящее время. Как бы там ни было, непосредственной мерой оценки, а главное самооценки результативности аппаратной работы было и остается количество «входящих» и «исходящих», производство которых должно быть налажено в промышленных масштабах. Если убрать этот показатель, а соответственно и само это массовое занятие, могут возникнуть подозрения в бесполезности многих подразделений и целых административных органов.
Реформа науки в политическом и гуманитарном контексте
Удары по репутации науки рикошетят и по самой власти, главная беда которой — зауженный горизонт прогноза последствий. С определенного статуса возникают проблемы не с сиюминутной репутацией, но с признанием в будущем. Наверху об этом начинают задумываться, отсюда отчасти и идея нового учебника истории.
В истории часто остается даже не столько содержание события, сколько его форма: способ действия, процедура. Не «что», а «как». То, как реформа начата, чревато особо «яркой» страницей, которая потом может стать одной из самых одиозных.
Политические последствия здесь легко считываемы. Оппозиция получила идеальный мотив для красивой активизации, регулярный информационный повод, а также целый союзный контингент, ранее бывший лояльным власти или просто нейтральным. Ликвидация РАН, формальная или фактическая, лучшее, что можно придумать для нового объединения фронды. Нет такого демарша, который был бы несоразмерен «разгрому науки». Далее важно, что это контингент потенциально активный, при надобности самоорганизующийся, с мозгами, подвешенными языками и заточенными перьями. И, как правило, вызывающий понимание и сочувствие.
Важно также, что речь вовсе не о руководстве академии и даже не о корпусе академиков и членкоров, но об «ученых» в целом. Поэтому расчет на то, что прямыми подачками удастся нейтрализовать состав академиков, оказался ошибочным. Удар по репутации науки оскорбляет целый социальный слой. Срабатывает «социальный мультипликатор», и в орбиту конфликта втягиваются бесчисленные родственники, друзья и знакомые, их близкие, а также просто сочувствующие «науке», которую у нас всегда любили и которую по инерции жалеют начиная с 1990-х, с самого старта рыночных реформ. Обвинение в «новой гайдариаде» обеспечено.
Вся эта среда начинает самоорганизовываться. К политике сдвигаются многие, до этого гордившиеся своей принципиальной аполитичностью и беспартийностью. Есть ряд факторов, в силу которых огромное число людей не готовы примкнуть ни к одному из политических движений. Но что касается движения в поддержку «гонимой науки», то эти ограничители перестают работать, и начинается протестная консолидация даже самых щепетильных и политически брезгливых. А это идеальные медиаторы, поскольку надпартийность придает им особый авторитет и вес.

Когда начинают вести себя так, будто в реформируемой среде вообще нет «здоровых сил», с которыми можно вести дело, это всегда изолирует реформаторов и ставит под сомнение уже не только моральную сторону, но и само качество проекта, его идеологию и методологию, саму модель. Вступает в силу более общий контраргумент: никто в системе управления вообще не вправе без систематического взаимодействия разрабатывать какие бы то ни было модели радикальной реорганизации науки, противное — на грани превышения служебных полномочий. Наука специфична тем, что в отношении нее вне ее самой не может быть внешних центров компетенции и компетентности, распределения репутаций. Разработать адекватную модель реорганизации науки силами экспертов при исполнительной власти, к тому же навербованных из конкурирующих с академией околонаучных и образовательных структур, в принципе невозможно. С таким же успехом можно поставить судить конкурс красоты команду топ-моделей, намеченных для участия в следующем туре.
В наших условиях, когда мы имеем дело с проблемой избыточного регулирования буквально во всех сферах деятельности, можно быть уверенными, что административное вмешательство в исследовательский процесс гарантировано, как только такая возможность появляется, причем совершенно не важно, будет такая возможность прямой или косвенной. В случае если недвижимостью, движимостью и прочими ресурсами какого-либо института управляет внешняя инстанция, ни о какой реальной автономии речи быть не может. В итоге мы получаем классический, причем искусственно созданный лишний административный барьер с неограниченными возможностями как для необоснованного вмешательства, так и для множественных злоупотреблений. И можно не сомневаться, что эти возможности будут реализованы, в том числе и во «внутривидовой» конкурентной борьбе.
Наука и общество: постнеклассические отношения
В случившемся повинна не только власть. Наша наука проспала постнеклассическую революцию, когда научное знание перестало быть «священной коровой» и оказалось перед необходимостью объяснять миру, что ученые делают, зачем это нужно, какие от всего этого могут быть последствия, как позитивные приобретения, так и риски, возможно, даже фатальные.
Мы в этом не одиноки. Полтора десятка лет назад перед подобной проблемой оказался, например, ЦЕРН, вдруг ощутивший живую потребность начать как-то объяснять внешнему миру, какой людям толк от всей этой ловли неуловимых частиц, если этот проект съедает миллиард долларов в год. Тогда анализ показал, что даже на утилитарном уровне у этих, казалось бы, сугубо фундаментальных исследований есть огромное множество побочных достижений, в буквальном смысле слова изменивших мир (например, все та же WWW — World Wide Web, разработанная Робертом Кайо в целях оптимизации принятия решений и обеспечения электронного документооборота). Иными словами, проблема не в результатах, а в том, что о них не знают, если этим специально не заниматься.
Проблема кавалерийской атакой не решается. Если кто-то думает, что реальную результативность нашей науки поможет выявить скоропалительный «аудит», это само по себе является свидетельством некомпетентности, усугубленной нежеланием учиться. ЦЕРН выскребался из этой коллизии не один год, с провалами и не до конца. Что говорить о нашей науке, у которой не хватает ресурсов на исследования, а на презентацию собственной результативности не было и нет вообще ни копейки.
И наконец, совершенно особая тема — сверхутилитарная результативность науки, познавательной деятельности в целом. В науке есть своя прагматика, причем по косвенным признакам и итогам выявляемая даже в фундаментальных исследованиях. Однако человеку и человечеству генетически свойственно узнавать и знать, причем совершенно безотносительно к голой или «приодетой» прагматике. Занятия наукой помимо прямых и косвенных результатов полученного знания в принципе формируют в нации корпус умных людей (в том числе и поэтому наша страна так быстро вошла в рынок — сработала внутренняя утечка мозгов из науки). Если у нации есть очаги высокой науки, их пестуют и культивируют даже самые малые страны. Тем более это относится к России, в прошлом которой однажды было почти уникальное в истории человечества явление — полный научный комплекс. Даже если в каких-то направлениях остались почти руины этого великого сооружения, к ним надо относиться так же бережно, как к памятникам архитектуры или ландшафта.
Есть и более простые соображения. Формализованная оценка результативности, казалось бы, дает основания избавиться от балласта. Но сплошь и рядом все упирается в непонимание того, что наука — это сложный организм, требующий для своей репродукции среды, состоящей отнюдь не из гениев и их прямых подручных. Если уволить 90 нерезультативных ученых и оставить 10 результативных, через некоторое время вы получите ту же пропорцию, но уже на девять «серых» будет один выдающийся. К тому же вы отсечете огромную зону нераскрытого потенциала, в которой вообще нельзя заранее сказать, что именно вдруг развернет весь процесс.
Нынешняя наука в России — сложнейшее образование, причем не только исследовательское, но и социальное. Это венчурный бизнес с элементами собеса, по-человечески просто обязанный содержать множество людей, отдавших науке и стране всю жизнь, проработавших за копейки без сна и отдыха и не получивших в свое время за это даже малой доли той компенсации, которую имели и имеют в других странах вполне себе рядовые научные сотрудники.
Возможно, сейчас в нашей истории такое время, что хотя бы на несколько лет вообще лучше воздержаться от каких-либо революционных изменений. Иначе можно легко совершить еще один «подвиг» сродни обесцениванию вкладов и нарваться на протест, в сравнении с которым недовольство монетизацией льгот покажется мелочью.
Аксессуары и атрибуты
Сфера гуманитарного знания крайне важна для репутации страны и самоуважения нации, но при этом очень ранима, открыта для удара, часто вовсе беззащитна[4].
Здесь дело в принципе: зачем министерству гуманитаристика? И зачем вообще государству гуманитарное знание, к тому же «фундаментальное», которое, как говорил классик, в отличие от прикладного ни к чему не прикладывается? Например, зачем начальству теория и история искусства, «чистая» культурология и т. п.? И дело даже не в том, что дикое падение нравов в оценке изделий архитектуры, кино, литературы, живописи и пр. прямо связано с изведением искусствознания, а значит, и профессиональной критики. Ровно с таким же успехом можно спросить, зачем человеку само искусство — если не знать, что Кант определял эстетическое через «целесообразность без цели». Именно присутствие неутилитарного делает человека человеком. Это понимали меценаты и государи, оставлявшие после себя собрания, дворцы и парки, не только чтобы самим пялиться, спать и гулять. В этом, возможно, главное отличие императора от оперативника.
В мире есть разные нации и страны, с разными историями. Для одних своя наука необязательна — хватает прикладных технологий, виртуозно прибирающих все, что плохо лежит у других. Но в России нельзя относиться к науке как к необязательному аксессуару. У нас это атрибут государственности и, простите, идентичности, важнейшая составляющая символического капитала страны, близко не исчерпываемая доходностью. Гуманитарное знание — тем более атрибут нации, претендующей на то, чтобы оставаться культурной.
Диагноз
Если понять природу кризиса, станет ясно, имеет ли смысл реформировать науку, не реформируя всю систему. Поместите в нашу институциональную среду американские лаборатории и универы — и через полгода от них останутся еще большие руины.
Болен весь организм, и Академия — далеко не самый пораженный орган, во многом даже наоборот, хранящий остатки иммунитета. А сейчас больная голова с синдромом вечного рукосуйства ампутирует этот орган и собирается на его место имплантировать нечто вовсе экзотическое: академию под агентством. Если люди так начинают реформу науки, понятно, как они будут ее (науку) кончать. План спецоперации был шит белыми нитками. Хуже того, здесь отсутствуют как военная этика и jus belli (правила начала и ведения боевых действий, переговоров, обязательств, обращения с пленными и сдавшимися), так и блатная мораль: на условия капитуляции плюют, а «достать нож в честной драке» считают нормой. Скорее это из восточного этоса «обмани неверного»: это там коварство без границ признак ума и доблести. Проект пестрит дешевыми обманками. Так, идея руководить наукой через совет при министерстве, в который войдут «крупные ученые в дееспособном возрасте», наивна именно как попытка «развести». Если совет формируется научным сообществом, то почему он при министерстве? Если же состав в итоге зависит от министерства, то это обычная марионетка — ширма для «легитимации» министерских решений. Об уровне компетентности авторов реформы говорят мечты о переходе к университетской модели — по образу американской. Люди явно не знакомы с источниками финансирования тех университетов.
Проблем с академической наукой много, но кто берется их решать? Что эффективнее: нынешняя российская наука или эта якобы исполнительная власть, у которой нет ни одного проекта, не увенчавшегося скандальным провалом?
Дело даже не в «Сколково», «Роснано», околонаучном стебе про инкубаторы, посевные, технопарки и пр. Главный научный вывод в другом: ресурсному обществу и экономике ренты знания не нужны. Здесь даже наука и образование превращаются в сырьевую отрасль, в производство «низкого передела»: мозги и знания экспортируются за рубеж, но в отличие от нефти задаром. Беда не в формах организации науки, а в ее фатальной невостребованности этой экономикой, в нежелании власти прислушиваться к носителям гуманитарного и социального знания, в искусственном кризисе рациональности, в идеологической ориентации на квазинауку и мракобесие. Со страной надо срочно что-то делать, но начиная не с академий, а с самих институтов власти. Чтобы дать импульс развитию отечественной науки, надо менять вектор развития, причем не только технологический и экономический, но также институциональный, политический, идеологический. Инноваций нет не потому, что кто-то чего-то не может родить, — их нет, потому что их блокирует эта институциональная среда и отторгает эта экономика. Поэтому главная зона ответственности за беды отечественной науки как раз там, откуда исходят посылы на ее «возрождение» через ликвидацию.
Паритетные взаимоотношения науки с обществом не означают, что в данной формуле допустима простая замена «общества» на «государство». Постнеклассическая модель реализуется не через власть, а через институты гражданского общества; если же их нет или их подменяет самоуверенное администрирование, то лучше пусть эта корова останется священной, чем ее вовсе изведут «внешним управлением».
Сомнителен и выбор момента. Если бы это государство сейчас эволюционировало в сторону большей свободы и инициативы, которая во всяком творчестве, в том числе в научном, важнее, чем в бизнесе… Но ситуация иная. Лет десять назад еще звучали слова о «стратегии дерегулирования». Сейчас вектор прямо противоположный: тотальный зажим и разгул «дисциплинарных техник». Попытки удержать если не полный контроль, то хотя бы контрольный пакет в политике находят продолжение в эпидемии бесцеремонного вмешательства во все подряд. Других, расковывающих инициатив нет (хотя бы для виду), но вяжущих и репрессивных — в избытке. Не хватает казачьих рейдов на конференции по молекулярной генетике или философии постмодерна. Поэтому пока лучше что-либо серьезное даже не начинать: чем меньше административной активности, тем больше шансов хоть что-то сохранить к концу удушливого безвременья.
Но есть и способ определить меру допустимых на данный момент изменений: сделать аудит эффективности общим для науки и власти — встречным и симметричным. Обществу и государству крайне важно знать не только, что делать с наукой, образованием и культурой, но и то, в каком состоянии находится инструментарий такого рода реформ — политическая и административная система. Ведь если этот инструментарий в негодном состоянии, результатом будет только вред независимо от объявленных мотивов.
Если власть запускает широкозахватные программы определения результативности исследований, встречный план предполагает аналогичную оценку, но уже эффективности самой власти. Научное сообщество могло бы предложить систему индикаторов, позволяющую эту оценку формализовать.
Далее имеет смысл сравнить качество управления и самого человеческого материала в системе управления наукой, образованием и культурой с аналогичными сегментами власти, например с финансово-экономическим блоком. Там явно сосредоточены не самые слабые кадры — и как эксперты, и как администраторы — и при этом результаты, мягко говоря, удручающие (такова оценка этой работы со стороны бизнеса и внешних экспертов — в разных международных рейтингах). Если таково качество институтов в экономике, то почему новая институциональная среда в науке окажется лучше нынешней?
Если провести аналогичную оценку качества управления и среды со стороны профессионального сообщества в сфере науки, культуры и образования, результат окажется не менее скандальным. Все это тоже можно формализовать в целом, начиная с анализа бюджетов и репрезентативного экспертного опроса и заканчивая коллекциями ляпов, показывающих уровень подготовки и качество мозгов.
Известно, что в методисты в образовании обычно идут люди, которые сами учить детей не могут, но готовы учить учителей. Странно, когда наукой руководят люди, всерьез не проявившие себя в руководстве чем-либо научным, когда эффективность вузов определяют специалисты, даже интуитивно не понимающие, что такое, например, РГГУ или МАРХИ, когда культурой командует поросль, с культурой вовсе никак не связанная — ни до этого, ни сейчас, ни, видимо, впредь. В идеале здесь необходима ротация лучших и наиболее авторитетных кадров из самой науки, из образования и культуры. Но для начала необходима ревизия не отечественной науки, учреждений образования и культуры, а профессиональной квалификации тех, кто эту оценку проводит. В наших условиях можно бы даже поменять местами защиты диссертаций и квалификационные экзамены: люди не из науки, а из политики и системы управления по идее должны сдавать кандидатские минимумы… после защиты, но публично.
И наконец, главное. Сейчас наукой пытаются управлять сверху вниз, директивно, почти без обратной связи и без прямой ответственности за результат, даже за качество проектов. Но это же дает плохую отдачу и в саму науку. Когда с ней так обращаются, уходит профессиональное достоинство, понятие репутации и этики, цеховой чести. Бурматовы, астаховы и мединские становятся привычным вывихом, и уже завтра им подобные решат проблему плагиата автоматическими синонимайзерами. Липовые дипломы и диссертации — это проблема не столько ВАКа или Миннауки (здесь все просто, вплоть до уголовного преследования), сколько самого научного сообщества, которое, конечно же, все «знает и понимает». И терпит проходимцев в своей среде — в том числе и потому, что их слишком много вовне, близко и наверху, в том числе на самом.
Если рыба гниет с головы, глупо чистить ее с хвоста — только заразу разносить.

[1] В статье частично использованы материалы проекта «Основания и критерии оценки результативности философских и социогуманитарных исследований» (грант РГНФ № 11-03-00442 а). Участники исследования: А. Н. Баранов — доктор филологических наук, заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка РАН; А. А. Гусейнов — академик РАН, директор Института философии РАН; Н. И. Лапин, член-корр. РАН, руководитель Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН; Н. В. Мотрошилова — доктор философских наук, зав. отделом историко-философских исследований Института философии РАН; А. П. Огурцов — доктор философских наук, Институт философии РАН; А. В. Рубцов — (руководитель проекта), руководитель Центра философских исследований идеологических процессов, зам. зав. отделом аксиологии и философской антропологии Института философии РАН; Б. Г. Юдин — член-корр. РАН, зав. отделом комплексных проблем изучения человека Института философии РАН; А. Ф. Яковлева — заведующая Информационно-аналитическим отделом Института философии РАН.
[2] Институт теоретической и прикладной механики СО РАН: исследования наркотической зависимости, токсикомании, алкоголизма, терапия и лечебное дело, трансплантология, стоматология и хирургическая стоматология, экология, психиатрия, акушерство и гинекология, история и др.; Институт прикладной физики Нижегородского НЦ РАН: политические науки, акушерство и гинекология, экономика, история и философия науки, психология — междисциплинарная, терапия и лечебное дело, науки о растениях, аудиология и патология речи, дерматология, история и др.; Институт физической химии и электрохимии РАН: терапия и лечебное дело, токсикология, археология, продукты питания и технологии производства, искусство, архитектура, ветеринария, кино, радио и телевидение, исследование операций и методы управления, этнология, садоводство и овощеводство и др.
[3] Юрий Батурин. Символика первых актов // Новая газета, № 8 от 27 января 2014 г.
[4] В высшей степени характерна новейшая история Института культурологии, директор которого с огоньком поддержал идею объединить институты Минкульта в «гуманитарное Сколково», что сразу освобождало несколько особняков и позволяло легко уполовинить кадры, уже десятилетия сжирающие министерский ресурс. В приличном обществе с понятиями о чести он за это, конечно же, получил бы пост руководителя объединенного института. Но его попросту… «съели», на реорганизацию культурологии бросили инженера-железнодорожника, и теперь закрывают сектора, увольняют людей, подписавших протестные письма. Да и сам министр, что-то краем уха прослышавший про «Философию зайца» и принявший все буквально, на всю страну озвучил эту тему как пример культурологического абсурда. Новая дирекция Института озвучила установку: «У министерства нет денег на фундаментальную науку». Люди наверху явно приняли обет нестяжательства, иначе знали бы, что годовой зарплаты этих гуманитариев культурному бизнесмену едва хватит позавтракать.