Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 5, 2013
Проблемное поле современного феномена самоубийства простирается от угрожающей статистики пубертатного суицида до масштабных дебатов западной биоэтики о праве свободного индивида на активную эвтаназию; от национальных и международных программ профилактики суицида до морального оправдания и закрепления в правовом поле самоубийства с помощью врача (physician assisted suicide).
По данным Международной ассоциации предотвращения самоубийств, ежегодно в мире 1 миллион человек совершает самоубийство. В период после Второй мировой войны показатели самоубийств возросли во всем мире на 60 %. «В некоторых странах самоубийство является одной из трех основных причин смерти среди людей в возрасте 15—44 лет и второй по значимости причиной смерти в возрастной группе от 10 до 24 лет; эти цифры не учитывают попыток самоубийств, которые совершаются в 20 раз чаще, чем завершенные самоубийства. По оценкам Национального института Mental health (США), в 1998 году на самоубийства приходилось 1,8 % глобального бремени болезней — суицид входит в первую десятку причин смерти наряду с болезнями, а в 2002 году в бывших социалистических странах, которые перешли на рыночную экономику, этот показатель составит 2,4 %»[1]
Уровень суицидов определяется числом завершенных самоубийств на 100 000 населения. В соответствии с этим показателем ВОЗ делит страны на три группы: до 10 — страны пониженного риска, от 10 до 20 — средний уровень и свыше 20 случаев — высокий. По данным Росстата за 2012 год, уровень суицидов в России составил 27,2[2]. Пик уровня суицидов в России пришелся на 90-е, в «1994—1996 годах коэффициент смертности от самоубийств среди сельского населения превысил 50, для городского населения колеблется от 35,4 до 37,9 на 100 тысяч населения)»[3]. Необходимо отметить, что статистика самоубийств по России представляет собой предмет особых спекуляций. Публикуются шокирующие данные о лидерстве нашей страны по суицидам, особенно подростковым, со ссылкой на ВОЗ. Однако статистика по России представлена на сайте ВОЗ только за 2006 год, а точной статистики подростковых суицидов официальные источники не раскрывают.
Статистика суицидов — результат работы социологов. Эмиль Дюркгейм — основоположник социологического подхода в исследовании феномена суицида. Он полагал, что степень интеграции общества определяет уровень суицидов для каждой конкретной страны. Анализируя европейскую статистику самоубийств, Дюркгейм приходит к выводу, что ни климатические, ни географические, ни биологические факторы не могут быть главными в понимании феномена самоубийства. Оценивая степень сплоченности общества, тех или иных групп населения и уровень самоубийств, Дюркгейм заключил, что, например, интеграция общества — главное препятствие к развитию суицида, и как индивидуального, и как социального феномена. Семья является антисуицидальным фактором, уровень самоубийств в городах выше, чем в сельской местности, у протестантов выше, чем у католиков, в мирное время самоубийств больше, чем во времена войн и революций, — словом, любые факторы, которые способствуют сплочению индивидов, групп и всего общества, снижают уровень суицида в те или иные периоды развития. Важно отметить предложенную Дюркгеймом статистическую константу самоубийств для каждого общества. Число завершенных самоубийств меняется в зависимости от периода развития общества, причем наблюдаются временные всплески или спады, но в целом стремится к определенной величине, например, для Франции с 1841 по 1870 год оно составляло от 23,18 до 22,87 на 100 тысяч населения в год. Дюркгейм также выделил ставшие классическими типы самоубийств: эгоистическое — намеренный разрыв индивидом социальных связей, альтруистическое — в случае абсолютной интеграции индивида и общества/группы, аномическое — в результате крушения/ исчезновения различных систем ценностей общества, например, в процессе социальной трансформации, в период катаклизмов. Социальная аномия — термин, предложенный Дюркгеймом, — получила дальнейшее развитие, например, в работах Эриха Фромма, и для российских исследователей представляет особый интерес, — всплеск самоубийств в первой половине 1990-х годов, безусловно, является следствием коллапса СССР и, следовательно, коллапса системы ценностей в обществе.
В последнее время появились исследования[4], которые предлагают новый взгляд на положения Дюркгейма, ставшие аксиомами. Например, нельзя уже говорить о более высоком уровне самоубийств в городах по сравнению с самоубийствами в сельской местности — это положение Дюркгейма связано прежде всего с тем, что регистрация случаев смерти в городе, а также классификация типа смерти: суицид — несчастный случай были в первую очередь структурированы и организованы, разумеется, в городах. Не стоит забывать и о господствующей идеализации сельской жизни и традиционных семейных, религиозных ценностей — во второй половине XIX века, в стремительно развивающуюся индустриальную эпоху, с развитием городов, миграцией сельского населения, разрушением привычного сельского уклада жизни, сельская община служила идеалом гармонии и солидарности. Кроме того, уже в XVIII веке в связи с общекультурным изменением вектора отношения социума к самоубийству его констатации избегали, особенно в маленьких провинциальных городках и поселениях, для того чтобы не подвергать родственников суровому осуждению — в европейских странах самоубийство, как и его неудавшаяся попытка лишали законной силы все завещания самоубийцы. В целом же, говоря непосредственно о теориях суицидального поведения, следует согласиться с позицией многих как западных, так и отечественных исследователей: социологический подход Дюркгейма ничего не дает для анализа механизмов суицида отдельного индивидуума и не позволяет прогнозировать возможность суицида — а именно это сейчас очень важно. Для современной культуры суицид представляет собой пока неразрешимую загадку. «В 1973 году "Британская энциклопедия" заказала статью "Самоубийство" председателю Американской ассоциации суицидологии Эдвину Шнейдману, который был вынужден констатировать: "На самом деле никто не знает, почему люди кончают жизнь самоубийством". В 1988 году другой психолог, Антоон Леенаарс, начал этими словами свое исследование предсмертных записок самоубийц»[5].
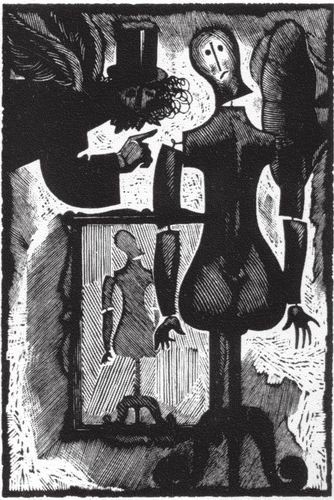
Несмотря на выделенные группы риска (иммигранты, сексуальные меньшинства, безработные, военнослужащие, пенсионеры), особенности психологии суицидентов, биологические предпосылки суицидального поведения, перечни причин и поводов, которые могут спровоцировать непосредственно сам акт самоубийства, ответить на вопрос о структуре этого парадоксального механизма, а также непосредственно предсказать возможность/неизбежность его «включения» невозможно.
Только 25—30 % самоубийств совершаются людьми с явной психической патологией, что, безусловно, расширяет проблемное поле исследований этого загадочного феномена до обсуждения целесообразности добровольного ухода из жизни в старости, — эта тема является предметом официальных дебатов на различных уровнях в США. Но потребовался без малого век, чтобы «реабилитировать» суицид, лишить его статуса психической патологии. В 1838 году появляется главный труд французского психиатра Жана-Этьена Доминика Эскироля «О душевных болезнях», в котором он со всей определенностью заявил: «…в самоубийстве проявляются все черты сумасшествия. Только в состоянии безумия человек способен покушаться на свою жизнь, и все самоубийцы — душевно больные люди»[6]. Такая позиция разделялась многими его современниками. Но уже к концу века и европейские, и российские психиатры приходят к выводу, что «расстройство психики может быть причиной самоубийства лишь в ограниченном числе случаев»[7].
Одни исследователи полагают, что самоубийца, как правило, не раскрывает своих намерений и сам суицид становится неожиданностью для окружающих. Другие считают, что потенциальный самоубийца в период подготовки суицида явно или неявно сигнализирует окружающим о своих намерениях, хотя, вероятнее всего, речь идет о так называемом псевдосуициде, или незавершенном суициде, когда попытка самоубийства не приводит к смерти. Так, один из ведущих современных суицидологов Эдвин Шнейдман, основатель Американской ассоциации суицидологии, предложил перечень «ключей к суициду», то есть признаков, которые свидетельствуют о приближении возможного акта самоубийства, и разработал типологию индивидов, сознательно приближающих собственную смерть. Это искатели смерти, оставляющие себе лишь минимальную возможность спасения; инициаторы смерти, намеренно приближающие ее; игроки со смертью, для которых жизнь является своего рода ставкой; одобряющие смерть, то есть те, кто не скрывает своих суицидальных намерений: например, одинокие старики или подростки и юноши, переживающие кризис идентичности. Эдвин Шнейдман также разработал понятие «душевной боли», которая лежит в основе суицидального поведения. Она возникает вследствие невозможности удовлетворения таких потребностей человека, как потребность в принадлежности, в понимании, воспитании, автономии. Однако одна из основных проблем суицидологи заключается в том, что в отличие от социологии, которая оперирует статистикой случаев завершенного суицида, психологические теории суицидального поведения и непосредственно суицида все же ограничены исследованиями многообразных форм именно суицидального поведения, тогда как непосредственно акт суицида — совершенно отдельный феномен. По мнению других, «летальный исход, безусловно, подтверждает истинность суицидальных намерений, поэтому объектом суицидологии должны являться только завершенные суициды»[8]. Методом «аутопсии» — то есть реконструкции поведения, типа личности, а также причин, которые толкнули того или иного индивида на самоубийство, на основе содержания посмертных записок или рассказов родственников и близких — иная сфера исследований, которая хотя и приближает к пониманию типологии личности самоубийц, механизмов развития суицидальных намерений, все же оставляет открытым вопрос о конкретном механизме завершенного суицида.
Пик самоубийств приходится на весенне-летний период, в течение суток — это поздний вечер до 3 часов утра; наиболее распространенные способы — повешение, с использованием огнестрельного оружия, яды; мужчины совершают суицид в три раза чаще, чем женщины, зато последние гораздо чаще предпринимают суицидальные попытки. Миф о том, что самоубийство — болезнь развитого интеллекта, особой возвышенной и утонченной «души», трагический удел образованных горожан, людей творческих профессий, широко культивируется в европейской и российской культуре с XIX века вплоть до настоящего времени. В известной книге Григория Чхартишвили «Писатель и самоубийство» представлена панорама «литературоцида» писателей, закончивших свою жизнь самоубийством, которое для автора — феномен особого нравственного мира. Но действительность выглядит куда более прозаичной. Анализируя динамику самоубийств, например в России на протяжении двух веков, легко можно видеть, что количество самоубийств среди необразованных граждан или представителей низших сословий зачастую превышает показатели суицида среди образованного городского населения. То же касается и уровня самоубийств среди сельского населения[9]. Вот типовые портреты российских самоубийц, составленные современными отечественными исследователями:
«Портрет № 1. Вполне работоспособный разведенный мужчина 20—59 лет, возможно, имеющий судимость. Живет отдельно от семьи. Тяжелыми заболеваниями не страдает. Злоупотребляет спиртными напитками, но на учете у нарколога не состоит. Накануне суицида не высказывает намерения покончить с собой.
Портрет № 2. Неработающая вдова старше 60 лет. Живет с детьми и внуками. Страдает психическими или соматическими заболеваниями, имеет инвалидность. Алкоголь не употребляет. Перед суицидом высказывала намерение покончить с собой»[10].
***
Современный суицид — устойчивый феномен прежде всего культур развитых стран, определяется как осознанное намерение и его реализация: лишение себя жизни. Классическим считается определение Дюркгейма: «Самоубийством называется всякий случай смерти, который непосредственно или опосредованно является результатом положительного или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, если этот последний знал об ожидавших его результатах.
Покушение на самоубийство это вполне однородное действие, но только не доведенное до конца»[11].
Не признается суицидом гибель детей до 13 лет, в таких случаях говорят о несчастных случаях. Так же сложно говорить о самоубийстве лиц, которые страдали явно выраженной психической патологией, то есть не отдавали и не могли отдавать себе отчета в собственных действиях, тем более не могли высказывать определенных намерений лишить себя жизни. Этот факт дал основание Дюркгейму заключить, что идиотизм не только не предрасполагает к самоубийству, но предохраняет от него.
Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на видимую «простоту» акта самоубийства, определить, является та или иная смерть именно осознанным и намеренным самоубийством, непростая задача и для криминалистики, и для клинической психиатрии, и для культуры в целом. Суицидальная попытка и суицид только в середине прошлого века стали рассматриваться как отдельные феномены. Споры о том, был ли Христос самоубийцей и можно ли отождествить смерть Сократа и Иисуса, ведутся до сих пор[12].
Зигмунд Фрейд был первым, кто предложил психологическую теорию феномена суицида. Борьба двух базовых влечений человеческой психики, Эроса и Танатоса, борьба инстинктов самосохранения и бессознательного влечения к возвращению в неорганическое состояние — главная движущая сила развития индивида. Главным механизмом, который формирует суицидальное поведение, Фрейд считал трансформацию гетероагрессии в аутоагрессию как результат конфликта «Эго» — «Супер-эго» — «Оно». Вытесненные в бессознательное нежелательные влечения формируют агрессию, направленную вовне. Но они также могут трансформироваться в глобальное чувство вины и потребность в наказании, что хорошо видно на примере депрессии. Аутоагрессия — один из механизмов, позволяющих справиться с депрессией, таким образом, самоубийство это один из превращенных механизмов адаптации, направленный на самоуничтожение.
Ученик Фрейда Карл Меннингер предположил, что все суициды имеют в своей основе три взаимосвязанные бессознательные причины: месть/ненависть (желание убить), депрессия/безнадежность (желание умереть) и чувство вины (желание быть убитым). В работе «Война с самим собой» (1938) он рассмотрел различные формы аутоагрессии: собственно самоубийство, хроническое самоубийство (аскетизм, мученичество, неврастения, алкоголизм, антисоциальное поведение, психозы), локальное самоубийство (членовредительство) и органическое самоубийство. Типология аутоагрессии многообразна и до настоящего времени не имеет четких границ. Антивитальные высказывания (например, «жизнь — мрак»), суицидальные мысли или фантазии, различные формы аутодеструкции (курение, алкоголь, наркотики и т. д.) еще не говорят в пользу того, что тот или иной индивид готов совершить самоубийство, тем более не дают никаких оснований четко и ясно прогнозировать возможную попытку. По данным многих исследований, до 80 % людей так или иначе имели суицидальные мысли.
***
Как массовое социальное явление напоминающее эпидемию современный суицид стал стремительно распространяться с первой трети XIX века в европейских странах, России. «В Пруссии с 1826 г. по 1890 г. число самоубийств увеличилось в 4 с лишним раза (411 %); во Франции — почти в четыре раза (385 %) с 1826 г. по 1888 г.; в немецкой Австрии с 1841 по 1874 г. число самоубийств возросло в три с лишним раза (319 %); в Саксонии с 1841 по 1975 г. почти в два с половиной раза (238 %); для Бельгии этот рост с 1841 по 1889 г. равен 212 %; для Швеции с 1841 по 1871—75 гг. — 72 %; для Дании — 35 % в течение того же периода. Для Италии этот рост с 1870 по 1890 г. равняется 109 %. Из этих цифр видно галопирующий рост самоубийств, причем характерно то, что чем культурнее государство или страна — тем быстрее растет и число самоубийств.
И Россия не является исключением из общего правила. С 1870 по 1908 г. число самоубийств в ней увеличилось в 5 раз. В Петербурге по данным доктора Григорьева с 1906 до 1909 г. самоубийства увеличились на 25 %, тогда как население увеличилось лишь на 10 %. В 1906 г. на 10 000 человек убивало себя 5 человек, в 1910 г. — 11 человек. Только революционный 1905 г. дал весьма значительное уменьшение самоубийства»[13].
Отличительные черты современного суицида: секуляризация, декриминализация, медикализация определяются уже в период раннего модерна (конец XVI — начало XVIII в.)[14]. «От греха к душевной болезни», от уголовного преследования к состраданию, от священника к врачу (психиатру) — таковы векторы развития отношения обществ к самоубийству/самоубийцам в странах христианской культуры. Термин «суицид» (от лат. sui caedere — убивать себя) впервые появился в книге Томаса Брауна «Религия врача» (1635, издана в 1642), но до XVIII века практически не употреблялся. «В библиографических работах по суицидологии фигурируют термины self-homicide (Bio-davatos, 1644) и self-murder (Pellicanicidium, 1655; Watt, 1755)»[15]. В России «самоубийство» впервые упоминается в «Лексиконе треязычном» (1704), составленном директором Московской типографии Федором Поликарповым-Орловым, хотя факт убийства самого себя упоминается уже в текстах «Кормчей книги», которая появилась в Киевской Руси в 1262 году.
Самоубийство/самоуничтожение — обязательный элемент любых человеческих сообществ на самых ранних этапах человеческой истории. В классическом труде Дж. Дж. Фрэзер «Золотая ветвь. Исследование магии и религии» представлена широкая панорама жизни архаичных сообществ, места и роли суицида на основе гигантских материалов этнографических исследований. Самоубийство является не индивидуальным актом «атомарного» индивида, а элементом коллективного ритуала: ритуальное самоубийство вождя племени или старого члена родового коллектива было органично вплетено в коллективное мироощущение и ход жизни общины.
В книге Эмиля Дюркгейма «Самоубийство», положившей начало социологическому подходу в интерпретации суицида, анализ самоубийства в европейской истории рассматривается в контексте взглядов автора на суицид как индикатор степени интеграции общества. Соответственно отношение государства к самоубийству, например в античности, четко разграничивает суицид как самовольный, не одобренный государством акт, и самоубийство, совершенное после получения разрешения. В Афинах, Фивах, на Кипре самоубийство это проступок перед общиной, соответственно самоубийце не только отказывали в почестях при погребении, но и отрезали руку трупа и хоронили отдельно. Особенно строго преследовали самоубийц спартанцы. Другое дело, если разрешение на самоубийство давал Ареопаг — «афинский сенат»: «Пусть тот, кто не хочет больше жить, изложит свои основания Сенату и, получивши разрешение, покидает жизнь. Если жизнь тебе претит — умирай; если ты обижен судьбой — пей цикуту. Если ты сломлен горем — оставляй жизнь. Пусть несчастный расскажет про свои горести, пусть власти дадут ему лекарство, и его беде наступит конец».

Подобное отношение к самоубийцам сохраняется в Древнем Риме. Упоминания об отказе в погребении можно найти во многих источниках того времени. Самоубийство же раба давало владельцу право требовать от продавца возмещения суммы, потраченной на покупку негодного товара. А Тарквиний Гордый, последний древнеримский царь, распинал трупы самоубийц или оставлял их на растерзание диким животным и птицам. Такие же действия предпринимались в Карфагене в целях борьбы с самоубийствами женщин: их обнаженные трупы выставлялись на всеобщее обозрение. Эпоха Цезарей открывает свою историю самоубийств, хорошо известную нам благодаря именам свободных граждан, которые по приказу императора кончали с собой, — как например, Сенека.
Отношение христианства к самоубийству прошло долгий путь, несмотря на то что единственный самоубийца в «Новом Завете» — Иуда. Если самосожжения неофитов вдохновляли Оригена (ок. 185—254), который видел в этих актах родство с Иисусом Христом, то уже Блаженный Августин (354—430) трактовал шестую заповедь «Не убий» как однозначный запрет на самоубийство.
Разумеется, непримиримая позиция церкви по отношению к самоубийству/ самоубийцам определяет отношение государства и права к этому феномену — уголовное наказание за самоубийство или его попытку существует в истории всех стран христианской культуры вплоть до ХХ века. Глумление над трупами самоубийц, конфискация имущества, посмертное лишение званий поражают современников своей особой, непонятной для нас жестокостью: «В Бордо труп вешали за ноги; в Аббевиле его тащили в плетенке по улицам; в Лилле труп мужчины, протащив на вилах, вешали, а труп женщины сжигали…»[16] Уголовное наказание за самоубийство отменяет Французская революция. В других европейских странах и в России подобные законы теряют силу в начале ХХ века. Дольше всех уголовное преследование самоубийства сохранилось в Великобритании — до 1961 года.
***
Анализ феномена современного суицида невозможен вне контекста истории становления секулярной, рациональной модели смертного человека, которая пришла на смену теологической парадигме за последние два века. Не только суицид, но и сама человеческая смерть секуляризируется и обретает характеристики естественного процесса, закономерного итога развития и организма, и индивида.
«Нет свободы без смерти, и только смертное существо может быть свободным. Можно сказать даже, что смерть — это последнее и аутентичное "проявление" свободы»[17]. Теперь смерть не есть наказание за первородный грех, а фундаментальная возможность свободного человека, свободного сознания; смерть — предпосылка мышления, структурирующая сознание и бытие человеком, фундаментальная пограничная ситуация, открывающая человеку самого себя, раскрывающая человеку Другого, смысл самой жизни, позволяющее сбываться человеку как таковому от начала и до самого конца.
Культура индустриального мира начала ХХ века не только переосмысляет событие смерти и осознание собственной смертности человеком, но и активно вмешивается, препарирует само некогда недоступное, унитарное событие абсолютного и необратимого исчезновения человека. Событие смерти становится объектом пристального изучения медицины, различных естественных наук, появляются теории старения как естественного эволюционного процесса развития индивида.
В 60-е годы прошлого века и сам процесс умирания, и событие смерти полностью переходят в область науки и медицины. Складывается классификация терминальных состояний, стадий умирания. Возникают сети хосписов, рождается паллиативная медицина. Появляются концепции бессмертия, основанные на новейших достижениях науки. Эвтаназия, считавшаяся преступлением, становится заурядной практикой в развитых странах Европы. Теории суицида, суицидального поведения, аутоагрессии обогощаются новыми результатами и достижениями генетики, нейрологии, трансплантологии, биоэтики.
***
Безусловно, в области суицидологии в ближайшее время намечается радикальная революция — результаты исследований, наблюдений, профилактики полученные в прошлом веке ставят культуру и науку перед необходимостью поиска новых комплексных подходов в исследовании этого феномена, интегральных теорий суицидального поведения, принципиально новой антропологической модели индивида. Если исследователи ХХ века ориентировались прежде всего на социологические и психологические теории суицида, то теперь невозможно не признать, что «не выявлено никаких специфических личностных черт или их сочетаний, которые более или менее ясно указывали бы на склонность к самоубийству»[18]. Реализация суицидальной попытки определяется эндокринными, нейрональными факторами. Большие надежды возлагаются на генетику — речь не идет о генах, которые непосредственно могут обуславливать само суицидальное поведение, называемых в массовой культуре «генами самоубийства», но об определенном типе поведенческих реакций, которые наследуются и которые, в совокупности с социальными и индивидуально-психологическими характеристики, могут быть элементами в механизме реализации, завершения суицидальных намерений.
Инерция российских гуманитарных наук в области суицидологии очевидна — в центре внимания отечественных философии, психологии, танатологии остается ограниченный набор теорий, имен, концепций и парадоксов. Именно поэтому национальные программы профилактики суицида, анализ тенденций развития «черного феномена», проблемы подросткового суицида остаются за пределами широких публичных дискуссий. Хочется надеяться, что новые поколения российских гуманитариев сумеют преодолеть комплекс неполноценности и принять активное участие в разработке как новых теорий суицидального поведения, развивая традиции отечественной науки, так и новой антропологической модели человека на основе последних достижений биотехнологической революции современности.
[3] Гилинский Я., Румянцева Г. Основные тенденции динамики самоубийств в России.http://www.narcom.ru/ideas/socio/28.html#3
[4] См.: Weaver J., Wright D. Histories of Suicide: International Perspectives on Self-Destruction in the Modern World. University of Toronto Press, 2008.
[5] Паперно И. Самоубийство как культурный институт. М.: НЛО, 1999. С. 6.
[6] См.: Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / пер. с фр. с сокр.; под ред. В. А. Базарова. М.: Мысль, 1994. С. 8.
[7] См.: Ласый Е. В. Теории суицидального поведения. URL: www.belmapo.by/downloads/psihiatriy/2009/teorii_suic_povedenia.D O C
[9] Гилинский Я., Румянцева Г Основные тенденции динамики самоубийств в России. Mtp://www.narcom.ru/ideas/sotio/28.html#3
[10] Львова Л. В. Никого не винить, я сам. См.: Провизор. 2002. № 3.
[11] См.: Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / пер. с фр. с сокр.; под ред. В. А. Базарова. М.: Мысль, 1994.
[12] Паперно И. Самоубийство как культурный институт. М.: НЛО, 1999. С. 11—13.
[13] Сорокин П. А. Самоубийство как общественное явление. См.: Социологические исследования. Февраль 2003. № 2. С. 104—114.
[14] Weaver J., Wright D. Histories of Suicide: International Perspectives on Self-Destruction in the Modern World. University of Toronto Press, 2008. P. 6.
[15] Ефремов В. С. Основы суицидологии. СПб.: Издательство «Диалект», 2004. С. 16.
[16] См.: Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / пер. с фр. с сокр.; под ред. В. А. Базарова. М.: Мысль, 1994.
[17] Кожев А. В. Идея смерти в философии Гегеля. М.: Логос, 1998. С. 168.
[18] Розанов В. А. О механизмах формирования суицидального поведения и возможностях его предикции на ранних этапах развития. Укр. мед. часопис. 2010. № 1 (75). С. 95.