Восприятие смерти в аграрных культурах
Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 5, 2013
В 1913 году вышла отдельным изданием одна из самых известных работ Зигмунда Фрейда, посвященная интерпретации магии, мифологии и религии, — «Тотем и табу». В ней основатель психоанализа, в частности, обратил внимание на двойственность отношения к умершим во многих архаических культурах. «Нам известно, — пишет Фрейд, — что мертвецы представляют собой могучих властителей; мы, может быть, с удивлением узнаем, что в них видят врагов»[1]. Приводя многочисленные примеры запретов, касающихся прикосновения к мертвому телу, произнесения имени умершего, «боязни присутствия и возвращения духа покойника», автор задается вопросом: почему и как в коллективном воображении «дорогой член семьи» после смерти превращается в опасного демона? Ответ, предлагаемый Фрейдом, вполне соответствует его трактовке ритуала и магии как своеобразных коллективных неврозов, массовых обсессий, подлежащих социальному наследованию. «Если, — говорит он, — жена лишается мужа, дочь — матери, то нередко случается, что оставшимися в живых овладевают мучительные размышления, названные нами "навязчивыми упреками" и выражающиеся в опасении, не являются ли они сами по неосторожности или небрежности причиной смерти любимого человека. <…> Дело не в том, что оплакивающие покойника действительно, как это утверждает навязчивый упрек, виновны в смерти или проявили небрежность; но где-то у них шевелилось такое им самим неизвестное желание, удовлетворенное смертью, они и причинили бы эту смерть, если бы обладали для этого достаточной силой»[2]. Речь, таким образом, идет о том, что амбивалентность ритуальных норм и запретов, связанных с умершим, представляет собой проекцию амбивалентных чувств и подсознательных стремлений, которые владеют живыми.
Сейчас — спустя столетие после издания «Тотема и табу» — рассуждения Фрейда представляются и не бесспорными, и несколько наивными. Психоаналитикам так и не удалось доказать, что их дедуктивные модели подчиняются правилам верификации и фальсификации и, следовательно, могут быть признаны научными. Гипотетически постулируемые подсознательные влечения не могут быть опознаны или подтверждены вне психоаналитической методики. Поэтому идею о том, что наше отношение к другим людям — живым, умирающим или умершим — может быть описано исключительно в контексте реконструируемых Фрейдом подсознательных коллизий и противоречий, вряд ли стоит сегодня считать продуктивной. К тому же здесь возможны и совсем иные интерпретации, не выходящие за пределы поддающихся научному описанию процессов восприятия и различения. Сторонник когнитивного подхода в антропологии и религиоведении сказал бы в данном случае, что исследуемые в «Тотеме и табу» этнографические данные нужно объяснять не в связи с амбивалентными подсознательными процессами, а как следствие противоречий «интуитивной онтологии»: «Труп не может восприниматься в качестве обычного человека, но его нельзя отнести и к классу предметов. Само представление о мертвом человеке имеет контринтуитивный характер: умершего воспринимают как своего рода личность, не обладающую, однако, биологическими и даже физическими качествами живого человека»[3]. С точки зрения подобной логики двойственность отношения к умершим диктуется не эмоциями или скрытыми влечениями живых, но самой природой нашего восприятия. Умерший одновременно и притягателен, и опасен постольку, поскольку нам непонятен его онтологический статус.
Как бы то ни было, очевидно, что некогда описанные Фрейдом представления об умерших не уникальны для первобытных, архаических и экзотических обществ. Речь, по всей видимости, идет об одной из наиболее устойчивых культурных констант, лежащих в основе мировосприятия и ритуала от палеолита до наших дней. Впрочем, современная городская культура, стремящаяся к «изоляции смерти», вытеснению представлений о мертвых и умирании на периферию публичных дискурсов, несколько размывает и трансформирует эти тенденции. Совсем иначе обстоит дело в аграрных обществах, где тема связи и взаимодействия между живыми и умершими оказывается значимой и актуальной для большинства людей. Особенности «доместификации смерти» в крестьянской культуре отчетливо демонстрируют две противоположные тенденции: создание границы или разрыва между умершими и живыми и сохранение связи между ними. Этнографы описывают это противоречие при помощи категорий «тоски» и «страха»[4], «памяти» и «забвения»[5]. Один из устойчивых топосов погребальной обрядности и мифологии в восточнославянской крестьянской культуре — запрет слишком долго «плакать» и «скучать» по умершему супругу или родственнику: в противном случае покойник либо «нечистая сила» в его обличье начнет «ходить» к живым и в конце концов может убить их или утащить за собой. В некоторых регионах рассказы о подобных случаях были одной из важнейших составляющих «погребального фольклора», а проблема избавления от навязчивого гостя из загробного мира решалась при помощи разнообразных магических приемов. Наиболее драматична концовка подобных историй, когда благодаря тем или иным ритуальным действиям или словам покойник вынужден отказаться от своих визитов в дома живых:
У женщины муж умер. <…> Муж умер у ей. И шесть недель он ходил к ей, от она была сухая такая сделавши. Потом сама проговорилась матери родной своей: «Ко мне Санька, — говорит, — ходит». Уж видно, спал [с ней]. Говорит: «Ведь Санька ко мне ходит». — «Да ты что, — говорит, — с ума сошла? Разве, — говорит, — мёртвый ходит с погоста?». Она говорит: «Дак ходит Санька, дак почём я знаю? — говорит. — В лес ходила, рубила дрова, — говорит, — приходил он со мной, помогал дрова рубить». <.> И собрала стол вечером мать, и направила стол, всё на стол, как замуж выдавали ей. Ну, сказала ей: «Придё он в двенадцать часов, ты и скажи. Он спросит у тебя: "Это что это стол собран?" — "Замуж выхожу"». А он говорит: «За кого?» — «А за родного, — говорит, — брата». — «А ты что, — говорит [муж], — замуж за родного брата ведь не выходят». — «А и мёртвые, — говорит [вдова], — с погоста не ходят». Он говорит: «Догадалась», — затопал ногами и убежал[6].
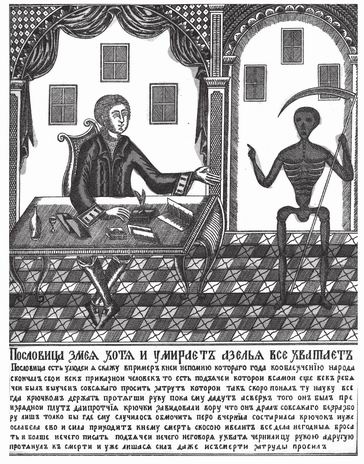
Иногда в рассказах о приходящем покойнике специально акцентируется его демоническая природа: предполагается, что на самом деле «приходит» уже не умерший, а черт в его обличье:
Вот этот Федя помер, а жёнка осталась одна, уже старая. <…> Вот она пойдёт так к кому посидеть [к] соседям. А ей говорят: «Оксинья, да посиди ты». Как десять часов: «Не, я пойду домой, пойду домой». А к ей, значит, не мужик ходил, — он похоронён, мёртвой не ходит, вы самы знаете, — а это, значит, враг ходил, чёрт ходил. Вот она приходит в десять часов, он к ей приходит. <…> «А потом я, — говорит, — что-то ножик упал у меня на пол-то. А я наклонилась ножик-то брать под стол…» — <о> ны там за столом сидели. Он сделавши как он, и слова таки, всё, говорит, одёжа, всё у него там. А это, оказыватца, чёрт враг. Она ножик-то с полу стала брать, смотрит, а у ё ноги-то лошадини, шерстнатые. А сделавши как мужик ейный, всё да… <…> Это, родимой, не мужик — он помер, захоронен — это враг ходит[7].
С другой стороны, крестьянская культура знает и гораздо более «мирные» и «безопасные» формы взаимодействия с умершими родственниками и односельчанами. Речь идет о специальных ритуалах, совершаемых в поминальные дни, когда живые могут безбоязненно участвовать в совместной с мертвецами трапезе на сельском кладбище либо у себя дома:
Едем на Троицу, на пасьбу, значит. Бабушка говорит: «Привези <…> бярёзок завтра на стол, на родительскую субботу стол собирать в Троицу. Привези бярёзок». <…> Вот она, значит, это, собирает стол. Это в Троицкую субботу. Собирает стол; ну, белой скатерёнкой покроет. Там рыбу раньше клали, эту, рыбу. Яичницу, эту, в печи, в русской, всё это… Киселя всё <…> наделают; всё это на тарелки ставят, родителям. И вот эти бярёзки, это, обложим весь стол по краям, и скамейки, и стулья — всё вокруг стола; покойники приходят — чтобы садились на эти берёзки. А потом приходят в субботу с церквы и поминают[8].
Хотя подобные застолья и другие поминальные обряды также обычно сопровождаются различными запретами, направленными на сохранение границы между живыми и умершими, здесь это разграничение скорее размывается, чем укрепляется. Более того, несоблюдение поминальных обычаев может навлечь различные беды на крестьянскую семью и даже всю деревню: покойники требуют к себе внимания и способны напоминать о своем существовании, насылая непогоду и неурожай, похищая детей и домашних животных.
Стоит добавить, что упомянутые ритуально-мифологические тенденции к «изгнанию» и «возвращению» мертвецов могут по-разному сочетаться в различных географических, исторических и культурных ситуациях: где-то люди очень боятся «приходящих покойников», а где-то, наоборот, с удовольствием видят во сне, как умершие непрерывной вереницей идут с приходского кладбища, чтобы принять участие в поминальных обедах. В целом, однако, крестьянская погребально-поминальная культура представляет собой постоянный символический диалог между миром живых и миром умерших, подразумевающий стремление к достижению более или менее устойчивого равновесия. Равновесие это, впрочем, иногда нарушается, что приводит к появлению особой категории «забытых покойников».

К числу концепций-долгожителей в отечественной этнологии относится некогда высказанная Д. К. Зелениным теория, согласно которой в крестьянской культуре восточных славян более или менее строго различаются «два разряда умерших»: родители («умершие от старости предки», «покойники почитаемые и уважаемые») и заложные («умершие прежде срока своей естественной смерти», «покойники нечистые… а часто даже вредные и опасные»)[9]. Надо сказать, что Зеленину удалось вполне корректно описать крестьянские поверья и обычаи, связанные с «умершими неестественной смертью», а также колдунами и ведьмами. Подобных покойников стараются не хоронить на деревенских кладбищах: это может привести к засухе, заморозкам и прочим природным явлениям, пагубно влияющим на урожай. Считается, что души таких умерших не находят упокоения, скитаются по земле и стараются навредить живым. По всей видимости, все эти представления связаны с идеей неизжитой витальности, не дающей человеку умереть окончательно и бесповоротно. Вместе с тем попытка Зеленина интерпретировать верования такого рода в контексте якобы существовавшей в крестьянской культуре категории «заложных покойников» была, судя по всему, ошибочной. Прежде всего, ученый неправильно истолковал диалектный термин «заложные». Это слово, согласно Зеленину, употреблялось в некоторых уездах Вятской губернии для обозначения умерших, погребенных без отпевания, а также тех, кто заблудился в лесу, утонул в реке, пропал без вести или был похищен нечистой силой вследствие родительского проклятья. Зеленин полагал, что само это вятское слово происходит от глагола заложить и что более древней формой обозначения подобных покойников было причастие заложенные, поскольку их тела не предавали земле, а закладывали досками или кольями. В качестве доказательства своей гипотезы исследователь приводил фрагмент из послания Максима Грека «на безумную прелесть», где упоминается обычай не погребать тела убитых и утопленников, «но на поле извлекшее их», «отынять колием»[10]. Однако уже в наше время эта этимология была оспорена А. Б. Страховым. По его мнению, цитата из Максима Грека подтверждением в данном случае быть не может, поскольку «отыняемъ колiемъ значит, вопреки Зеленину, ‘огораживаем тыном, обносим кольями’, а отнюдь не ‘закладываем’» Само же «превращение заложенный в заложный»[11], как полагает Страхов, «затруднительно, такому производству в словообразовательном и семантическом отношениях не на что опереться»[12].
Я полагаю, что происхождение этого крестьянского термина связано с одним из диалектных значений глагола «заложить» — «забыть» или «забросить» — и что речь идет о «забытых», то есть оставшихся без поминовения покойниках. Прямой параллелью к соответствующим вятским материалам о «заложных» служат обряды и поверья, связанные с «забыдущими родителями» в Новгородской области. «Забытые», лишенные поминания мертвецы, которых могли называть заложными или забыдущими родителями, напоминали о себе живым разными способами, забирая в потусторонний мир детей и животных, насылая пожары и неурожаи. Эти представления, по всей видимости, были связаны с упомянутыми выше нормами поминальной практики. Так, например, на территории бывшей Вятской губернии и сейчас распространены рассказы об умерших, мстящих за «непоминание»:
Покойник, говорят, у стола не стоит, а свое берет. Он что-нибудь да навредит. Скотину спрячет: люди видят, а ты не видишь. А вот тогда помянешь и, если живая скотина, дак это увидят. Первый год сюда приехали, у нас поросенок большой был уже. Поросенка потеряли, свинью выискали, нигде не можем найти, ну, беда. Ну, это аккурат после Троицы скоро, и вот вспомнила: у меня крестная была, я ее не помянула. Давай помянем. А поминать надо или на кладбище уйти, или где-то это в сторону уйти, на пенечке там помянуть, а потом че осталося, оставить на пенечке. И вот мы помянули, дак и нашли свинью-то тут, под крылечком. А везде выходили, кричали, ни за что не вышла она — зарылась и лежит[13].
По всей видимости, представления и ритуалы, связанные с «забытыми покойниками», имеют прямое отношение к нормам социальной памяти в аграрной культуре, подразумевающим особую связь между живущими и умершими кровными родственниками и, соответственно, необходимость специальных меморативных ритуалов, одновременно сополагающих и разграничивающих мир живых и мир мертвых. «Забытыми» в этом контексте могут оказываться и представители давно ушедших поколений, и покойники, лишившиеся поминовения вследствие демографических изменений: запустения конкретных территорий из-за голода и эпидемий, миграций общин или отдельных семей и т. д.[14]
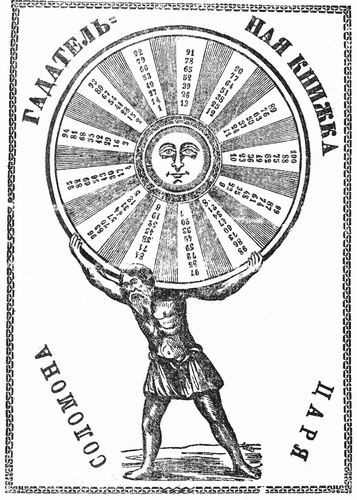
Показательную параллель представлениям о заложных и завидущих составляют распространенные в Верхокамье ритуалы поминовения чуди и чудских родителей. В одной из этнографических корреспонденций конца XIX века эта традиция прямо сопоставляется с «поминками по заложенным», хотя местом совершения соответствующих обрядов здесь оказываются древние — чудские — кладбища, где, по преданиям, погребены аборигены края и/или предки современного населения. Любопытно, что среди мотивировок этого поминовения встречается и забота о том, «чтобы скот не терялся», соответствующая упомянутым поверьям вятских крестьян о родителях, забирающих в лес скотину:

У позднейших населенцев чудских местностей обнаруживается такой мотив поминок: «Чудь жила до нас, место расчищала; как не помянуть!» «Опять же, — прибавляют крестьяне, — помянешь, так спокойнее для скота, а то теряться будет…» <…> Слова, упоминаемые при поминовении, тоже не заключают в севе указаний непременно на родственные отношения. Обыкновенно говорят так: «Помяни, Господи, чучь (или чудяков)! Помяни, Господи, дедушку чучка, бабушку чучиху! Помяни, Господи, чучких родителей! Помяни, Господи, чучких родителев, чучкого дедушку и бабушку!»[15]
Любопытно, что весь этот круг поверий, ритуалов и нарративов говорит о пребывании умерших не в христианском загробном мире, но в непосредственной территориальной близости к деревенской общине — на приходском кладбище или древнем могильнике, в близлежащем лесу и т. д. Это не означает, что русские крестьяне никогда не слышали или имели исключительно смутные представления о рае и аде. Во многих восточнославянских регионах пользовался достаточной популярностью особый тип рассказов о посещении загробного мира — так называемые «обмирания», где говорилось о человеке, пережившем временную смерть или летаргический сон и узнавшем, какое загробное воздаяние ожидает людей за те или иные прегрешения[16]. Однако «обмирания», генетически связанные с литературным жанром видений «того света» и имеющие преимущественно моралистический характер, в повседневной деревенской жизни фактически никак не соотносились с погребальными и поминальными обрядами и фольклором. Как это ни парадоксально звучит, крестьянские рассказы о посещении загробного мира имели гораздо большее отношение к представлениям о жизни, а не о смерти, поскольку служили своеобразным «моральным регулятором», способом кодификации и репрезентации этических норм, характерных для крестьянской культуры.
Что касается вышеописанных представлений о смерти и умерших, то они, как я думаю, позволяют говорить о своеобразном, если так можно выразиться, «биоценозе» сообществ живых и покойников. И связи, и границы между деревней и соседствующим с ней миром мертвецов как бы дублируют родственные и социальные отношения между живыми. Такой тип отношения к умершим, по всей вероятности, обусловлен спецификой повседневной жизни в аграрных культурах, где человек испытывает чувство особой близости не только к природному окружению, но и в отношении членов своей семьи и общины. Как уже было сказано, городская культура смещает акценты и в том, что касается семейных либо общественных связей, и применительно к восприятию смерти. И социальные взаимодействия, и способы воображаемой коммуникации с покойниками опосредуются в индустриальных и постиндустриальных обществах техникой, сложной структурой информационных потоков, многообразием медиальных средств. Однако и в подобных мирах «вытесненной смерти» сохраняются и по-своему развиваются основные тенденции погребальной традиции: стремление изолировать умершего, избавить живых от его порой опасного присутствия и тяга к сохранению связи с покойным, регулируемая специальными ритуальными средствами и артефактами, будь то поминки, надгробие или эпитафия.
[1] Фрейд З. Тотем и табу. СПб., 2005. С. 90.
[2] Там же. С. 103—104.
[3] Pyysiainen I. How Religion Works: Towards a New Cognitive Science of Religion. Leiden, 2001. P. 93—94.
[4] Байбурин А. К. Тоска и страх в контексте похоронной обрядности (к ритуально-мифологическому подтексту одного сюжета) // Труды факультета этнологии. Вып. 1. СПб., 2001. С. 96—115.
[5] Седакова О. А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. М., 2004. С. 257—264.
[6] Бобылева Е. В., Миргородская Н. Н. Народные рассказы о приходе покойника // Традиция в фольклоре и литературе. СПб., 2000. С. 264 (Ленинградская область, 1998 г.).
[7] Архив факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Новгородская область, 1999 г. Шифр фонограммы: ЕУ-Хвойн-99-ПФ-34.
[8] Кормина Ж. В., Штырков С. А. Мир живых и мир мертвых: способы контактов (два варианта северорусской традиции) // Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и материалы. М., 2001. С. 207.
[9] Зеленин Д. К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественною смертью и русалки. М., 1995. С. 39—40; См. также: Он же. К вопросу о русалках (Культ покойников, умерших неестественною смертью, у русских и у финнов) // Д. К. Зеленин. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901—1913. М., 1994. С. 230—298; Он же. Древнерусский языческий культ «заложных» покойников // Известия Академии наук. Пг., 1917. Вып. 7. С. 399—414.
[10] Сочинения Максима Грека. Казань, 1862. Т. 3. С. 170.
[11] Страхов А. Б. Сила слова: заложный покойник и матерная брань // Palaeoslavica. 2003. Vol. XI. P. 263.
[12] Там же. С. 264.
[13] Иванова А. А. Пропажа и поиск скота в мифоритуальной практике Верхокамья и Пинежья // Актуальные проблемы полевой фольклористики. М., 2004. № 15.
[14] Подробнее см.: Панченко А. А. Иван и Яков — необычные святые из болотистой местности: «Крестьянская агиология» и религиозные практики в России Нового времени. М., 2012. С. 143—166.
[15] Сорокин П. Чудь Кайского края (Продолжение) // Вятские губернские ведомости. 1895. № 53. 8 июля. С. 4.
[16] См.: Лурье М. Л., Тарабукина А. В. Странствования души по тому свету в русских обмираниях // Живая старина. 1994. № 2. С. 22—25; Толста С. М. Полесские «обмирания» // Живая старина. 1999. № 2. С. 22—25; Пигин А. В., Разумова И. А. Эсхатологические мотивы в русской народной прозе // Фольклористика Карелии. Сборник научных статей. Вып. 9. Петрозаводск, 1995. С. 52—79; Чередникова М. П. Письменная традиция обмираний // Сны и видения в народной культуре / сост. О. Б. Христофорова. М., 2002. С. 227—246; Пигин А. В. Видения потустороннего мира в русской рукописной книжности. СПб., 2006.