Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 5, 2013
Смерть в экзистенциалистской интерпретации
По сути экзистенциалисты стали невольными оппонентами другого направления и даже другой науки, а именно — возникающей и утверждающейся в эпоху популярности экзистенциализма исторической психологии. Если представлявшие последнее направление исследователи типа Филиппа Арьеса или Жака Ле Гоффа приковали внимание в ХХ веке к проблематике смерти (что не удивительно, поскольку ХХ век вводил в эпоху мировых войн и миллионных жертвоприношений даже не на полях сражений, а в концлагерях), ставя акцент лишь на мгновениях ухода человека из жизни, то экзистенциалисты доказывали, что жизнь в ее самостоятельности по отношению к смерти и ее изолированности от смерти познать невозможно. Правда, в этой позиции экзистенциалисты не были первыми. Еще римские стоики утверждали, что рождение человека является первым шагом к его смерти[1]. Кальвин, например, утверждал, что все мгновения жизни человека должны переживаться по аналогии с последним уходом. «Да будем мы в полном здравии всегда иметь смерть перед глазами, так чтобы мы не рассчитывали вечно пребывать в этом мире…»[2]. Вот именно эту истину доказывали экзистенциалисты.
Постепенно из философии экзистенциализма и исторической психологии эта идея перекочевывает в искусство ХХ века, в том числе отечественное. Философ Нелли Мотрошилова убеждена, что сталинские репрессии спровоцировали характерный для 1950—1970-х годов живой интерес отечественной публики, философии и искусствознания к экзистенциализму.
Экзистенциалистский взгляд Ингмара Бергмана
Может быть, с наибольшей ясностью идея экзистенциализма, касающаяся смерти как оборотной стороны жизни, была воплощена в фильме Ингмара Бергмана «Седьмая печать». В нем была отдана дань также исторической психологии в ее французском варианте, ведь именно французские историки, разрабатывая проблематику и методологию исторической науки, сосредоточили свое внимание на процессах западного Средневековья. Время действия фильма — тоже Средневековье. Рыцарь Антоний Блок и его оруженосец возвращаются в родные места после длительного отсутствия, во время которого они по призыву папы принимали участие в освобождении Святой земли. Но эти родные места выглядят совсем не раем. На родине рыцаря свирепствует чума. Вымирают целые селения. Такое ощущение, что эти места покинул Бог. Да и есть ли он вообще? Такая мысль приходит в голову рыцаря еще раньше, во время крестовых походов. У него появилась потребность найти какое-то подтверждение тому, что Бог существует. Поэтому когда за ним приходит Смерть, он просит у нее отсрочку, предлагая сыграть с ней в шахматы. В соответствии со средневековыми представлениями, как утверждает Арьес, воля человека способна выиграть у смерти отсрочку[3]. В фильме Бергмана так и происходит.
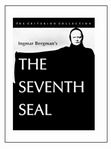
Отсрочка рыцарю нужна для того, чтобы удостовериться, что Бог действительно существует. С этой целью он даже прибегает к косвенному средству — сначала убедиться в существовании дьявола. Если существует дьявол, то, следовательно, должен существовать и Бог. Именно поэтому рыцарь внимательно вглядывается в глаза бедной женщины, принятой за ведьму, которую стражники готовят к сожжению на костре. Ведь это она, как убеждают священники, заразила воду в колодце, откуда и начала распространяться чума. Но никаких свидетельств о связи этой женщины с дьяволом рыцарь не обнаруживает. А значит, нет и Бога. Когда Антоний Блок открывает для себя эту истину, у него пропадает желание обыграть Смерть, которая постоянно предстает перед ним, напоминая о себе. Она изображена на фреске в эпизоде посещения оруженосцем церкви, в которой работает местный иконописец. О ней напоминает череп в руках одного из актеров во время представления, даваемого бродячей цирковой труппой.
В конце концов Смерть, как она и обещала рыцарю в первом эпизоде, побеждает. Перед бедным и наивным клоуном Юфом предстает картина: вереница танцующих фигур, увлекаемых Смертью на фоне вечернего неба. Смерть увлекает не только рыцаря и его оруженосца, но и сопровождающих их несчастных женщин — жену рыцаря, сохранявшую ему верность и ожидавшую его в течение всего его длительного путешествия, и подружку, встреченную его оруженосцем в вымершем от чумы селении. Смерть пощадила лишь бедного клоуна Юфа с его женой и маленьким сыном, напоминающих Святое семейство — деву Марию, святого Иосифа и младенца Христа. Недаром клоуну как раз и было видение девы Марии с младенцем. Смерть в этом фильме принимает тотальные черты. Повсюду находятся знаки, свидетельствующие о ее присутствии. И дело не только в том, что Смерть присутствует в каждом мгновении жизни рыцаря, пронизывает все ее проявления. Дело в том, что в этом мире едва ли существует что-то кроме смерти. Едва ли найдется какой-либо другой фильм, который бы так убедительно позволил ощутить экзистенциалистский тезис о смерти как оборотной стороне жизни, придающей жизни ее подлинный смысл. Ингмар Бергман является продолжателем идей своего соотечественника Сёрена Кьеркегора, открывшего эту истину.
Смерть как пограничная ситуация
Кьеркегор, первый философ-экзистенциалист, отнюдь не был пессимистом, как вообще не были пессимистами и последующие экзистенциалисты-мыслители, обогатившие искусство ХХ века. Для них страх смерти — высшее выражение того психологического состояния, которое они называют «пограничной ситуацией». Только пограничная ситуация выводит человека за пределы повседневности, заставляет ощутить смысл жизни, ее истинные ценности. Экзистенциалисты философски разработали идею, которую в классической литературе мы находим и прежде. В частности, у Пушкина в маленькой трагедии «Пир во время чумы» персонажи, не пытаясь преодолеть страх смерти, предаются разгулу и веселью. Предлагая «восславить царствие Чумы», Вальсингам так понимает заново открытое экзистенциалистами переживание высшего проявления жизни, обостренного близостью Смерти:
…Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог».
Это состояние экстатическое, а следовательно, состояние, противостоящее повседневному, будничному течению жизни. Оно выводит человека в другие измерения бытия, когда человек оказывается близок к тому, чтобы ощутить свое бессмертие и свое величие, свои истинные отношения с окружающими людьми, с обществом, вообще с миром.
Так, член судебной палаты Иван Ильич Головин в повести Толстого «Смерть Ивана Ильича» незадолго до смерти приходит к выводу, что, несмотря на успешную чиновничью карьеру, вся его сознательная жизнь была «не то», что он погубил все, что ему было дано, и поправить уже ничего невозможно. Только на смертном одре Ивану Ильичу открылась истина: «Не то. Все то, чем ты жил и живешь, — есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть»[4]. К таким же выводам приходит умирающий костромской купец Егор Булычов в пьесе Горького: «Я вот жил-жил, — говорит он, — да и спрашиваю: ты зачем живешь?»[5]. Перед приближающейся смертью спадает пелена и с глаз заслуженного профессора, тайного советника и кавалера Николая Степановича из повести Чехова «Скучная история». Люди, которые его окружают, в том числе и члены его семьи, кажутся ему совершенно чужими. Перед открывающейся ему истиной он растерян. На вопрос, почему это так, за него отвечает близкое ему существо: «Просто у Вас открылись глаза; вот и все. Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать»[6].
В этом ответе предстает смысл того, что экзистенциалисты называют пограничной ситуацией. Только вот способность ощутить полноту и ценность жизни невозможно изолировать от Абсолюта, и прежде всего, конечно, Бога, о чем, собственно, и пытается сказать в своем фильме Бергман. Его рыцарь — максималист. Смысл жизни для него может существовать лишь в том случае, если он убедится, что Бог существует. Вот почему на лице этого измучившегося и изверившегося героя, символически выразившего настроения западной интеллигенции ХХ века, появляется улыбка лишь тогда, когда он соприкасается с семейным счастьем бедного клоуна Юфа, с этим «святым семейством», напомнившим ему евангельские образы.
Отечественный вариант экзистенциализма: Андрей Тарковский
Конечно, настроение рыцаря у Бергмана оказалось созвучным не только Западу, открывшему в 20-х годах ХХ века Кьеркегора, а в конце 1950-х годов и фильмы Бергмана, ставшего надолго лидером мирового кинематографа, но и «шестидесятникам» в Советском Союзе. В творчестве Андрея Тарковского многое спровоцировано образами бергмановских фильмов. Так, в фильме «Седьмая печать» есть эпизод в церкви, в которой местный художник, изображая сцены со смертью, вступает с оруженосцем в беседу, и эпизод расправы с клоуном в сельском кабаке. В фильме «Андрей Рублев» Тарковского есть сцена спора героя с Феофаном Греком, изображающим на стене храма Страшный суд, и сцена избиения скомороха дружинниками. Эти эпизоды явно предстают цитатами из фильма Бергмана.

О Тарковском много написано. Но мало сказано о нем как последователе экзистенциалистской философии. Между тем отношение Тарковского к смерти свидетельствует о его близости к экзистенциалистам. В фильме «Зеркало», кажется, никто не умирает, никого не хоронят. Но его действие окрашено атмосферой смерти. Потому что герой, от имени которого ведется повествование в фильме, прикован к постели. Он находится на пороге смерти. Он оказывается в такой же пограничной ситуации, как и упомянутые выше герои русских классиков. В финале своей жизни невидимый герой Тарковского тоже пытается разобраться в хитросплетениях своей жизни. Погружаясь в глубины подсознания, он начинает испытывать вину за то, что когда-то другим людям, в том числе и близким, он причинил боль. По сути фильм Тарковского означает исповедь перед смертью.
Героя Тарковского никто не навещает. У его постели нет ни родственников, ни знакомых. Более того, мы не видим и самого героя, от имени которого развертывается это фрагментарное повествование, напоминающее постмодернистский прием ризомы. Такая ситуация соответствует той установке по отношению к смерти, которая с некоторого времени стала определяющей. Ныне человек уходит из жизни в одиночестве. Если в Средние века смерть без свидетелей и церемоний воспринималась позорной, то сегодня это становится нормой[7]. Однако в том-то и заключается пафос фильма Тарковского, что режиссер против такой десакрализации смерти протестует, утверждает экзистенциалистское кредо: столь абсурдное отношение к смерти бьет по культуре. Из нее исчезает образ человека, находящегося в гармонических отношениях с окружающими людьми. Непризнание смерти, стремление ее спрятать означает низкую оценку живых, вообще человека.
Перед смертью в голове героя Тарковского проносятся события — существенные и несущественные, — которые сохранились в его сознании. Эти события превращаются в события именно с точки зрения героя. Чтобы подчеркнуть личностный смысл происходящего, режиссер использует прием «потока сознания». Здесь есть события, значимые лишь для личной биографии и переживаний героя. А есть события, важные для истории всей страны (кадры времен Второй мировой войны, кадры, воспроизводящие столкновение с Китаем на острове Даманском и т. д.). Но особенно значимыми являются сцены детства, сцены, когда герой вспоминает свои детские переживания. Эти события особой личностной значимости подаются оператором так, что из них устраняется всякий бытовой смысл, и они выступают своими сакральными коннотациями.
Фильм «Зеркало» весьма показателен для той фазы в истории советского кино, когда совершался переход от государственного понимания того, что есть событие, к его персонологическому пониманию. При этом те формы сакрализации, что были характерны для кино предшествующего периода, начиная с эпохи оттепели, уходили в прошлое. Пытаясь воспроизвести субъективный смысл повествования, кинокамера погружается в деятельность сознания, жертвуя привычным сюжетом и традиционной причинно-следственной связью. Казалось бы, в наступающий период столь значимая для советского кино сакрализация совершенно исчезает. Но это не так. Именно Тарковскому, и в этом смысле трудно поставить кого-либо рядом с ним, удается показать, что потребность в сакрализации может получать выражение и в иных формах.
Критикуя историков школы «Анналов» за используемые ими схемы последовательной смены в установках западного мира по отношению к смерти, Арон Гуревич высказывает справедливую мысль о существовании таких ситуаций в истории того или иного народа, когда разные установки, которые в истории вообще должны последовательно сменять друг друга, существуют одновременно[8]. Это происходит потому, что в одних социальных группах и структурах реальны одни установки по отношению к смерти, в других — другие. Попробуем войти в проблематику отечественного кино через ту дверь, что связана с образом смерти. В этом смысле Тарковский нетипичен. Хотя нельзя утверждать, что образ смерти, столь значимый для него, не имеет корней в русской культуре. Идеи экзистенциализма имели своих поклонников в русской философии. Например, в лице Николая Бердяева или Льва Шестова. Тем не менее в понимании смерти Тарковского следует считать маргиналом. Но таким маргиналом, который имеет резонанс, а также последователей в лице, например, Александра Сокурова или Андрея Звягинцева, в творчестве которых тема смерти перестает быть латентной и становится явной. Режиссеры словно идут против течения, заданного всей логикой цивилизации. Они разбивают миф о спрятанной смерти и пытаются протестовать против такого к ней отношения.
В кино первой половины ХХ века наблюдалась тенденция, анализируя которую следовало бы прибегнуть к понятию, используемому известным аналитиком проблемы смерти в западной культуре Филиппом Арьесом. Это понятие — «прирученная смерть». Человек традиционной культуры, в том числе и средневековой, не имея возможности сопротивляться смерти, «приручал» ее. Смерть из сакрального явления превращается в явление повседневности. Вот почему кладбища не выносятся за пределы мест обитания. Вот почему смерть становится предметом изображения во время праздников. И вот, наконец, почему в определенные праздничные дни, как предусматривается в архаических культурах, мертвые могут навещать живых.
Как большевики приручили смерть
Когда мы употребляем понятие «прирученная смерть», то под этим подразумеваем уникальный эксперимент, имевший место лишь в большевистской империи. Характеристика этого эксперимента позволит глубже осознать новации в представлении о смерти, получившие выражение в отечественном кино на рубеже XX—XXI веков. Остановимся на отрезке истории кино, связанном с тем временем, что раньше называли периодом построения социализма. Этот отрезок мы, пытаясь уйти от догм марксизма и имея намерение психологизировать исторический процесс, как это делают историки школы «Анналов», могли бы обозначить как пассионарная вспышка в истории, способствующая чему-то, что можно было бы назвать прорывом религиозного в политику.
Применительно к отечественному кино следует говорить о прорыве в массовое сознание, под воздействием которого оказывалась государственная политика (и здесь тезис Хосе Ортеги-и-Гассета о зависимости в ХХ веке властвующей элиты от массы следует признать справедливым), не только мотивов, возможных в границах христианства, но и глубокого язычества. Иначе говоря, в формах советского кино совершался прорыв самых архаических образов и смыслов, о реабилитации которых в конце XIX века писал Фридрих Ницше.
Советское кино в его наиболее определившихся чертах не обходится без «культурных героев». Это следствие того, что в нем произошла реабилитация мифологии, которой не могло быть на предшествующих этапах, поскольку никогда еще в истории не существовало столь мощного прорыва масс, столь очевидной активности масс, как это произошло в России в ХХ веке.
Вот эта активность масс, демонстрирующих состояние того, что Ницше назвал ressentiment, обернулась вспышкой пассионарности и выбросом тех форм сакрализации, которые преодолели тысячелетия и вернулись в столь желаемое еще деятелями Серебряного века состояние архаики. В истории произошло нечто еще не осознанное и не отрефлексированное, а именно выход за пределы осевого времени, в границах которого формировались те духовные, нравственные и религиозные ценности, которые и определили сознание людей вплоть до ХХ века. Произошел выход в реальность доистории с сопровождающим этот выход того, что Александр Неклесса называет «распечатыванием запретных кодов мира антиистории», «выходом на поверхность и легитимацией мирового андеграунда»[9], того, что в эпоху осевого времени было вытеснено в подсознание культуры. А было вытеснено тогда и то, что связано с образом Танатоса, влечение к которому впервые было так проницательно интерпретировано Зигмундом Фрейдом в связи с его открытием бессознательной сферы. Сам образ «культурного героя» как ядра древнейшего мифологического представления уже выводил в эпохи доистории, когда какая-либо солидарность людей, а значит, и общественная связь, возникала лишь с помощью лидера, владеющего сверхъестественным даром и отличающегося харизматическими качествами.
«Культурный герой» как архетип героя
Социальный порядок возникает не благодаря тому, что «культурный герой» берет в свои руки власть, а тому, что он становится жертвой и погибает. Такой порядок оказывается возможным в результате ритуала жертвоприношения «культурного героя». Смысл такого ритуала, без которого не наступает социальный порядок, приоткрывается, если иметь в виду то, что предшествует ритуалу. Ритуал жертвоприношения «культурного героя» — это средство преодоления всеобщей вражды и ненависти. Именно такой ритуал, в котором принимают участие все члены коллектива, погашает всеобщую враждебность, то есть то состояние сообщества, которое Ницше назвал ressenurnent Превращаясь в жертву, такой герой становится сакральной фигурой.
Ритуал связан с повторением, с прецедентом, который в сообществе некогда уже имел место. Ритуал есть способ борьбы с хаосом. Новые «культурные герои» демонстрируют то, что когда-то было проделано предками, совершившими в мифологическое время свои героические деяния, благодаря которым социальный порядок был восстановлен. Без этого социально-психологического фона осмыслить тот архетипический подтекст, который содержится в отечественном кино первой половины ХХ века, и в частности архетипы, связанные со смертью, не удается.
В истории нередко возникали ситуации, когда существующие государственные системы, чаще всего имперского типа, утрачивали жизнеспособность, как следствие происходило нарастание хаоса, который русские историки обозначали как «смута». Признаком нарастающей смуты служило появление маргинальных типов, с которыми народные массы связывали представления о возможности справедливой жизни. Таким в истории России был, например, Степан Разин — и как реальное историческое лицо, и как мифологический «культурный герой», получивший в русском фольклоре имя «разбойника». Собственно, такие милленаристские и хилиастические чаяния позднее вызвали к жизни и исторические фигуры типа Ленина.
Серж Московичи, констатируя восприятие членами общества сложившейся ситуации как социального «беспредела», пишет о возникающей потребности в человеке, обладающем харизматическими признаками. Обычно это маргиналы, иностранцы или прибывшие с периферии — Наполеон с Корсики, Гитлер из Австрии, Сталин из Грузии. Московичи обращает внимание на противоречие. Ведь в обществах, стремящихся воплотить идеал демократии, такие харизматические личности, кажется, уходят в историю. Но реальность опровергает такое заключение. «Этот тип вождя не только исключителен, — пишет Московичи — но он кажется архаичным по существу. Похоже, он свойствен обществам прошлых веков, а в наше время интерес к нему скорее исторический. Но не видим ли мы, что он сохранился и распространяется, вопреки ожиданиям?»[10]
Московичи реабилитирует замысел Гюстава Лебона, пытавшегося в XIX веке аргументировать потребность в разработке специальной дисциплины — психологии масс. Не случайно, высказывая мысль о явлении новых «культурных героев» на арене политической истории ХХ века, он цитирует то место из Лебона, в котором говорится, что тип героя, которого любят толпы, всегда будет типом Цезаря («Его блеск соблазняет их, его авторитет им импонирует. А его меч внушает страх»[11]). Историки обычно призывают выявлять скрытые и безличные причины совершающихся исторических процессов, связанные с объективными законами экономики и техники. Между тем сознание массы определяют не эти процессы. Его определяет мифологическая стихия. А это означает, что политические вожди воспринимаются повторяющимися в истории образцами, то есть «культурными героями». «Стоит нам перевести взгляд с их (историков. — Н. Х.) книг на подмостки исторической драмы, мы увидим, что этот миф продолжает с успехом разыгрываться. Он возрождается из пепла в строгом ритуале церемоний, в парадах и речах. Толпы участвуют в гигантских инсценировках на стадионах или около мавзолеев, которые оставляют далеко позади себя чествование римских или китайских императоров. Эти спектакли, как подсказывает здравый смысл, суть иллюзии, даже если в них участвует весь мир, наблюдая за происходящим на телевизионных или киноэкранах. Но так же, как и весь мир, я верю в то, что вижу. Этот захватывающий ритуал, эта грандиозная инсценировка, ставшие составной частью нашей цивилизации, как цирковые зрелища стали частью римской цивилизации, отвечают своему назначению»[12].
Архетип праздника в отечественном кино и его связь со смертью
На протяжении нескольких десятилетий отечественное кино транслировало образы счастья. Жизнь на экране представала сплошной праздничной стихией, о чем, например, свидетельствовали фильмы Ивана Пырьева, и в особенности незабываемый фильм «Кубанские казаки». Однако этот беспрецедентный оптимизм кино советской империи, казалось бы, очень далекий от образа смерти, тем не менее оказывался с ним связанным.
С помощью советских фильмов в сознание массы внедрялся образ старой империи как исключительно негативный. На экране вся прежняя история демонизировалась. Такая ситуация сохранялась до тех пор, пока Сталин, предчувствуя приближение мировой войны, не понял, что сила духа народа, столь необходимая для будущей победы, заключается не только в количестве оружия, но и в мобилизующей активности исторической памяти. Защищать землю можно, лишь обладая уверенностью в том, что ее уже не раз, рискуя жизнью, защищали наши предки. Раз предкам это удавалось, то сможем сделать это и мы. Так на экране появились Александр Невский, Иван Грозный, Петр Первый, Суворов, Кутузов, Нахимов, Минин и Пожарский и т. д. При этом важно отдавать отчет в том, что, появляясь на экране, исторические деятели активизировали не только историческое, но и мифологическое, а еще точнее, архетипическое сознание массы. Воскрешение предков стало устойчивым мотивом того оптимистического духа и праздничной атмосферы, которые продолжали транслироваться экраном.
Мотив праздника — тоже весьма архаический элемент мифа, как и образ предка. Альбер Камю как представитель экзистенциализма не случайно касается темы революции как праздника. Многие советские фильмы первой половины ХХ века были фильмами о революции. Сама же революция, как и строительство новой жизни, ставшее возможным благодаря революции, изображается как праздничная акция. Так, вспоминая знаменитое высказывание Бакунина «Страсть к разрушению — это творческая страсть», Камю обращает внимание на признание Бакунина о том, что революция 1848 года была «праздником без конца и без края»[13]. Михаил Бахтин также подчеркивал, что большие перевороты в истории сопровождаются карнавализацией сознания[14]. В данном случае карнавал — синоним праздника, а праздник был следствием смерти старого и рождения нового социального космоса. Каждый раз праздник воссоздавал образ хаоса, возникающего в результате умирания старого космоса. Вот почему праздник ассоциировался с абсолютной свободой. В праздничное время позволялось то, на что в остальное время было наложено табу. В архаических культурах смысл праздника связан прежде всего с нарушением запретов, например, с упразднением социальных различий, что очень важно для революционных акций. «Стирание различий, как и можно ожидать, часто связано с насилием и конфликтом, — пишет в связи с праздником Рене Жирар. — Низы оскорбляют верхи, разные общественные группы попрекают друг друга смешными и дурными сторонами. Повсюду беспорядки и пререкания… Повсюду прекращается работа, все предаются чрезмерному потреблению и даже коллективному истреблению припасов, накопленных за долгие месяцы»[15].

Таким образом, чтобы возобновить и укрепить порядок в обществе, в определенное время в границах ритуала дозволяется отклонение от него, упразднение его, то есть возвращение в предшествующее устроению космоса докультурное состояние. Но творение космоса всегда связывается с преодолением хаоса, а преодоление хаоса, в свою очередь, становится возможным через преступление, смерть одного из членов сообщества. Естественно, что логика мифа требовала утверждения такой картины мира, в которой старая империя связывалась с хаосом. Она должна уйти в прошлое. Предполагается, что на месте упраздненной империи возникнет новый революционный космос. Но сотворение этого космоса возможно лишь в акте жертвоприношения. Поэтому печать ритуала всегда лежит на революционных фильмах, воссоздающих атмосферу праздника. Праздник означал переход от старого распадающегося космоса к космосу новому, который участники праздника, ориентируясь на образы великих и обожествленных предков, должны будут возвести заново.

Отечественный экран возвращал ушедшие в прошлое символические формы выражения. Строительство завода, создание колхоза или основание нового города, как это происходит в фильме Александра Довженко «Аэроград» или в фильме Фридриха Эрмлера «Крестьяне», получали символическую интерпретацию. Они как раз и означали возведение нового космоса. Однако каждый раз это возведение оказывалось возможным в результате жертвоприношения. Поэтому праздничный оптимизм всегда имеет танатологическую основу. Жертвой в этих фильмах, как правило, является или человек, которому удается сплотить коллектив и выразить его порыв к новой жизни, или же человек, который обладает потенциалом вождя, но по какой-то причине, часто по причине происков врагов, не успевает этот потенциал реализовать. Тем не менее его смерть при сотворении нового космоса становится мощной мобилизующей силой.
Констатируя выброс архаики в сознании массы, в особенности в кризисной ситуации, Серж Московичи с помощью этого выброса архаики пытается объяснить известный лозунг «Сталин — это сегодняшний Ленин», во многом определивший психологию культа личности, как, собственно, и пафос некоторых фильмов этой эпохи. Ведь с помощью факта смерти Ленин был сакрализован, а следовательно, приобрел архаическую ауру первопредка, то есть стал совершенно религиозной фигурой. Представляя Сталина преемником Ленина, масса наделяла образ Сталина той сакральной аурой, что ассоциировалась с Лениным. Частью этой пропаганды был и кинематограф, в котором эта тема перенесения ауры мертвого вождя на вождя живого постоянно присутствовала. Но в наиболее яркой форме она была выражена в фильме Михаила Чиаурели «Клятва»[16].
Смерть Ленина массовым сознанием воспринималась в духе архаических и мифологических образцов. «Конечно, эти идеи чужды марксизму, — пишет Московичи. — Но они не чужды ни реальности, ни психологии толп. А те, в свою очередь, привели к тому, что после его смерти наследники объявили его имя священным, набальзамировали и выставили его тело перед Кремлем как святую реликвию и бессмертного бога. Известно, что его вдова и часть руководителей воспротивились этому шагу, имеющему отношение скорее к религии царей и фараонов, чем к науке Карла Маркса»[17].
В данном случае мумификация тела вождя утверждала веру массы в обязательное его воскрешение, что, конечно, формировало оптимизм массы и способствовало укреплению веры в возможность сотворения нового социального космоса. Этот комплекс сработал при создании образа его преемника Сталина, на которого была спроецирована аура умершего вождя. Сакрализация имела продолжение. Без нее трудно понять и культ вождя. Когда же умер Сталин, архаическая память массы вновь активизировалась. Чуда не произошло. «Культурный герой» оказался смертным. Эта смерть была воспринята массой как величайшее потрясение.
Архетип фармака
Наиболее яркий образ «культурного героя» в советском кино в его архаическом смысле продемонстрировал еще Александр Довженко в раннем фильме «Земля» (1930). Таким «культурным героем» здесь предстает тракторист Василь, которого убивают односельчане, противостоящие стремлению увлекаемых в будущее людей, одержимых идеей построения в деревне социализма. Значительную часть фильма занимал ритуал смерти и оплакивания героя. Такой траур Довженко представил в форме массовой праздничной акции. Следствием смерти героя, впервые продемонстрировавшего деревенским жителям трактор, на котором люди символически въезжают в новую жизнь, оказывается цветение земли, оживление земледельческого космоса. Так сюжет фильма получает космологическое звучание.

В еще большей степени эта активность мифа ощущается в замысле уничтоженного по приказу Сталина фильма Сергея Эйзенштейна «Бежин луг» (1935—1937), в котором действие также развертывается в деревне, преобразующейся под влиянием идеи социализма. Здесь эта идея отождествляется с подростком по имени Степок, который верит в новую жизнь и ради этого готов пожертвовать своими родителями, противостоящими стремлению людей построить новую жизнь. На этот раз Степка убивает сам отец-кулак. Конечно, по замыслу Эйзенштейна смерть Степка являлась условием возникновения нового космоса. Убиение ребенка было актом сакрализации всего рождающегося нового мира. Однако образ смерти ребенка оказывался амбивалентным. Может ли новая жизнь быть оправданной смертью ребенка? Сомнение в оправданности подобной смерти с огромной силой прозвучало в повести Андрея Платонова «Котлован» (1930). Однако ни фильм Эйзенштейна, ни повесть Платонова не стали фактом общественного сознания. Из художественной жизни общества они были изъяты.
Смерть героя оправдывалась победой идеи. Так гибнет Чапаев в фильме братьев Васильевых, так погибает Шахов в фильме Эрмлера «Великий гражданин» или Варвара Нечаева в его же фильме «Крестьяне». Одним из последних в этом ряду фильмов был фильм Юлия Райзмана «Коммунист» (1958), в котором рассказывалась история о рядовом человеке, работавшем в должности заведующего складом во время строительства Шатурской электростанции и погибшем от рук вредителей. Хотя герой был не столь заметным человеком, и Ленина-то он видел лишь один раз, наезжая в Москву за гвоздями (дань возникающей в советском кино новой волне, в центре которой оказывался простой человек), тем не менее возведение электростанции оказалось возможным в результате его энтузиазма и его героической смерти.
Распад образа «прирученной» смерти
Столь активная роль извлекаемого из коллективного бессознательного мифа в советском кино оказалась возможной именно в эпоху «восстания масс», когда не воплощенная длительное время в реальной истории архаическая интонация наконец-то могла проявиться с предельной активностью. Сегодня становится очевидным, что поколения ХХ века этот космос возводили, пытаясь преодолеть тот индивидуализм, который на Западе стал пугать со времен Артура Шопенгауэра, а в России стал предметом дискуссий в эпоху Серебряного века. Возведение социализма, если иметь в виду психологический, а не политический его аспект, во многом воспринималось бегством от этого индивидуализма. Однако возведение космоса новой империи на основе жесткого коллективизма имело драматические последствия для личности.
Естественно, что уже в эпоху оттепели началось обратное бегство, на этот раз от принесения жизни личности в жертву государству. Возникает новое отношение к личности, а следовательно, и к смерти. Смерть уже не воспринимается основанием для поддержания космоса, да собственно и самого космоса уже не существует. Он распался. В новой ситуации человек вновь оказывается предоставленным самому себе. Смена той системы общества, что определялась недовоплотившейся и в общем неудавшейся идеей социализма, другой системой, которая в мировой истории называется капитализмом, вновь спровоцировала ту атмосферу, которую Ницше называет ressentiment
Это реальность социальной аномии, распадающегося общества, общества, утрачивающего жизнеспособность. Следовательно, реальность раздоров, непонимания, конфликтов, зависти, мести и т. д. Пребывая в таком состоянии, человек везде и всюду пытается обнаружить врагов. «Представьте же теперь себе "врага", — пишет Ницше, — каким измышляет его ressentiment, — и именно к этому сведется его деяние, его творчество: он измышляет "злого врага", "злого" как раз в качестве основного понятия, исходя из которого и как послеобраз и антипод которого он выдумывает и "доброго" — самого себя»[18].
Американский социолог Роберт Мертон, анализируя ressentiment, приходит к заключению, что этот психологический комплекс содержит три взаимосвязанных элемента: 1. Смутное чувство ненависти, зависти и враждебности; 2. Ощущение собственного бессилия активно выразить эти чувства против лица или социального слоя, которые их возбуждают; 3. Постоянно возвращающееся переживание этой немощной враждебности[19]. В этой атмосфере всеобщей озлобленности создается благоприятная ситуация для поиска фармака, или «козла отпущения». «Всякое сообщество, охваченное насилием или каким-нибудь превосходящим его силы бедствием, — пишет Рене Жирар, — добровольно бросается в слепые поиски "козла отпущения". Это поиски быстрого и насильственного средства против невыносимого насилия. Людям хочется убедить себя в том, что за их беды отвечает кто-то один, от кого легко избавиться»[20].
Если же в самом обществе фармака не находится, то ressentiment изживается с помощью искусства и в еще большей степени того, что обычно называют «массовой культурой». Массовая культура осуществляет значимые компенсаторные и даже катартические функции. Когда жертва находится, то взаимное насилие смягчается. Сотворение нового космоса и установление социального порядка оказывается возможным.
Некоторые современные фильмы, в том числе и отечественные, являются пусть и весьма далекими, смутными, но все же воспоминаниями о механизме воздействия античной трагедии, в центре которой всегда находился герой-жертва, герой, который по велению судьбы попадает в драматические обстоятельства и невольно становится носителем вины, что и становится причиной его неизбежной смерти. К таким фильмам можно отнести, например, фильм Антона Розенберга «Скольжение» (2013). Речь идет о деятельности группы «оборотней» в погонах — оперативных сотрудников Госнаркоконтроля, занимающейся незаконным сбытом наркотиков. Членом этой группы является и герой по имени Пепл. О деятельности преступной группы узнают государственные органы. Есть основание подозревать одного из членов преступной группы в предательстве. Пепл совершает роковую с точки зрения преступного сообщества ошибку — жалеет женщину, которую пытает, добиваясь необходимых сведений, и должен убить. В последний момент женщина признается, что она беременна. Пепл щадит несчастную. Но, пощадив жертву, он сам становится жертвой. Его подозревают в том, что именно он и есть предатель. За Пеплом начинается погоня других представителей банды. В конце концов зритель оказывается способным сочувствовать Пеплу, поскольку в этой мясорубке он перед смертью, предчувствуя ее приближение, рождается заново, уже как человек, как нравственная личность. Напрягая последние силы, будучи уже раненым, он пытается спасти свою жену и ребенка, которые тоже оказываются втянутыми в эту кровавую бойню. Родившись заново уже как человек, преступник провоцирует к себе как жертве сочувствие. Но смерть все же героя настигает. Очевидно, что в эпоху наступившей новой смуты переосмысливается и идея смерти, связываемая уже не с государственной и общественной, а с частной жизнью человека. Какие ценности отстаивает герой фильма Розенберга? Он озабочен лишь одним — выживанием своей семьи. И потому выбирает путь преступности.
Смерть между природой и культурой
В последних десятилетиях ХХ века русский человек оказывается в ситуации, которую еще в XIX веке Эмиль Дюркгейм назвал «социальной аномией». Нестабильность и распад обществ как проявление социальной аномии подталкивает человека к лишению жизни. Его агрессия проецируется на других или на себя.
Глубокий исследователь проблематики смерти Константин Исупов пишет: «Музыкой смерти переполнен космос нашей культуры»[21]. По сути же культура противостоит смерти. Должна противостоять. В противном случае зачем нужна культура? Культура противостоит смерти именно потому, что смерть прежде всего соотносится не с культурой, а с природой. Автор фундаментальной монографии о смерти Филипп Арьес справедливо писал, что природное начало связано со стихией насилия и разрушения, что предстает, с одной стороны, в смерти, а с другой — в сексе.
Что касается смерти, то ее как разрушительную стихию позволила обуздать и приручить именно культура. «В течение тысячелетий человек, — пишет Арьес, — защищаясь от природы, упорно, с помощью морали и религии, права и технологии, социальных институтов и коллективной дисциплины, возводил свой неприступный бастион. Но это укрепление, воздвигнутое против природы, имело два слабых места: любовь и смерть, через которые всегда понемногу просачивалось дикое насилие. Человеческое общество прилагало большие усилия, чтобы укрепить эти слабые места в своей системе обороны. Оно сделало все, что могло, дабы смягчить неистовство любви и агрессивности смерти. Оно обуздало сексуальность запретами, варьирующимися от общества к обществу, но всегда имеющими целью умерить ее применение и уменьшить ее власть. Оно также лишило смерть ее брутальности, ее неуместности, смягчив ее индивидуальный характер ради поддержания непрерывности человеческой общности, ритуализовав смерть, сведя ее к одному из многих переходных моментов в человеческой жизни, разве что несколько более драматичных»[22].
Чтобы смягчить бремя получающей выражение в смерти и сексе природной стихии, человечество не раз прибегало к такому мощному средству культуры, как праздник, во время которого периодически открывались шлюзы и впускались хаос, разрушение и насилие. Праздник всегда означает возврат к началу времен. Будучи следствием мифологического мышления, праздник отрицает историю, упраздняет историческое время. Во время праздника правила утрачивают силу. Праздник означает распущенность и сладострастие. Символом хаоса является, например, обмен одеждой между мужчинами и женщинами. Читая «Золотую ветвь» Фрезера, Эйзенштейн проявил интерес к переодеванию мужчин в женщин и наоборот в свадебных обрядах некоторых народов и провел параллель между этими обрядами и массовыми переряживаниями мужчин и женщин в сатурналиях[23]. Этим праздничным архетипом он воспользуется в одном из эпизодов в своем фильме «Иван Грозный». Собственно, смысл праздника заключался в ритуале жертвоприношения, то есть убиения «козла отпущения».
В роли «козла отпущения» представали разные персонажи — от мифологических героев, например Прометея, до богов, каким был Дионис. Более того, этот мотив убиения становится очень важным в истории Христа. Обратим внимание на фильм «Иуда» режиссера Андрея Богатырева, поставленный по повести Леонида Андреева «Иуда Искариот» (2013). Этот фильм, как, собственно, и повесть Андреева, получился совсем не о жизни Христа. Христос в фильме — совершенно пассивное лицо. Во многих эпизодах он предстает почти что статистом, второстепенной фигурой. На первом месте оказывается драма Иуды, решающего принести себя в жертву ради того, чтобы бродячего проповедника Иисуса превратить в сакральную фигуру, в бога, а его идеи — в мировую религию.
Но как это сделать, чтобы история бродячего пророка, каких в Иудее могло быть много, превратилась в историю бога, ставшую универсальным мифом? Это возможно лишь в том случае, если придерживаться того же принципа, который в древности уже был открыт, то есть с помощью убийства пророка, а следовательно, посредством предательства Иуды. Иуда, чтобы осуществить свой замысел, должен принести себя в жертву, вынести все те унижения, которые неизбежно последуют в результате его предательства. Свою судьбу и ее печальный финал он просчитывает. Он знает, что у него будет своя собственная «Голгофа». И дело тут совсем не в тридцати сребрениках, которые Иуде не нужны. Без Голгофы не было бы того мифологического Христа, которого будут знать в веках. Сакральная аура Христа возникла в результате предания его смерти. А к смерти Христа подводит именно Иуда. Христа казнят, но вслед за тем казнит себя и Иуда. Иуда становится творцом мифа, режиссером сакральной драмы.
Так проигрывается древнейший ритуал жертвоприношения. Если смерть есть производное от природы, то культура как надприродное явление призвана противостоять смерти. Ведь смерть есть природная стихия. Она безлична, и потому к конкретному человеку с его переживаниями, чувствами, привязанностями и судьбой она безразлична. Смерть — это что-то вроде стихийного бедствия, катастрофы, вроде землетрясения или цунами. Ее невозможно остановить, и от усилий человека она не зависит. Потому она и вызывает страх, что с ней бесполезно и бессмысленно бороться, ей противостоять. Но тем не менее страх можно смягчать с помощью иллюзии, чем занимаются религия и культура.
Образ спрятанной смерти
На том этапе истории, когда индивид не успел выделиться из коллектива, смерть оказывалась менее страшной. Разрыв связи с сообществом, что и является социальной аномией, в любых его формах (и такой период сегодня переживает Россия) приводит к обостренному переживанию смерти. «Тот же, кто чувствует себя включенным во всеохватную связь со своим народом, — пишет Отто Больнов, — обрел бы за счет этого защищенность в проносящемся через и вне его жизненном потоке. Лишь в случае потери отдельным личным бытием этой связи с сообществом прекращение последней оказалось бы тем ужасным событием, каким оно предстает в экзистенциальной философии»[24]. Однако чем сильнее внимание к смерти, тем энергичнее становится поиск средств противостояния страху смерти, его преодолению.
Об этом свидетельствует уходящая в глубокую древность карнавально-праздничная культура. В начале 1930-х годов Эйзенштейн снимал в Мексике фильм «Да здравствует Мексика!». Любопытно понять, с чего начинался этот замысел. Эйзенштейн вспоминает: «Помню в руках какой-то немецкий журнал. В нем — поразившие меня кости и скелеты. Скелет человека сидит верхом на скелете лошади. На нем — широкое сомбреро. Поперек плеча пулеметная лента. Другие два скелета — мужчина, судя по шляпе и приделанным усам, и женщина, судя по юбке и высокому гребню, стоят в характерной позе танца»[25]. Эти фотографии запечатлели праздник под названием «День мертвых». Эйзенштейн пришел к мысли, что жестокий юмор мексиканца нигде не проявляется столь ярко, как в его отношении к смерти: «Мексиканец презирает смерть. Как всякий героический народ, мексиканцы презирают и ее, и тех, кто ее не презирает. Но им этого мало: мексиканец над смертью еще и смеется. "День смерти" — 2 ноября — день безудержного разгула насмешки над смертью и костлявой ее эмблемой с косой»[26].
Традиция мексиканцев, получившая выражение в карнавалах, может служить превосходной иллюстрацией того образа «прирученной» смерти, которая всегда рядом, но которая не вызывает ужаса, что характерно для архаических и традиционных культур. Но столь мощная карнавально-праздничная культура к сегодняшнему дню почти утрачена. Поэтому эту функцию преодоления страха смерти берет на себя искусство. Однако чтобы преуспеть в таком отношении к смерти, которое характерно для праздничной культуры, художнику прежде всего нужно пережить испуг, страх перед смертью. В качестве иллюстрации этого нашего тезиса можно было бы сослаться на значимость смерти в творчестве Льва Толстого. Пример с Толстым примечателен еще и тем, что в его случае получило выражение влечение не только к Эросу, но и к Танатосу, о чем свидетельствует посетившее его в юности желание лишить себя жизни, иллюстрирующее идею Фрейда о регрессивном влечении человека к Танатосу.
Именно этот ужас перед исчезновением пережил Толстой. Дмитрий Мережковский фиксирует последующий переворот в сознании писателя, который произошел в 1880-х годах, когда началась полная переоценка ценностей: «Душу целого поколения заразил он своим ужасом. Если в наше время люди боятся смерти с такой постыдной судорогой, какой еще никогда не бывало, если у всех нас, в глубине сердца, в крови и в плоти есть эта "холодная дрожь", до мозга костей пробирающий озноб, о котором Данте говорит по поводу грешников, замерзших в адском озере: "тогда прошел по мне озноб, он и теперь по мне, как вспомню их, проходит", то в значительной мере мы этим всем обязаны Л. Толстому»[27].
Стоит ли удивляться, что в ситуации надлома большевистской империи в последних десятилетиях ХХ века угасает и тот воссоздаваемый кинематографом образ смерти, который Арьес называет «прирученной смертью», хотя, повторяем, мы это выражение употребляем не в том смысле, в каком его употребил Арьес. Под «прирученной» смертью мы имеем в виду тот вариант отношения к смерти, что был вызван к жизни в тоталитарном государстве.
Смерть органично вошла в миф, содержанием которого явилось сотворение нового социального космоса, в жертву которому приносилась жизнь человека. Оборотной стороной угасания такого отношения к смерти как «прирученной» явилось сформулированное в экзистенциализме понимание смерти как всепроникающего начала. Пожалуй, это новое отношение к смерти в новое время начинается в том числе с экранизации повести Толстого «Смерть Ивана Ильича» режиссером Александром Кайдановским. Фильм назывался «Простая смерть» (1985). Распад советской империи с ее мифом бессмертия вновь возвращает человека к частной жизни. Образ смерти освобождается от коллективного смысла. Человек остается один на один со смертью, заново открывая трагизм ухода из жизни.
Хотя фильм Кайдановского не стал известным, тем не менее он ознаменовал новый подход к теме смерти, когда она вытесняется из коллективного сознания. Во многом такому изгнанию смерти из жизни, что в реальности предстает в так называемой медикализации смерти, когда ею занимаются уже не члены общины, как это было раньше, и даже не члены семьи, а врачи и сотрудники фирмы похоронных услуг, способствует утверждение общества потребления. Характеризуя этот поздний период в истории отношения человека со смертью, Арон Гуревич пишет: «Похороны становятся проще и короче, кремация сделалась нормой, а триумф и оплакивания покойника воспринимаются как своего рода душевное заболевание. Американскому девизу "стремления к счастью" смерть угрожает как несчастье и препятствие, и потому она не только удалена от взоров общества, но ее скрывают и от самого умирающего, дабы не делать его несчастным»[28].
Установки общества потребления исключают всякую мысль о смерти. Реклама использует любую возможность, чтобы утвердить иллюзию рая. При этом забывается, что в архаических культурах рай нередко представал островом усопших. Так не означает ли это, что этот цветущий, шумный и, как кажется, здоровый и жизнеспособный мир уже давно успел стать мертвым? Реклама лишь подрумянивает и подкрашивает труп, как это делают сотрудники похоронной фирмы в романе Ивлина Во, чтобы вытеснить осознание происходящего в реальности. Именно к таким обобщениям, то есть к пониманию современной культуры как исчезновения традиционного отношения к смерти, приходят и постмодернисты. Смерть вытесняется из современного культурного пространства. Она больше не существует. Она спрятана. Жан Бодрийяр пишет: «От первобытных обществ к обществам современным идет необратимая эволюция: мало-помалу мертвые перестают существовать. Они выводятся за рамки символического оборота группы. Они больше не являются полноценными существами, достойными партнерами обмена, и им все яснее на это указывают, выселяя все дальше и дальше от группы живых — из домашней интимности на кладбище (этот первый сборный пункт, первоначально еще расположенный в центре деревни или города, образует затем первое гетто и прообраз всех будущих гетто), затем все дальше от центра на периферию, и в конечном счете — в никуда, как в новых городах или современных столицах, где для мертвых уже не предусмотрено ничего, ни в физическом, ни в психическом пространстве»[29].
Но чем очевиднее исчезновение смерти из жизни современного человека, когда кажется, что она больше уже не существует, тем яснее, что смертью становится все. Раз нет больше кладбища, значит, его функцию выполняют все современные города в целом — это «мертвые города и города смерти»[30]. Именно так города предстают, например, в фильмах Микеланджело Антониони, в которых часто появляется мотив смерти, и появляется он только затем, чтобы продемонстрировать, что в современных городах смерть никто не замечает. Но, собственно, и город у Антониони предстает как одно сплошное кладбище.
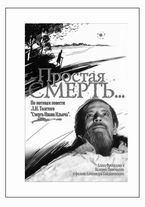
Так, в фильме Антониони «Ночь» история, связанная с героями, имеет символическое обрамление в виде смерти друга Джованни и Лидии — Томмазо. Фильм начинается с посещения клиники. У Томмазо рак, и он скоро умрет. Герои знают об этом и всячески стараются его уверить, что он выздоровеет. В палату приносят шампанское. Однако Томмазо становится плохо. Действие наркотика закончилось. Лидия не выдерживает и, чтобы скрыть слезы, покидает палату. Позднее, в тот же день, во время вечеринки она позвонит в клинику, и ей сообщат о смерти Томмазо. Этот эпизод — просто иллюстрация к заключению Бодрийяра. «Не стало больше торжественной смерти в семейном кругу, теперь люди умирают в больницах — смерть сделалась экстерриториальной. Умирающий теряет свои права, включая право знать, что он умирает. Смерть непристойна и неудобна; таким же становится и траур — считается хорошим тоном его скрывать, ведь это может оскорбить других людей в их ублаготворенности»[31].
Тема смерти сопровождает все, что в этот день случится с героями. Смерть придаст всему происходящему специфический подтекст. Ведь, собственно, все, что переживают и ощущают герои, тоже что-то вроде смерти. Это тоже смерть, смерть чувств. Таков диагноз Антониони живым героям. Но без чувств люди мертвы. Собственно, эта метафора смерти как ночи пронизывает не только смысл отношений между героями, но и все их мировосприятие. Это какая-то тотальная смерть, охватившая весь мир, всю цивилизацию. Поэтому оператор снимает город тоже мертвым, безлюдным. Изящные, новые, чистые здания напоминают надгробные памятники, а состоящий из этих домов город воспринимается кладбищем. Таково мировосприятие автора, таков мир изображаемых им героев, таков вообще весь мир.
Однако выясняется, что дело не только в том, что современные города с их многоквартирными домами слишком напоминают кладбища. Проблема заключается в том, что призванная уберечь человечество от разрушения, а человека — от превращения его в варвара и дикаря, современная цивилизация в реальности оказывается выражением духа смерти, воспроизводит идею смерти. Так от города, воплощающего идею смерти, Бодрийяр логично приходит к заключительному универсальному выводу: «А поскольку операциональный столичный город является и завершенной формой культуры в целом, то значит, и вся наша культура является просто культурой смерти»[32].
В этом смысле фильм Кайдановского весьма показателен. Он извлекает из глубин бессознательного ощущение того трагизма жизни, который был приглушен советским классицизмом, но не перестал существовать. Фильм приковывает человека к острому переживанию смерти, сопутствующему открытию того, что мир, в котором человек существует, и жизнь, которую он ведет, является, как утверждают экзистенциалисты, неподлинными. Именно смерть обостряет осознание человеком каждого мгновения как значимого. Эта значимость получает выражение в тех словах, которые в детстве Ивану Ильичу сказала старая няня, изображая движение часового маятника: «Кто ты — что ты? Кто ты — что ты?».
Эту деталь следует оценить как замечательную режиссерскую находку, выражающую смысл не только повести Толстого и фильма Кайдановского, но и жизни, открывающейся под воздействием переживания смерти.
Смерть как пограничная ситуация, провоцирующая человека на обостренное восприятие жизни, которое способно привести к осознанию того, что он ранее не осознавал, — этот экзистенциалистский мотив характерен не только для Кайдановского, вернувшегося к показательному для всей русской литературы мотиву — кардинальной переоценке жизни под воздействием смерти. В еще большей степени этот мотив присущ Сергею Соловьеву, режиссеру, который, быть может, в отечественном кино оказался ближе всего к поэтике постмодерна. Но эта близость к постмодерну к нему придет позднее. Что же касается одного из ранних фильмов режиссера — «Егор Булычов и другие» (1971), то именно в нем, на материале одноименной пьесы Горького, режиссер обращается к мотиву смерти.

Как и государственный чиновник Иван Ильич Головин у Толстого, костромской купец Егор Булычов знает, что он скоро умрет. Врачи ставят диагноз: рак. Этот умный мужественный человек, сумевший успешно организовать и наладить в период бурного развития капитализма в России начала ХХ века свое дело, догадываясь, что дни его сочтены, переоценивает свое отношение к жизни, отдавая отчет в тех связях с членами своей семьи, которые бесспорно не являются ни высоконравственными, ни истинными. У него появляются претензии к священнику, к церкви и, наконец, к Богу, которому, как он убежден, нет до него, Егора Булычова, никакого дела. Так почему он должен его почитать? Он знает цену игуменье Мелании, сестре его жены, которая молится не столько Богу, сколько мамоне. Он отдает себе отчет в том, сколь непрочна его связь с женой, признавшей, что ошиблась в своей жизни, выйдя замуж за Булычова, и т. д.
Фильм Соловьева интересен не столько даже характером и судьбой героя, его бескомпромиссностью, трезвым, иногда даже циничным взглядом на многое в этой жизни, погружением в метания героя — от мужественного приятия смерти до истерических припадков, вроде того, что случился во время прихода трубача, вызвавшегося излечить героя с помощью музыкальных звуков, или посещения юродивого, — сколько активностью социального фона. Не случайно каждой части фильма, а фильм разделен на несколько частей, каждая из которых имеет название, предшествует хроника тех событий, что развертываются в России между двумя революциями.
Но дело не в хронике, а в архетипическом восприятии истории, предстающей на экране в формах архаического праздника. Как это и предполагает праздник, центральным событием в нем является смерть центральной фигуры, которая до сих пор обеспечивала космический порядок. В фильме Соловьева это царь. Хотя смерть царя пока не наступает, но о том, что революция вот-вот начнется и она неминуема, в семье Булычовых знают все. А революция означает не только упразднение царя, но и отмену всяческих табу, как это предполагает праздник. Стихия ressentiment вырывается из подсознания и выражает себя в реальных действиях. Не случайно побочная дочь Булычова Александра провоцирует своим поведением всеобщее неодобрение. Именно она, являясь не самым отрицательным персонажем и пьесы, и фильма, выбалтывает, однако, смысл того, во власти чего она находится, а именно ressentiment. «Мне — развращать хочется, мстить». Когда Тятин ее спрашивает: «Кому? За что?», она отвечает: «За то, что я — рыжая, за то, что отец болен… за все! Вот когда начнется революция, я развернусь! Увидишь»[33]. Возможно, из Александры получится узнаваемый по революционным фильмам комиссар в кожанке с маузером. Среди таких комиссаров были и женщины. Чувство мести присуще далеко не только Александре.
Роберт Мертон утверждает, что ressentiment не предполагает изменения в ценностях, не имеет отношения к мятежу и кажется нейтральным по отношению к революционным настроениям, связанным с ниспровержением социального порядка. Однако он все же вынужден признать возможность перетекания этого психологического комплекса в революционное настроение: «несмотря на различие этих двух явлений, организованный мятеж может находить опору в огромном резервуаре обиды и недовольства, когда до предела обостряются институциональные деформации»[34]. Таким образом, рождаясь и укрепляясь в семье, жажда мести затем распространяется в разных социальных слоях, становясь массовой, что и приводит к эксцессу, к революционным вспышкам, к ниспровержению власти. Царь еще не устранен, но все движется к его устранению, а затем, как нам позднее станет известно, к убийству.
Время действия в фильме — время разгула, развертывающегося по логике праздничного разгула. Приближающаяся смерть царя в архаических праздниках как раз и означала начало ритуальной вседозволенности. Не случайно в фильме Соловьева говорят о неслыханном разврате, который пошел по деревням. Так в архаических культурах «толпа, узнав о смерти царя, совершает все то, что в обычное время рассматривается как преступление, — жжет дома, грабит и убивает. А женщин заставляет публично отдаваться всем подряд»[35]. Собственно, именно это характерное для праздника распространение вседозволенности становится фоном фильма Соловьева.
Однако в фильме есть и еще один мотив хаоса как части праздничного ритуала. Роже Кайюа доказывает, что в современную эпоху праздничная культура выродилась. Функции этого социального института осуществляют войны с их массовым жертвоприношением и вакханалией смерти. Кайюа признает парадоксальность такой постановки вопроса. «Конечно, война, — пишет он, — это ужас и катастрофа. А праздник — выплескивающаяся через край радость, это буйный разлив жизни, тогда как война — прилив смерти»[36]. Тем не менее война приближает самоощущение человека к празднику потому, что она предельно социализирует, лишая человека ценностей частной жизни. Она лишает человека имущества, требует полной отдачи сил, даже крови и жизни. Униформа упраздняет отличие от других. Она ввергает человека в водоворот массового исступления. Именно это максимальное коллективное возбуждение сближает войну как выражение единого духа массы с тем, чем был праздник в древних культурах.
Наблюдая на железнодорожном вокзале состав с ранеными на войне, Егор Булычов недовольно замечает попу Павлину: «Народу перепортили бездну». Булычов винит в этом массовом жертвоприношении власть, царя, на что Павлин реагирует, осуждая его за ропот. Да, это ропот, это неприятие существующего, это, если хотите, бунт в том смысле, в каком это понятие употребляет Камю. По сути фильм получился совсем не только о личной драме купца Егора Булычова, ощущающего приближение смерти, а о той агонии, в которой оказалась старая Российская империя. И как смысла праздника в древних культурах без смерти не существует, так и смысла той жизни, которую наблюдает Егор Булычов, без смерти тоже нет. Повсеместно распространяется хаос как необходимый момент праздника, предшествующий сотворению нового космоса. Только вот у героя нет уверенности в том, что новый и справедливый космос будет сотворен. Наблюдая, как работают на его заводе кузнецы, он говорит попу Павлину: пожалуй, не получится ничего у пролетариев — все пропьют.

Мысль Бодрийяра о городах, воплощающих идею смерти, и о культуре, становящейся культурой смерти, в наиболее яркой форме получила выражение в фильме Александра Сокурова «Круг второй» (1990). Фильм поражает ситуацией именно спрятанной смерти, и в этом смысле для понимания смерти в современном кино он является ключевым. В каком-то неизвестном, засыпанном снегом поселке, а может быть, и городе, который иногда возникает в качестве безлюдного, а потому и кажущегося мертвым фона, умирает человек. Судя по некоторым скудным попадающим в кадр деталям (например, по портсигару с изображением памятника воину), умерший — участник войны. Однако проводить умершего человека, бывшего солдата, в последний путь никто не приходит. Город фиксируется в фильме остановившимся общим планом. В нем нет людей.
Хоронить человека приезжает лишь молодой человек. Он — сын, просто сын, без имени, а умерший — его отец. Но имени сына, как и имени его отца, мы не узнаем. Все безлично. Общество к смерти этого человека не имеет никакого отношения. Древняя традиция восприятия смерти как угрозы сообществу больше не существует. Сын живет в другом городе. Очевидно, что отец и сын не общались, видимо, давно находятся в ссоре. В этой бедной, нищей квартире отца молодой человек растерян. Рядом никого нет, чтобы его поддержать. Смерть стала еще более пугающей. Она потеряла всякий коллективный, а следовательно, и ритуальный смысл.
Смерть больше не приручают. Просто не знают, куда ее деть. С некоторых пор ею занимаются лишь врачи, которые выдают свидетельство о смерти, и служители похоронного бюро. Вот одна из таких служительниц ведет себя грубо, вульгарно, цинично, не щадя растерявшегося и остро переживающего ситуацию молодого человека. С садистской активностью она диктует юноше, как ему следует действовать. Для нее умерший ничего не значит. Что касается сына умершего, то он значит и того меньше. И долго, долго эта посланница смерти вместе с молодым человеком будут вытаскивать гроб из квартиры, проносить его по узкому коридору, испытывая неудобства.
В фильме есть эпизод, выворачивающий наизнанку предыдущие танатологические представления. Герой едет в автобусе в поликлинику, чтобы забрать свидетельство о смерти отца. Автобус до отказа набит людьми, которые наступают друг на друга, давят друг друга и, как можно предположить, ненавидят друг друга, но вынуждены все же находиться вместе. По сути дела, это метафора ада. Отсюда и название фильма. Ад находится не в потустороннем мире, как это представляли раньше. Он здесь, на этой земле, в этом городе. Эти люди уже мертвы при жизни. Мертвы люди, мертв город, мертв мир. Если осмыслить эту метафору, то становится понятным и смысл финального титра: «Счастливы наши близкие, умершие раньше нас»[37]. Герои здесь анонимны, у них нет имен. Их связи с другими перестали существовать. Сакральное значение смерти отменяется. Но не существует и самой смерти. Она спрятана. Но если нет смерти, то не существует и жизни. И потому город предстает безжизненным пространством, лишенным человеческих существ.
Жажда сакрализации как оздоровления культуры
В фильме Сокурова смерть начисто лишена того социального смысла, который сопровождал ее на протяжении длительной истории. Россия снова возвращается к исходной точке — к хаосу, который она переживала в начале ХХ века. Однако это положение ставит огромную страну в ситуацию надлома и исчезновения и потому не может продолжаться долго. В искусстве развертывается поиск тех сакральных скреп, без которых никакое общество существовать не способно.

В этом смысле интерес представляет творчество режиссера нового поколения — Андрея Звягинцева, который пытается понять последствия угасания сакрального в семье, а следовательно, и причины ее кризиса и распада в современной России, в фильмах «Возвращение» (2003), «Изгнание» (2007), «Елена» (2011). Чтобы обнаружить стихию сакрального, без которой не могут существовать ни семья, ни общество, режиссер, по сути дела, приблизился к пониманию генезиса религии. В фильме Звягинцева «Возвращение» мотив смерти также выходит на первый план. Но совсем не в том смысле, в каком это происходит в фильме Сокурова. Выясняется, что без смерти сакрального не существует вообще. Чтобы возникло сакральное существо, человека следует подвергнуть насилию. Только убийство делает жертву сакральной[38].
Фильм Звягинцева «Возвращение» предстает аналитическим этюдом об одном из признаков культуры, функционирующей под знаком смерти. Смерть эта проявляется в самой повседневной жизни семьи, в которой по каким-то причинам отсутствует отец. Отсутствие отца здесь не является лишь сюжетной деталью. Драму современной семьи режиссер усматривает как производное от культуры смерти. Ведь подлинным духовным ядром семьи являются ее сакральные признаки. В предшествующих культурах, которые мы называем традиционными, устойчивость и стабильность семьи поддерживалась именно этим присутствием сакрального. Но основанием этого сакрального в семье является образ отца. Впервые этот мотив появляется в фильме Тарковского «Зеркало». Звягинцев подхватывает этот мотив. Сакральной аурой наделяется в фильме Тарковского образ отсутствующего отца. Изъятие отца из семьи, его отсутствие означает утрату сакрального. Без этой сакральной ауры семьи не существует. В границах семьи торжествует социальная аномия. То же, что мы в реальности наблюдаем, есть выражение культуры смерти.
Но фильм вовсе не сводится к данной констатации. Представим себе, как предлагает зрителю режиссер, что отец возвращается. Возвращение отца означает и реабилитацию сакрального в жизни семьи. Но этим мотивом смысл фильма Звягинцева тоже не исчерпывается. Режиссер пытается показать, что фигура отца может объяснить не только духовную сущность семьи, но и религию. Ведь почитание отца и предка со временем трансформировалось в культ божества. На первый взгляд, кажется, что в фильме воспроизводится история, которую хочется назвать вполне традиционно, то есть семейной историей. Семья состоит из матери, двух подростков и вернувшегося после длительного отсутствия отца. Это его отсутствие длилось так долго, что сыновья, увидев отца, теряются. Они его совсем не помнят. Он кажется им чужим, а значит, ненужным и бесполезным.
В еще большей степени сыновья начинают ощущать чуждость отца, когда он начинает их воспитывать, внедряя в семейные отношения традиционные представления о семье, в которой отец повелевает, а сыновья неукоснительно выполняют его требования. Хотя мать в фильме предстает в пассивной роли, очевидно, что тот смысл, который Фрейд вкладывает в понятие эдипова комплекса, здесь реализуется чрезвычайно заметно. Сыновья, существующие в распавшейся семье, в которой роль воспитателя берет на себя женщина, воспринимают отца амбивалентно. Они вроде бы готовы его уважать и быть послушными. С другой стороны, он проявляет по отношению к ним излишнюю требовательность, даже жестокость и, естественно, тем самым провоцирует сыновей на злобу, ненависть, желание его смерти, то есть ressentiment.
Отец, имея намерение приблизить к себе сыновей и утвердить семейные ценности, объявляет, что берет их на рыбалку. Там, на берегу озера, продолжает разыгрываться драма любви и ненависти сыновей по отношению к отцу. После очередной размолвки, в порыве гнева один из подростков покидает палатку, в которой сыновья разместились вместе с отцом, и убегает лес, где находится вышка. В порыве крайнего волнения подросток взбирается на вышку, рискуя с нее упасть и расшибиться. Здесь режиссером любопытно используется прием повтора. В начале фильма подросток взбирается на вышку, что стоит на берегу реки, чтобы спрыгнуть с нее в воду, как это проделали все его сверстники, но у него не хватает смелости. Он трусит. Подростку пришлось пережить презрение к себе со стороны других мальчишек. Он продолжал оставаться на вышке, пока не пришла мать и не помогла ему спуститься. На этот раз лишь ссора с отцом и крайнее эмоциональное напряжение позволили подростку справиться с трусостью и ощутить себя полноценным и мужественным человеком. Этот эпизод преодоления подростком себя, а значит, взросления, приобретения необходимых для взрослой жизни мужчины качеств, воспринимается тем, что в архаических обществах называли инициацией. Иначе говоря, он имеет ритуальный смысл. Возрождение семьи может происходить только в ритуальных, а следовательно, сакральных формах.
Однако пересказывая сюжет, мы не передали еще главного смысла этой ритуальной акции. А смысл этот заключается в жертвоприношении. В фильме жертвой оказывается не сын, а отец. Чтобы утвердить мир и солидарность в семье, а значит, и вообще в космосе, необходима жертва. Без действия, которое вместе с жертвоприношением становится сакральным действием, никакого порядка в космосе, в том числе семейном, быть не может. Мир и согласие, а значит, и торжество традиционных ценностей жизни возможны лишь благодаря смерти, причем смерти не рядовой фигуры, а той, что является смысловым центром. Таким центром и становится отец. В акте жертвоприношения отец из простого смертного превращается в бога. Отныне сыновья забудут ressentiment и будут поклоняться отцу. На уровне сюжета отец, догадавшись, что сын может упасть с вышки и погибнуть, спешит ему на помощь. Он пытается взобраться на вышку, чтобы помочь сыну, но гнилые доски не выдерживают тяжести и обрушиваются, а вместе с ними падает на землю мертвым и отец.
Собственно, смерть отца и является смысловым центром фильма. Лишь пережив смерть отца, подростки освобождаются от ненависти к нему. У них возникает чувство вины, что имеет значимые последствия. Так возникают сакральные ценности, способствующие сплочению семьи, преодолению ее кризиса. Именно это чувство вины, во-первых, сплачивает подростков, а во-вторых, в их сознании возникает особое по отношению к отцу чувство. Они его обожествляют. Образ отца трансформируется в образ бога. Без преступления, которое, правда, оказывается невольным, такой сакрализации отца произойти не могло. Это амбивалентное чувство по отношению к отцу, возникшее когда-то на заре истории, в доистории было реальным в границах орды или племени. Только там роль отца как жертвы играл вождь.
По сути фильм Звягинцева приоткрыл дверь в архаику, в коллективное бессознательное. Однако его ни в коем случае нельзя понимать как упражнение на тему известной работы Фрейда. Режиссер вообще мог не знать сочинения «Тотем и табу». Ведь он ставил фильм об атмосфере современной семьи, в которой отец или перестает играть традиционную роль, или вообще отсутствует. А сыновья оказываются предоставленными самим себе. Однако фильм оказался столь глубоким, что по сути дела он воспринимается философским размышлением о генезисе религии. Не случайно один из кадров фильма, изображающий спящего отца, у Звягинцева напоминает фигуру распятого Христа с картины Мантеньи из миланского музея Брера.
Фильм Звягинцева «Возвращение» свидетельствует о жажде сакрализации, без которой какие бы политические модели власти ни реализовывались, устранить социальную аномию не представляется возможным. Но если сакральная стихия по-прежнему является основой стабильности космоса в любом его проявлении, значит, обращение к образу смерти в искусстве, и в кино в частности, продолжает быть актуальным.

[1] Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. С. 111.
[2] Там же. С. 262.
[3] Арьес Ф. Указ. соч. С. 49.
[4] Толстой Л. Собрание сочинений в 20 т. Т. 12. М., 1964. С. 113.
[5] Горький М. Собрание сочинений в 8 т. Т. 8. М., 1990. С. 510.
[6] Чехов А. Собрание сочинений в 12 т. Т. 6. М., 1962. С. 303.
[7] Арьес Ф. Указ. соч. С. 42.
[8] Гуревич А. Смерть как проблема исторической антропологии. В кн.: Гуревич А. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993.
[9] Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме). СПб., 2000. С. 24.
[10] Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М., 1996. С. 354.
[11] Там же. С. 354.
[12] Московичи С. Указ. соч. С. 26.
[13] Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 240.
[14] Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 58.
[15] Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000. С. 148.
[16] Хренов Н. Кино: реабилитация архетипической реальности. М., 2006. С. 344.
[17] Московичи С. Указ. соч. С. 415.
[18] Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 427.
[19] Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006. С. 276.
[20] Жирар Р. Указ. соч. С. 102.
[21] Исупов К. Русская философская танатология // Вопросы философии. 1994. № 3. С. 112.
[22] Арьес Ф. Указ. соч. С. 330.
[23] Эйзенштейн С. Мемуары. Т. 2. М., 1997. С. 146.
[24] Больное О. Философия экзистенциализма. СПб., 1999. С. 107.
[25] Эйзенштейн С. Мемуары. Т. 1. М., 1997. С. 323.
[26] Там же. С. 331.
[27] Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 23.
[28] Гуревич А. Смерть как проблема исторической антропологии. С. 239.
[29] Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 233.
[30] Там же. С. 234.
[31] Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 318.
[32] Там же. С. 234.
[33] Горький М. Собрание сочинений в 8 т. Т. 8. М., 1990. С. 496.
[34] Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. С. 276.
[35] Кайюа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 2003. С. 234
[36] Там же. С. 278.
[37] Сокуров А. Части речи. 2006. С. 155.
[38] Топоров В. О ритуале. Введение в проблематику. В кн.: Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 38.