Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 2, 2013
…Забыв страх Божий и государев указ, пытал у себя в доме… в ночи всякими жестокими пытками…
Исковая челобитная, 1703 год
Ходят воры и разбойники великим собранием и многие села и деревни разбили и пожгли.
Доношение в Сенат, 1711 год
На всем протяжении истории Российского государства не было периода, когда русский человек мог бы ощущать себя в полной безопасности. Из века в век повседневная явь таила для личной неприкосновенности россиянина немало угроз. Разумеется, по мере развития правовой системы, государственного и социального устройства как набор самих угроз, так и степень опасности каждой из них многократно варьировались. Иными словами, в 2013 году житель нашей страны находится в перекрестье не совсем тех же угроз, в каких находился его предок в 1713 году. Вместе с тем вполне очевидно, что применительно ко всем временам угрозы для безопасности личности в нашей стране могут быть сведены к трем разновидностям: угрозы, исходящие от криминального мира; угрозы, исходящие от особо влиятельных в социуме лиц («сильных персон», как их именовали в XVIII веке), и угрозы, исходящие от государства[1].
Что касается первой разновидности угроз, то общеизвестно, что в любую эпоху в любом обществе неизбежно складывается круг лиц, для которых преступная деятельность становится постоянным источником дохода. Вопрос лишь в том, каким уровнем могущества обладает криминальный мир, насколько велика вероятность столкновения с его представителями для рядового обывателя в том или ином пространстве в определенный момент истории. В свою очередь степень повседневной защищенности человека от угроз со стороны преступного мира зависит главным образом от трех факторов: во-первых, от меры совершенства системы правовых норм (или системы судебных прецедентов), предусматривающих ответственность за преступные посягательства на безопасность личности; во-вторых, от эффективности правоохранительной деятельности государства; в-третьих, от поведения самой личности, которая теми или иными своими действиями способна спровоцировать направленное против себя преступление (криминологи называют это «виктимным» поведением)[2]. Кроме того, здесь необходимо иметь в виду еще одно обстоятельство. Несложно понять, что преступная среда особенно укрепляется в кризисные периоды развития общества, когда происходят масштабные социальные потрясения — затяжные войны, революции, экономические катаклизмы. В такие периоды, с одной стороны, усиливается приток в преступный мир обездоленных людей, утративших прежние социальные связи и возможность добыть средства к существованию привычной трудовой деятельностью, а с другой — снижается эффективность правоохранительной деятельности государственного аппарата[3].
Степень угроз безопасности личности, исходящих от «сильных персон», зависит в первую очередь от двух факторов: от закрепления в национальной системе законодательства положения о равенстве всех граждан (или подданных) перед законом и судом и от наличия в стране нормально функционирующих судебной и правоохранительной систем. Пока в законодательстве не будет прописан отмеченный принцип равенства, представители привилегированных социальных групп будут иметь немало возможностей избегать ответственности за противоправные действия — особенно направленные против лиц из менее привилегированных слоев общества. Однако и нормативное закрепление принципа равенства может остаться в большей мере декларативным, если безопасность личности не будет ограждаться независимым судом, а также прокуратурой и следственными органами, одинаково устойчивыми как к коррупционным соблазнам, так и к воздействию «административного ресурса».
Наконец, государство способно угрожать безопасности человека с двух сторон. Во-первых, в национальном законодательстве могут быть недостаточно прописаны (или до поры до времени не прописаны вовсе) процессуальные гарантии прав личности — совокупность правовых норм, ограждающих права личности в судопроизводстве (прежде всего уголовном). Недостаточное закрепление в законодательстве процессуальных гарантий неизбежно открывает путь легальному произволу со стороны правоохранительных и судебных органов (в первую очередь со стороны политической полиции). Например, важнейшую нормативную предпосылку «Большого террора» 1937—1938 годов образовало печально известное постановление Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года «О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов», которое по существу аннулировало процессуальные гарантии прав лиц, обвиняемых в государственных преступлениях (и которое было отменено лишь в 1956 году).
Во-вторых, безопасности личности могут угрожать многообразные незаконные действия представителей власти — в первую очередь в формах злоупотребления должностными полномочиями и вымогательства взяток. В этом случае единственным сценарием ограждения человека от подобных угроз следует признать (как и в ситуации с «сильными персонами») надлежащее функционирование правоохранительной и судебной систем. Кроме того, здесь особую роль приобретает также нормальная постановка внутриведомственного контроля, а в силовых ведомствах — еще и эффективная деятельность подразделений собственной безопасности.

Переходя к обозрению угроз для безопасности русского человека в начале XVIII века, прежде всего необходимо вспомнить, что в ту пору Россия вела изнурительную войну со Швецией. Одновременно в стране создавалась невиданно многочисленная «регулярная» армия, реализовывалась колоссальная судостроительная программа, «в чистом поле» ударными темпами велось строительство Санкт-Петербурга и Таганрога. В итоге массы трудового люда оказались придавленными разорительным гнетом все новых и новых налоговых платежей и казенных отработок.
Наряду с этим год за годом десятки тысяч людей принудительно и бесповоротно отрывали от обжитых мест, от привычного круга занятий, чтобы отправить кого в солдатчину, кого — в чернорабочие «великих строек» на окраинах державы. Не случайно в судебных делах 1700-х годов были зафиксированы весьма критические суждения рядовых россиян о тогдашней внутренней политике Петра I: «Какой де это царь, мироедец, выел свое царство все»; «какой де он государь, всех вытаскал в службу, а царство запустошил»[4]. Понятно, что в подобной обстановке приток новых лиц в криминальную среду был неизбежным.
Как же складывалась повседневная ситуация с защищенностью российского подданного от посягательств со стороны преступного мира в 1700— 1710-е годы? С одной стороны, действовавшее тогда законодательство (в первую очередь базисные акты — Уложение 1649 года и Новоуказные статьи «о татебных, разбойных и убийственных делах» 1669 года) сколь всесторонне, столь и решительно ограждало безопасность личности, содержало значительное количество норм, предусматривавших строгую ответственность за любые посягательства на жизнь, здоровье, достоинство и имущество частных лиц свободного состояния. С другой стороны, в государственном аппарате России в начале XVIII века отсутствовали какие-либо органы, специализировавшиеся на раскрытии преступлений и на охране общественной безопасности.
Более того: в описываемый период эффективность правоохранительной деятельности государства безусловно снизилась — после ликвидации в 1702 году старинных губных изб, в компетенцию которых как раз входило противодействие тяжким и особо тяжким преступлениям против личности в уездных городах и сельской местности. Обуздание преступности осложнилось и в связи с мобилизациями в действующую армию стрельцов и пушкарей из местных гарнизонов. Хотя и не на постоянной основе, но эти служилые люди нередко привлекались для несения полицейской службы в городах.
Таким образом, в первые десятилетия XVIII века русский человек оказался под защитой лишь местных воевод (комендантов) с горсткой служилых да воинских команд, изредка посылавшихся в сельскую местность для искоренения разбоев. Между тем угрожать безопасности подданных московского царя было кому. Укрепившийся в обстановке военного лихолетья преступный мир проявлял себя чем дальше, тем все более дерзко.
Так, в июле 1711 года генерал-губернатор и генерал-фельдмаршал, герцог Ижорский А. Д. Меншиков с тревогой известил Правительствующий Сенат, что по Санкт-Петербургской губернии «в разных местех ходят воры и разбойники великим собранием и многие села и деревни разбили и пожгли». Попутно открылось, что направить против разбойников некого, поскольку в уездных городах «служилых людей ныне нет»[5]. Впрочем, как явствует из сенатских документов, настоящий криминальный террор, обрушившийся на северо-западные уезды, встревожил власти по единственной причине: непрерывные нападения банд полностью парализовали сбор и отправку рекрутов и денежных сборов. Участь оставшихся без всякой защиты от преступников тысяч крестьян ни герцога Александра Меншикова, ни господ сенаторов особенно не волновала.
Криминальные бесчинства были характерны отнюдь не только для Санкт-Петербургской губернии. Вполне сходная криминальная обстановка сложилась в ту пору и в Центральной России. В феврале 1710 года в коллективной челобитной дворяне Клинского, Волоколамского и Можайского уездов извещали царя, что «приезжают разбойники многолюдством со всяким боевым ружьем… и разбивают и пожигают многия села и деревни днем и ночью, и побивают многих людей до смерти и животы их [имущество]… берут без остатку, и баб и девок увозят с собою для ругателства»[6].
Дошло до того, что управитель Московской губернии В. С. Ершов испытывал колебания, стоит ли вообще перемещаться по вверенному региону. Когда в августе 1711 года встал вопрос о встрече управителя с Петром I в Смоленске, Василий Семенович поделился с царем опасениями, что поездке могут помешать «болшия разбойническия артели… которыя ныне около Вязмы и повсюду зело тяжки суть»[7]. Уж если затруднительно было обеспечить безопасность проезда по большим дорогам самого управителя губернии, то что говорить о защищенности передвижений крестьян, купцов и ремесленников!
Не лучше обстояло дело и в самой Москве. В январе того же 1111 года почти в центре города среди бела дня нападению шайки бандитов подвергся переводчик Посольского приказа, знаменитый впоследствии А. И. Остерман. Несмотря на то, что Андрей Иванович ехал в сопровождении офицера и нескольких солдат и сам был вооружен парой пистолетов, он оказался избит и дочиста ограблен[8].
Бедственная ситуация с защитой россиян от криминала не менялась на всем протяжении первых двух десятилетий XVIII века. Как откровенно констатировал Петр I в именном Указе от 19 марта 1119 года, «тати и разбойники… не унялись и чинят до сего времяни повсюду. мучителства бесчеловечныя и разорения, ездя многолюдством вооруженною рукою, горше прежняго»[9]. Удивляться этому не приходится: пока шла Великая Северная война, проблема повседневной безопасности подданных неизменно оставалась на самой периферии внимания царя-реформатора.
Переходя к рассмотрению угроз для безопасности русского человека, которые исходили в начале XVIII века от «сильных персон», прежде всего необходимо вспомнить, что в те годы весомая доля населения нашей страны относилась к категории феодально зависимых лиц. Круг этих лиц составляли крепостные крестьяне и холопы (к описываемому времени их правовые статусы заметно сблизились). Сотни тысяч этих людей не были никак ограждены законом от любых действий своих владельцев (которые являлись по отношению к ним поголовно «сильными персонами»). И хотя в действовавшем в 1100—1110-е годы законодательстве отсутствовали нормы, прямо допускавшие возможность убить собственного холопа или рабыню (подобно статье 89 Пространной редакции Русской Правды или статье 11 Двинской уставной грамоты 1397—1398 гг.), существа дела это не меняло.
Жизнь и здоровье, честь и достоинство (равно как и половая неприкосновенность) крепостных и холопов зависели исключительно от доброй воли их хозяев. Тем самым повседневная защищенность этих лиц от любых форм произвола владельцев отсутствовала как таковая. Какие насилия и унижения терпели феодально зависимые русские люди в помещичьих усадьбах и за высокими заборами господских дворов в городах, уже никогда не будет известно: ни заявлений в суд, ни мемуаров они не писали.
Однако триста лет назад нападкам феодала мог подвергнуться не только его холоп или крепостной. «Сильная персона» могла обратить свой высокий гнев на любого рядового россиянина. Так, в сентябре 1703 года проживавший в Перемышльском уезде помещик М. В. Желябужский заподозрил нескольких крестьян соседнего помещика Г. С. Богданова в поджоге хлебов. Подав по этому поводу исковую челобитную местному воеводе, Михаил Желябужский решил, однако, не терять времени даром и начал собственное расследование. Захватив и силком доставив подозреваемых крестьян в свою усадьбу, Михаил Васильевич со всей решительностью приступил к поискам истины: «…Забыв страх Божий и государев указ, пытал у себя в доме с людми своими в ночи всякими жестокими пытками… бил плетми нагих во многие перемены».
Особенно досталось крестьянину Лукьяну Шурупову, которого Михаил Желябужский «на виске [дыбе] держал многие часы и на стрясках руки ломал, и кнутом бил, и огнем жег, и всякое нехристиянское ругателство чинил, что и заплечные мастеры [палачи] не чинят»[10]. Несмотря на то, что устройство домашнего застенка напрямую подпадало под действие статьи 88 главы 21 Уложения 1649 года (по которой частное дознание воспрещалось производить даже в отношении вора, задержанного с поличным), никаких последствий для М. В. Желябужского этот дикий эпизод не имел. Более того: в 1711 году Михаил Васильевич возглавил фискальскую службу при Сенате (непосредственную предшественницу прокуратуры России), а в 1722 году стал судьей Московского надворного суда.
Что касается угроз для безопасности русского человека, которые исходили в начале XVIII века от государства, то здесь необходимо в первую очередь иметь в виду, что в тогдашнем российском законодательстве процессуальные гарантии прав личности были прописаны в минимальной степени. В уголовном судопроизводстве в те времена господствовал розыскной процесс, при котором функции расследования, обвинения, защиты, принятия судебного решения (а заодно и функция исполнения приговора) соединялись в компетенции одного и того же органа власти. В подобных условиях человек, необоснованно обвиненный в совершении преступления (особенно тяжкого или особо тяжкого), имел немного шансов доказать свою невиновность.
Наиболее устрашающим для любого россиянина было в 1700—1710-е годы оказаться обвиненным в государственных преступлениях (к числу которых относились, в частности, любые негативные высказывания в адрес верховной власти). Поскольку подобные дела возбуждались исключительно по заявлениям («изветам») частных лиц (агентурного аппарата в России тогда еще не существовало), а свидетелей, как правило, не находилось, то судебный процесс превращался чаще всего в соревнование физической выносливости изветчика и обвиненного. Несмотря на различие в процессуальном статусе, изветчика и обвиненного попеременно пытали, до тех пор пока либо первый не сознавался, что «затеял то ложно», либо второй не признавал вмененный ему эпизод преступной деятельности[11].
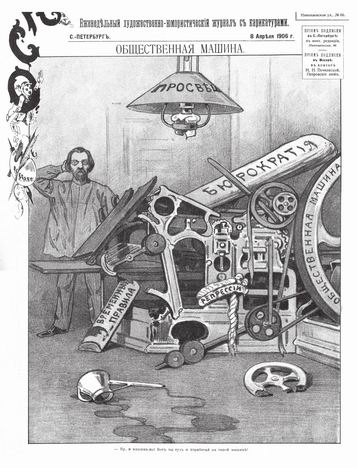
Как бы то ни было, угроза оказаться на дыбе по ложному обвинению в «непристойных словах» или в разбое являлась для русского человека в начале XVIII века безусловно не самой актуальной. Гораздо в большей мере подданные московского царя рисковали тогда пострадать от злоупотреблений представителей власти. И злоупотребления эти, как явствует из сохранившихся документов, носили массовый и повсеместный характер.
Например, азовский ландрихтер П. В. Кикин так описывал в 1709 году поведение разосланных по уездам многочисленных сборщиков и наборщиков: «… Не бывало того дня, чтобы не было в каждой деревни сборщиков 5 или 6 человек. А всякий, приехав, бьет и грабит и подводы и кормы емлет и денги сбирает… в свою ползу, как хочет, и от того уездными людьми сверх настоящих платежей ставливалось убытков впятеро или болше»[12].
А вот что сообщали фискалы Великого Устюга в доношении в Сенат от 28 августа 1712 года о бесчинствах подьячих и солдат, направленных для сбора недоимок в Устюжский уезд: «… Они, подьячие и солдаты, приехав в волости… бьют без милости и тиранскими муками мучат: вешают в дыбы и на козле плетми свинцовыми бьют и огнем стращают. И в церковной трапезе батожьем и на козле бьют ругателски руки и ноги и зубы ломают. И многих жен за власы волочили и нагих девиц водили, также многих жен блудньм воровством силно бесчестили»[13].
Предпринимало ли тогдашнее руководство нашей страны какие-либо меры для защиты россиян от такой угрозы? Предпринимало, и довольно активно. Тем более что субъективно Петр I неизменно относился к виновным в преступлениях по должности непримиримо. Достаточно сказать, что в 1700-х — первой половине 1710-х годов были изданы законы, которыми, в частности, за любые поборы с населения вводилась смертная казнь.
Да и в распорядительных актах царь отнюдь не проявлял снисходительности к мздоимцам. Скажем, 30 ноября 1708 года будущий император указал провести проверку деятельности наборщиков рекрут, специально оговорив, что если кто-то из них окажется уличенным во взяточничестве, то «таких надобно повесить»[14]. На борьбу с должностной преступностью была приоритетно нацелена и учрежденная в 1711 году мощная фискальская служба.
Однако все эти решительные меры имели весьма ограниченный эффект. Необходимо признать, что в начале XVIII века для русского человека угрозы, исходившие от произвола должностных лиц, были почти столь же актуальны, как и угрозы, исходившие от представителей криминального мира. В повседневном измерении ворвавшиеся в деревню разбойники были немногим страшнее нагрянувших по государеву указу лихоимцев. И от обеих этих угроз рядовой россиянин оставался почти в равной мере беззащитен.
О чем хотелось бы сказать в заключение? В современной России много, очень много нерешенных проблем. Немало этих проблем связано и с обеспечением безопасности граждан. Далеко не все благополучно обстоит с реализацией столь многообразно закрепленных в действующем законодательстве процессуальных гарантий прав личности, с раскрываемостью преступлений, с защитой свидетелей и потерпевших, с «чистотой рядов» сотрудников правоохранительных органов. Так что в нынешние времена среднестатистический житель нашей страны вряд ли чувствует себя надежно защищенным как от преступного мира, так и от злоупотреблений власти.
Все это так. Но, тем не менее, думается, что никто из нас не возьмется сегодня набивать на компьютере строки, подобные тем, что в далеком июле 1718 года продиктовал домовому подьячему генерал-фельдмаршал граф Борис Петрович Шереметев: «Москва так состоит, как вертеп разбойничь: вся пуста, толко воров множитца, и непрестанно казнят…»[15].

[1] Исключается из рассмотрения круг угроз, которые возникают для гражданского лица, оказавшегося в зоне боевых действий или на оккупированной территории.
[2] Детального обсуждения заслуживает тема роли в обеспечении безопасности личности гражданского общества. Не вдаваясь на этих страницах в пространные комментарии на означенную тему, хотелось бы все же заметить, что институты гражданского общества способны осуществлять лишь косвенную защиту личности. Эта косвенная защита может реализовываться через механизмы общественного воздействия на власть с целью либо добиться усовершенствования соответствующего раздела законодательства, либо добиться надлежаще эффективного функционирования правоохранительных и судебных органов. Ситуация, когда представитель гражданского общества самолично занимался бы раскрытием преступления или же подготовкой обвинительного заключения по уголовному делу, представляется заведомо абсурдной.
[3] Исключением здесь следует признать разве что тоталитарные режимы. Как явствует из недавно опубликованных архивных данных, властям СССР удалось не допустить всплеска преступности даже в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, сохранив при этом высокий уровень раскрываемости преступлений (см.: Емелин С. М. Историко-правовые аспекты борьбы с преступностью в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.) // История государства и права. 2010. № 17. С. 38—41).
[4] Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия в первой четверти XXVIII в. Преобразования Петра I. М., 1954. С. 277.
[5] Российский государственный архив древних актов (далее — РГАДА). Ф. 248, кн. 2, л. 336—337.
[6] Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате в царствование Петра Великого / Под ред. Н. В. Калачова. СПб., 1880. Т. 1. С. 75.
[7] РГАДА. Ф. 9, отд. 2, кн. 13, л. 516об.
[8] См.: Явочное челобитье А. И. Остермана 1711 г. / Публ. Г. В. Есипова // Древняя и новая Россия. 1876. Т. 1. № 3. С. 303.
[9] Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1830. Т. 5. С. 682.
[10] РГАДА. Ф. 282, оп. 1, № 2335, л. 34.
[11] Не стоит, впрочем, думать, что в ту пору любого обвиненного в государственном преступлении незамедлительно отправляли в застенок. Где представлялось возможным, использовались и другие способы установления судебной истины. К примеру, в 1700 г. был арестован псковский стрелец Семен Скунила, который, согласно извету, высказал (хотя и в довольно невнятной форме) террористическое намерение в отношении главы государства. Со своей стороны стрелец утверждал, что в момент произошедшего был настолько пьян, что не помнит не только инкриминированных ему слов, но и где, и в компании с кем их произносил. Петр I, которому было доложено дело, распорядился уточнить, насколько сильно С. Скунила злоупотребляет спиртным. В связи с этим были опрошены 682 (!) стрельца псковского гарнизона, 489 из которых показали, что обвиняемый — горький пьяница. В итоге вместо грозившей ему смертной казни Семен Скунила был приговорен к наказанию кнутом, урезанию языка и ссылке в Сибирь (Голикова Н. Б. Политические процессы при Петре I. По материалам Преображенского приказа. М., 1957. С. 64—65). Если бы подобный эпизод произошел в 1930-е гг., то со С. Скунилой не стали бы разбираться настолько тщательно: согласно упоминавшемуся постановлению Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. срок расследования дел террористической направленности не должен был превышать 10 суток.
[12] Цит. по: Клочков М. В. Население в России при Петре Великом по переписям того времени. СПб., 1911. Т. 1. С. 198.
[13] РГАДА. Ф. 248, кн. 82, л. 34.
[14] Письма и бумаги императора Петра Великого. М.—Л., 1948. Т. 8, вып. 1. С. 330.
[15] РГАДА. Ф. 9, отд. 2, кн. 98, л. 83.