Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 1, 2013
На самом деле эта статья — не о скандале вокруг «панк-молебна» группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя, а о том, какую роль святотатство — как реальное, так и воображаемое — играло в истории русской религиозной культуры. Начать, однако, все же стоит с политической акции феминистской панк-группы, участницы которой подверглись жестокому и несправедливому преследованию по вполне очевидным политическим мотивам. Вскоре после «панк-молебна» и ареста трех участниц группы некоторые обозреватели заговорили о том, что Pussy Riot как бы наследуют традиции древнерусского юродства, иногда действительно совмещавшего демонстративное нарушение поведенческих и моральных норм с политическим протестом. В самом деле, если не подлинные поступки юродивых, то по крайней мере слухи и легенды о них нередко изображают «блаженных похабов» смелыми обличителями несправедливой власти. Так, псковскому юродивому Николе Салосу приписывалось спасение города от карательной экспедиции Ивана Грозного. Англичанин Джером Горсей, впервые приехавший в Россию вскоре после похода Грозного на Новгород и Псков, писал о встрече юродивого и царя следующее: «[В Пскове] его встретил колдун или мошенник, которого они почитали как своего оракула, святой человек по имени Микула Свят (Mickula Sweat); он встретил царя смелыми проклятиями, заклинанием, руганью и угрозами, называл его кровопийцей, пожирателем христианской плоти, клялся, что царь будет поражен громом, если он или кто-нибудь из его войска коснется с преступной целью хотя бы волоса на голове последнего из детей этого города, предназначенного Богом и его добрым ангелом для лучшей участи, нежели разграбление; царь должен выйти из города прежде, чем божий гнев разразится в огненной туче, которая, как он сам может убедиться, уже висит над его головой и в любую минуту может обернуться сильной мрачной бурей. Царь содрогнулся от этих слов и просил его молиться об избавлении и прощении [царю] его жестоких замыслов. Я сам видел этого мошенника или колдуна: жалкое существо, нагое зимой и летом, он выносит как сильную стужу, так и жару, совершает многие странные действия благодаря дьявольскому колдовскому отводу глаз, его боятся и почитают все, как князья, так и народ»[1]. Тот же образ «юродивого-обличителя» мы встречаем и в литературе Нового времени, например — в пушкинском «Борисе Годунове», где Николка Железный Колпак бесстрашно обвиняет Бориса Годунова в убийстве царевича Димитрия.
Вместе с тем сопоставление или отождествление Pussy Riot с русскими юродивыми XVI—XVII веков все же выглядит чрезвычайно анахронично. Даже допуская, что «Богородице Дево, Путина прогони» наследует пушкинскому «нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит» и что в своей акции участницы группы сознательно либо неосознанно ориентировались на литературную репрезентацию юродства, следует иметь в виду, что юродивые допетровской Руси с их «непотребными» словами, непристойным и вызывающим поведением были вполне «легитимными» участниками церковной жизни вообще и «богослужебной драматургии» в частности. Обстановка церковного богослужения в Московском государстве XVI—XVII веков заметно отличалась от того, что мы сейчас видим в православном храме, так что многие современные прихожане, вероятно, были бы крайне удивлены и даже оскорблены, переместившись во времени на четыре столетия назад. Четвертый московский патриарх Иоасаф писал в 1636 году о тогдашних юродивых: «Иные творятся малоумни, а потом их видят целоумных; а иные ходят во образе пустынническом и во одеждах черных и веригах, растрепав власы; а иные во время святого пения в церквях ползают, писк творящее, и велик соблазн полагают в простых человецех»[2]. Десятилетие спустя преемник Иоасафа требовал запретить юродивым входить в храмы, поскольку «от их крику и писку православным христианам божественного пения не слыхать, да те в церкви в Божии приходят аки разбойники с палки, а под теми палки у них бывают копейца железные и бывают у них меж себя брани до крови и лая смрадная»[3].
При этом юродивые были не единственными «возмутителями спокойствия» в русских церквях допетровского времени. Не менее, а может быть и более важная роль в богослужебной драме отводилась «кликушам» и «бесноватым» — людям, считавшимся одержимыми демонами. Представления о демонической одержимости в восточнославянской крестьянской культуре имеют архаические корни и связаны со специфическим механизмом преодоления социальных кризисов в аграрных общинах — поиском «козла отпущения», человека, которого можно обвинить во вредоносном колдовстве и сделать ответственным за происходящие несчастья и неурядицы. Социальная функция одержимого или одержимой состояла, по-видимому, в том, чтобы, так сказать, «устами демона» указать на «врага общества»[4]. Вместе с тем в XVI—XVII веках кликушество было, по всей видимости, инкорпорировано и в богослужебный обиход многих русских церквей. Сквернословящий и богохульствующий демон оказался вполне «к месту» на православной литургии, поскольку «отчитывание» кликуш и прекращение приступов одержимости «символизировало торжество православия»[5]. Хотя начиная с эпохи Петра I кликушество, как и юродство, подвергалось официальному преследованию, представители синодальной церкви еще в XIX веке могли рассуждать о нем, так сказать, «в позитивном ключе». «Этим явлением торжественно подтверждается истинность св. таин православной кафолической нашей Церкви», — пишет, например, один священник в 1860-е годы[6]. Добавлю, что отголоски этой культурной традиции можно встретить и сейчас: в современной России существует несколько священников, специализирующихся в сфере экзорцизма; и их публичные «отчитки», безусловно, выглядят несравненно «экзотичнее», чем «панк-молебен» Pussy Riot. Прихожане, однако, не протестуют: ведь устами одержимых богохульствуют демоны, и такое богохульство может лишь укрепить, а не оскорбить настоящего верующего.
Тем не менее резонно задаться вопросом, почему массовая православная культура в России XVI—XVII веков, да и позднее тоже нуждалась в таких «радикальных» персонажах «религиозной драмы», как юродивые и кликуши, почему их богохульства и кощунства были легитимной частью публичной жизни. Здесь можно высказать несколько предположений. Одно из них, восходящее к теории карнавала М. М. Бахтина, подразумевает, что в силу ряда причин (не в последнюю очередь из-за пережитков древнего магического мировоззрения, но также и из-за исторической специфики представлений о смехе и веселье) средневековые культуры на западе и на востоке христианской ойкумены нуждались в периодическом «переворачивании мира», в конвенциональном и публичном «анти-поведении», где священное становится смешным, а «низ» — «верхом».

В этом же контексте нередко пытаются интерпретировать и так называемую «священную пародию» (parodia sacra), кощунственные переделки священных текстов, имевшие довольно широкое распространение и в средневековой Европе, и в России XVII—XVIII веков (там — «Всепьянейшая литургия», здесь — «Служба кабаку»), зачастую — именно в клерикальной и монастырской среде[7]. Не останавливаясь сейчас на сильных и слабых сторонах этой теории, скажу, что мне ближе несколько иной подход, выводящий юродивых (и тем более — одержимых бесами) за пределы «карнавального» и «изнаночного» мира. Одна из очевидных особенностей и юродивого, и бесноватого — их таинственная и прямая связь с потусторонними силами, не опосредуемая ни социальными институтами и иерархиями, ни священными текстами и ритуалами. Древнерусское юродство с этой точки зрения приоткрывает своеобразный «имморализм» средневекового христианства, не столь уж сильно озабоченного вопросами теодицеи и этического совершенствования земного, профанного мира. По справедливому замечанию С. А. Иванова, «юродское обличение направлено не только против человеческих грехов и забвения христианских заповедей. Его главная задача — напоминать об эсхатологической сути христианства. Юродивый хочет взорвать мир, потому что тот "тепл, а не горяч и не холоден" (Откр. 3:16). <…> У него свой взгляд на проблему добродетели и греха. Для него добро никак не связано с обыденным представлением о том, что такое хорошо. Он демонстрирует изумленному человечеству, что даже десять заповедей для него не помеха, что даже убийство может ему проститься»[8]. Действительно, в житии юродивого рубежа XVI—XVII веков Прокопия Вятского можно, в частности, прочитать историю о том, как однажды этот святой, зайдя в дом некоего посадского человека, столкнул с печи младенца, от чего тот умер. Хозяева, вернувшись домой, ничего не сделали юродивому, «зане видящее его мужа свята», и позвали священника, чтобы похоронить своего ребенка. «Блаженный же Прокопий видя сие и сниде с печи и нача священников с причтом ис тоя храмины всех вон поревати, и посем взя младенца из гроба, младенец же по обычаю нача кричати и верескати»[9].
Можно по-разному относиться к теории Рене Жирара, согласно которой все религии так или иначе восходят к идее жертвоприношения и связанному с ней «учредительному насилию», за счет которого человеческая агрессия экстериоризуется, выводится за пределы коллектива[10], однако исследование «низовых» религиозных практик в аграрных культурах Средневековья и Нового времени показывает, что темы святотатства и, так сказать, «религиозного насилия» действительно играют чуть ли не ключевую и чрезвычайно продуктивную роль в массовом восприятии святости. В крестьянских рассказах о чудесном явлении икон, появлении чтимых ландшафтных объектов, обретении мощей святых почти всегда фигурируют профаны-святотатцы, чьи «неправильные» поступки, собственно говоря, и приводят к демонстрации чудесных свойств новой святыни. Пастух, встречающий на поле св. Параскеву Пятницу, пытается ударить ее кнутом, но кнут обвивается вокруг дерева и превращается в камень, а место, где все это произошло, становится святым. О другой ландшафтной святыне рассказывают, что здесь некогда явилась Богородица с младенцем Христом, но деревенские дети стали кидать в них камнями. Среди рассказов о местных святынях Нижегородской области, опубликованных Ю. М. Шеваренковой, читаем следующую историю: «Явилась икона Десятой Пятницы. Где явилась, там построили колодец и часовню. Деревенский поп эту икону куда-то продал. Немного спустя попа всего искорежило и изогнуло, и из него начал бес кричать. Икона же опять пришла»[11]. С кощунственного отношения к мертвому телу начинается рассказ об обретении мощей св. Евфимия Архангелогородского. Летом 1647 года холмогорский кузнец Евстафий Трофимов устраивал кузницу на дворе у архангельского воеводы князя Юрия Петровича Буйносова-Ростовского. Когда Евстафий стал копать яму, чтобы поставить в нее основание («стул») для наковальни, он неожиданно наткнулся на гроб. «И он того гроба с конца окопал немного да и перестал копать, и выговорил невежливо, спрета (с досадой. — А. П.): "Вставай, пособляй копать!" И руку свою под доску в гроб совал немного, потому что рука боле не пошла, и во гробе ничего не ощупал. И тут стул в яму спустил и выговорил такожде невежливо: "То, де, тебе барыш. Пособляй копать!" <…> И стал он, Осташко, быть вне ума и ослабел весь. <…>. И… учало его трясти болезнию при смерти издыхания, и руки у него отняло». О происшествии доложили князю Буйносову-Ростовскому. Тот осмотрел могилу неизвестного и приказал больному кузнецу «прощатися и пети над гробом понахиду. И его, Асташка, к тому привели месту, и он, Асташко, прощался. И после понахиды стала болезнь его легче, и учал креститися сам. <…> И после того он, Асташко, бысть здрав»[12]. Через два дня «гроб с мощами неизвестного чудотворца перенесли и захоронили у церкви Происхождения креста Господня. Над захоронением поставили деревянную гробницу, у которой в скором времени стали совершаться чудесные исцеления»[13].

Итак, в крестьянской религиозной культуре именно святотатство оказывается поводом для демонстрации чудесных свойств священной реликвии, ландшафтного объекта или гробницы почитаемого угодника. Это — своеобразное «средство проверки», обеспечивающее формирование, развитие и поддержку того или иного культа. Если рассматривать появление священных объектов в католических и православных культурах европейского Средневековья и Нового времени как более или менее постоянный процесс «производства сакрального», зачастую связанный с различными кризисами в жизни общины или отдельных ее членов (болезни и эпидемии, экономические неурядицы и т. п.)[14], не вызывает сомнения, что в коллективном воображении он, как правило, прямо ассоциируется с агрессивным противостоянием профанного и сакрального миров, что, в свою очередь, приводит к появлению фигуры маргинала-святотатца, принимающего на себя не самую безопасную роль «посредника» между священными силами и обычными людьми. Речь, впрочем, идет о святотатстве воображаемом, а не реальном, однако подлинные материалы судебных расследований о богохульстве и кощунстве, известные нам по документам XVIII века, отражают ту же самую «культурную стилистику». По утверждению Е. Б. Смилянской, «корни народного богохульства и кощунства чаще всего не следует искать ни в религиозном свободомыслии, ни в безумии или пьянстве (тем более, что пьяная брань нередко лишь вскрывала подсознательные установки). Богохульство и кощунство… обычно становились своеобразным "вывернутым" проявлением устойчивых черт "народной веры", а не "народного безверия"»[15].
В начале XVIII века крестьянская религиозная культура становится объектом целенаправленных преследований со стороны формирующегося «регулярного государства». Предпринятая Петром I «реформа благочестия» во многих отношениях также может считаться «святотатственной», хотя и в несколько ином смысле. Процесс «производства сакрального», игравший столь важную роль в средневековой культуре, был не то чтобы полностью приостановлен, но поставлен под жесткий контроль официальных «дисциплинарных процедур». Канонизация новых святых в это время прекращается, юродивых и кликуш начинают преследовать, а к чудотворным иконам и прочим святыням относятся с большим скепсисом. В известном смысле реформаторская деятельность Петра I и Феофана Прокоповича в религиозной сфере предвосхищала советские «атеистические кампании»: так, Петр был, по всей видимости, первым русским правителем, проявлявшим, так сказать, «медицинский», а не религиозный интерес к нетленным мощам свя-тых[16]. Вместе с тем религиозная политика императора могла репрезентироваться не только посредством официальных указов и административных мер, направленных против конкретных обычаев и ритуалов, но и при помощи публичного и театрализованного кощунства, адресованного церкви как социальному институту. Я имею в виду «Всешутейший и всепьянейший собор» — кощунственную пародию на православную и католическую иерархию, придуманную Петром еще в Москве и просуществовавшую до середины 1720-х годов[17]. Это шутовское общество, созданное, по всей видимости, с оглядкой на соответствующие европейские пародийные институты, вызывало у консервативно настроенных современников вполне недвусмысленные ассоциации с антихристианским поведением и загробным наказанием за святотатство. Так, князь И. И. Хованский отзывался о Все-шутейшем соборе следующим образом: «Имали меня в Преображенское и на генеральном дворе Микита Зотов ставил меня в митрополиты, а дали мне для отречения столбец, и по тому письму я отрицался, а во отречении спрашивали вместо "веруешь ли" — "пьешь ли", и тем своим отречением я себя и пуще бороды погубил, что не спорил, и лучше мне было мучения венец принять, нежели было такое отречение чинить»[18]. Подобная реакция не вызывает удивления: «церемонии» Всешутейшего собора включали пародии на поставление архиереев Русской православной церкви и публичные религиозные обряды, например — «шествие на осляти», отмененное самим же Петром в начале 1690-х годов. Принципы пародирования прямо отсылали участников и зрителей к упомянутой «Службе кабаку», а игровой язык «собора» изобиловал «низовой» лексикой. «Широко использовался и русский мат — как в переписке и живом общении, так и во время "соборных" заседаний. <…> В благочестии царь и его команда замечены не были: вместо "монахиня" они предпочитали говорить и писать "монахуйня", а вместо "анафемствовать" (проклинать) — "ебиматствовать". У всех "соборян" независимо от того, какого они были происхождения и какие посты занимали в реальной жизни, имелись потешные прозвища и звания, основанные почти всегда на матерной лексике или на не слишком пристойных ассоциациях»[19].

Хотя в шутовских церемониях Петра I можно видеть отголоски и средневековой «священной пародии», и крестьянской игровой культуры, очевидно, что кощунства Всешутейшего собора имели не столько развлекательное, сколько религиозно-политическое значение. По справедливому замечанию В. М. Живова, церемониальные инновации Петра следует интерпретировать «как единый комплекс, связанный единством пропагандируемых идей и переплетением конкретных действий. Эти инновации призваны создать образ новой России, порожденной Петром как демиургом. Вместе с тем петровская пропаганда создавала не только образ новой России, но и — в качестве прямой противоположности ему — образ России старой. <…> Противопоставление старой и новой России строилось из набора взаимоисключающих характеристик, так что не оставалось места никакой преемственности. Поэтому, приписывая новой России просвещение, старой приписывали невежество, приписывая новой России богатство и великолепие, старой отдавали в удел убожество и нищету. Новая Россия как бы рисовала карикатуру на Россию старую, и в этом далеком от реальности изображении явственно проступала вывернутая наизнанку самооценка новой культуры. Отсюда и приобретала столь большую значимость дискредитация традиционной системы ценностей и утверждение новых идей как своего рода религиозного выбора»[20].
Последствия петровской «реформы благочестия» в сфере «нормативной» религиозной культуры были довольно своеобразными. Русская православная церковь превратилась в государственную бюрократическую структуру, а унаследованные от Московского государства религиозные практики, нормы и обряды оказались тесно сплетены с политической идеологией и гражданскими культами. Однако попытки «религиозного дисциплинирования» «низовой» культуры, предпринимавшиеся и при Петре, и при Анне Иоанновне, и позднее, в общем-то не принесли серьезных результатов и привели не к трансформации, но к локализации крестьянской религиозной жизни, к вытеснению архаических практик и ритуалов за пределы публичного и социально контролируемого пространства. Более заметное влияние на «народную религию» оказали советские «безбожные кампании» 1920—1930-х и 1960-х годов, во многих отношениях копировавшие и продолжавшие политику Петра. Дело здесь не только в жесточайших репрессиях и, так сказать, «тотализации» государственно-административного контроля, но и в том, что усилия властных элит, направленные на аккультурационную трансформацию массовой религиозности, получили устойчивую и систематическую поддержку внутри самой крестьянской культуры. Я имею в виду деревенских комсомольцев, которые были хотя и немногочисленной, но в сущности единственной крестьянской группой, последовательно ориентировавшейся на коммунистическую власть после окончания Гражданской войны. Впрочем, крестьянская религиозность с успехом выдержала безбожную кампанию, компенсировав осквернение и разрушение местных святынь обширной группой нарративов о наказании за святотатство. Последние составляют значительную часть современного религиозного фольклора русской деревни[21]. По сути дела, практика борьбы с местными святынями и обрядами, осуществлявшаяся советскими администраторами различных уровней, вполне успешно вписывалась в те ритуально-мифологические сценарии «производства сакрального», о которых шла речь выше, и, следовательно, способствовала не уничтожению, но, наоборот, укреплению локальных религиозных культов и даже появлению новых святынь. Когда в 1964 году в Валдайском районе Новгородской области представители местной администрации отобрали у местных верующих почитаемую икону и публично ее сожгли, это лишь привело к появлению нового сакрального объекта: «На месте сожжения иконы верующие дер. Ижицы в тот же день посадили дерево и теперь считают это место "святым"»[22].
Итак, мы вправе полагать, что в «низовых» религиозных практиках реальное либо воображаемое святотатство предстает действенным механизмом повседневной религиозной жизни, формирующим новые культы и подтверждающим действенность старых. Поэтому в подобном контексте оно не подлежит моральной оценке и тем более человеческому осуждению. Несколько иначе традиционные представления о кощунстве используются в контексте «дисциплинарной» политики властных элит: во времена религиозных реформ Петра I, а затем — в эпоху советских атеистических кампаний. Здесь публичное святотатство оказывается символом политического доминирования, социальной дисциплины и культурного разрыва между «старым» и «новым». Практические последствия такой политики оказываются, однако, неоднозначными: «низовые» религиозные практики могут вполне успешно адаптировать соответствующие административные мероприятия к собственным культурным сценариям «продуктивного святотатства».
Возвращаясь к разговору о «панк-молебне» группы Pussy Riot, с которого я начал эту статью, еще раз подчеркну, что эта акция вряд ли может быть интерпретирована в контексте древнерусской культуры и «народной религии». «Панк-молебен» в храме Христа Спасителя, без сомнения, имел сугубо политический характер и был адресован той политико-религиозной идеологии, чье рождение было ознаменовано кощунственным Всешутейшим собором Петра I. Современное «политическое православие», конечно, имеет очень мало общего со средневековой религиозной традицией, оно в равной степени наследует «синодальной церкви» и советским «политическим культам». Именно поэтому, как мне кажется, социальный вызов Pussy Riot был столь болезненно и неадекватно воспринят авторитарным государственным аппаратом.

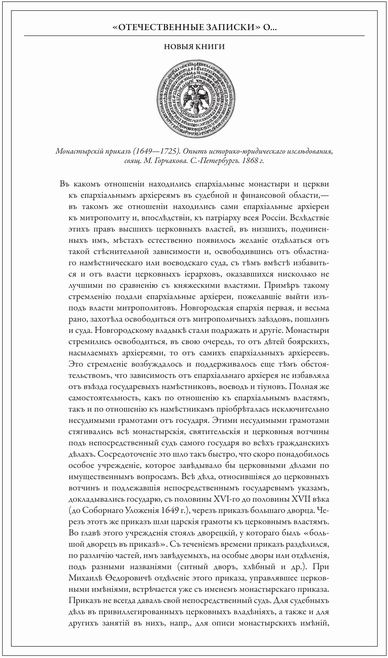
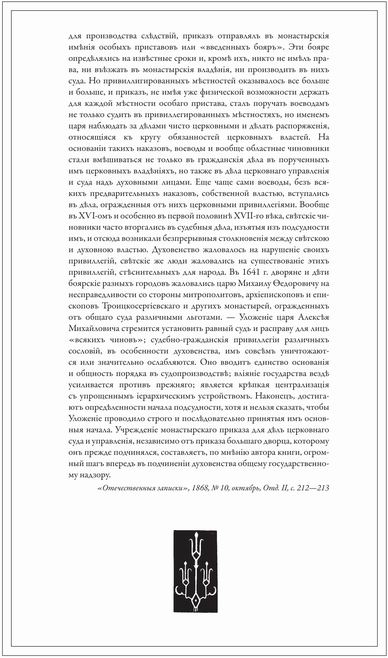
[1] Горсей, Джером. Записки о России. XXVI — начало XXVII в. / Под ред. В. Л. Янина. Пер. и сост. А. А. Севастьяновой. М., 1990. С. 54.
[2] Иванов С. А. Блаженные похабы: Культурная история юродства. М., 2005. С. 289.
[3] Ковалевский И., свящ. Юродство о Христе и Христа ради юродивые восточной и русской церкви. М., 1902. С. 156.
[4] Подробнее см.: Панченко А. А. Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект. М., 2004. С. 321—340.
[5] Лавров А. С. Колдовство и религия в России. 1700—1740. М., 2000. С. 392.
[6] Петров А., свящ. Кликуши // Странник. 1866. Октябрь. Отд. V. С. 2.
[7] Об аудитории «Службы кабаку» в России XVIII века см.: Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность и «духовные преступления» в России XVIII века. М., 2003. С. 225—240.
[8] Иванов С. А. Блаженные похабы. С. 382.
[9] Там же. С. 372.
[10] Жирар Р. Насилие и священное / Пер. с франц. Г. Дашевского. М., 2000.
[11] Нижегородские христианские легенды / Сост., вступ. ст., коммент. Ю. М. Шеваренковой. Нижний Новгород, 1998. № 107. С. 32.
[12] Крушельницкая Е. В. Сказание о Евфимии Архангелогородском // Рукописные памятники: Публикации и исследования. Вып. 4. СПб., 1997. С. 115—116.
[13] Там же. С. 97.
[14] См.: Щепанская Т. Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX—XX вв. М., 2003. С. 244—317.
[15] Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. C. 214.
[16] См.: Богданов К. А. Врачи, пациенты, читатели: Патографические тексты русской культуры XVIII—XIX веков. М., 2005. С. 53—55.
[17] См.: ТрахтенбергЛ. А. Сумасброднейший, Всешутейший и Всепьянейший собор // Одиссей: Человек в истории. М., 2005. С. 89—118; Усенко О. Г. Сумасброднейший собор // Родина. 2005. № 2. С. 61—67; Зицер Э. Царство Преображения: Священная пародия и царская харизма при дворе Петра Великого. М., 2008.
[18] Панченко А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура. СПб., 2005. С. 220.
[19] Усенко О. Г. Сумасброднейший собор.
[20] Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 422—423.
[21] См., например: Добровольская В. Е. Несказочная проза о разрушении церквей // Русский фольклор. Т. XXX. 1999. С. 500—512; Мороз А. Б. Устная история русской церкви в советский период (народные предания о разрушении церквей) // Ученые записки Российского православного университета апостола Иоанна Богослова. Вып. 6. М., 2006. С. 177—185; Штырков С. А. Рассказы об осквернении святынь // Традиционный фольклор Новгородской области. СПб., 2006. С. 208—231.
[22] Государственный архив Новгородской области. Ф. Р-4110. Оп. 1. № 231. Л. 34.