Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 1, 2013
«Отечественные записки»: Мы собирались делать номер о религии, однако скорректировали свои планы: многое из того, что происходит в нашем обществе, носит религиозный характер, но формально к религии не относится. Достаточно вспомнить о деятельности последователей Фоменко, о повальном увлечении бытовой магией — гадалках и гороскопах. На этом фоне звучат заявления, что у нас идет невиданное возрождение православия. Любой думающий человек понимает: что-то тут не так. Согласны ли Вы с тем, что мы имеем дело с кризисом рациональности и наступлением иррационализма? Или нам только так кажется? Может быть, на самом деле наука на своем месте, религия — на своем, и все вообще в полном порядке?
Георгий Митрофанов: В этом мире с момента грехопадения Адама и Евы в порядке все быть не может, безусловно. Но я бы не стал говорить здесь именно о наступлении иррационализма: это довольно отвлеченное утверждение. Если говорить о нашей ситуации, то можно выразиться так: за семьдесят лет государственного атеизма — хотя атеизма в полном смысле этого слова не было как мировоззрения массового, он вообще не может быть мировоззрением массовым, — мы будем расплачиваться теперь десятилетиями религиозного невежества, то есть появлением разного рода квазирелигиозных феноменов. Они будут содержать в себе многие элементы религий, потому что сознание человека религиозно, но предметом религиозного поклонения могут быть самые причудливые вещи от идей до людей.
Мне кажется, что гораздо более характерным и более опасным явлением в современном мире, и в частности у нас, является то, что подлинная религиозная вера уступает место разного рода идеологиям. Происходит идеологизация жизни, когда та или иная лжерелигия, лжерелигиозная установка, получает форму некой научной теории. История с коммунистическим утопизмом в России это один из примеров попытки подобной идеологизации жизни посредством утверждения в ней лже- или квазирелигиозной идеологии, хотя нечто подобное происходило в ХХ веке не только в России, но и в других странах. Однако в Европе присутствие основанной на христианской традиции культуры ощущалось в исторической жизни весьма значительно, в то время как в России с момента монгольского завоевания основной формой передачи религиозной традиции являлось бытовое исповедничество преимущественно внешних форм церковной жизни. До монголов была некая перспектива иного развития. Однако монгольское завоевание окончательно подавило у нас перспективу развития религиозного просвещения, которое могло привести к тому, что в народе формировалось бы какое-то религиозное мировоззрение, позволяющее на разных этапах жизни давать христиански мотивированные ответы на вызовы современности. До поры до времени ритуализма, обрядового благочестия, бытового исповедничества как формы передачи религиозной традиции хватало, но уже с XVII века стал ощущаться кризис этих форм религиозной жизни. Необходимо было сформировать сначала христиански мыслящую — не православно постящуюся, не православно кланяющуюся, а именно христиански мыслящую элиту, а затем распространить христианское просвещение в массы. Этот процесс, конечно, происходил в течение всего синодально-имперского периода, но всегда с опозданием, как и многие, в общем-то, актуальные для нашей страны реформы. В конечном итоге в момент, когда в стране в начале XX века наметился безусловный интерес элиты к христианской проблематике, в народных массах, наоборот, произошел поворот к нигилизму, только к нигилизму не интеллигентского толка, а к такому, который был оборотной стороной неизжитого язычества, на самом деле составлявшего основу мировоззрения народных масс. Это было православное язычество. Отсюда такие понятные феномены нынешнего времени, как, например, «православный атеист». Определяя себя так, Александр Лукашенко по существу не говорит ничего нового: у нас были православные безбожники и раньше. Ровно то же самое можно сказать о феномене «православного сталинизма» или евразийски мутировавшего коммунизма, обращающегося сейчас к православной теме, — все это, так или иначе, проявления того, что происходит и в сознании обывателей. Сейчас «простонародья» как такового нет, есть некие «обыватели», это не средний класс, но во всяком случае это грамотные простолюдины, которые уже не похожи на простолюдинов начала XX века — эти люди нуждаются в некоем квазирелигиозном сознании. И здесь идеология с элементами привычных политических, историософских идеологем представляется наиболее приемлемым вариантом.
Возьмем такой пример. Когда большая часть населения страны идентифицирует себя с православием — и это у кого-то вызывает надежду на «религиозное возрождение», — но при этом причащается из них всего 3—4 %, что это такое? Да это не что иное, как вполне естественная констатация своей идеологии, которая, как и коммунистическая идеология, мало к чему обязывает в повседневной, в личной духовной жизни, но которая помогает человеку себя связать с некой общностью.
ОЗ: Социологи «Левада-центра» указали на такой поразительный факт: практикующих православных действительно около 3—4 %, но в некоторых регионах чуть ли не 90 % называют себя верующими православными, особенно часто там, где, например, существуют какие-то «вредоносные» 10 % мусульман. Не означает ли это, что сейчас есть необходимость отказаться от этого критерия — самоидентификации — и «мерить» православных другой меркой: условно говоря, читал ли человек Евангелие, знает ли, кто такой Христос…
Г. М.: Последний опрос специалистов «Левада-центра» вызывает у меня удивление. Они, в отличие от западных социологов, не пользуются элементарным критерием для определения того, кто есть христианин. Практикующий христианин — это не тот, кто в храм ходит часто или редко, а тот, кто причащается. Вот это критерий — православный и католический. Католики не назовут католиком крещеного человека, который не причащается. И это, собственно, то, что нам заповедано Христом. Нужно определять людей как христиан, пользуясь теми критериями, которые выработаны церковью. К сожалению, и мы, православные христиане, не часто используем этот элементарный критерий. Потому что если мы будем его использовать, это будет не в нашу пользу: выяснится, что в общем и целом мало того что эти проценты ниже, чем во многих европейских странах, практикующих христианство, они еще и не растут с середины 1990-х годов.
ОЗ: Но не думаете ли Вы, что в каком-то смысле это «отрезвление» может быть полезным? Возможно, нашему обществу лучше не витать в каких-то немыслимых мечтах о возрождении, а все-таки попытаться понять, что с ним происходит?
Г. М.: Дело в том, что нашему народу, к сожалению, всегда недоставало духовно-исторической трезвости. Так уж мы устроены. Вот почему единственный развившийся у нас ярко вид искусства — это литература. При этом литература, которая формировала мировоззрение многих людей, часто превращала хороших писателей в плохих моралистов и проповедников: от Гоголя до Солженицына. Так что духовно-историческая трезвость нам необходима просто для того, чтобы мы, во-первых, не повторяли ошибок, которые уже имели место. Во-вторых, само по себе христианство — это духовно трезвая религия, которая придает большое значение адекватному восприятию истории и себя в истории. Оно освятило историю: Бог появился в определенное время, в определенном месте, в определенном качестве — это привнесло смысл во все происходящее на Земле. К сожалению, у нас историков очень не любили, и историки наши традиционно, как правило, были из-за этого людьми очень раздраженными, ожесточенными и даже пьющими, что их отчасти объединяло со своим народом…
Существует показательный миф о том, что в синодальный период мы потеряли свое благочестие, растранжирили великое богатство Святой Руси. Связано это во многом с тем, что именно в синодальный период у нас появились серьезные историки, в том числе церковные, которые развеяли многие исторические мифы о нашем духовном прошлом, после чего уже невозможно было верить так инфантильно, как раньше. Но и жить с сознанием того, что мы оказались гораздо ниже того уровня духовности, в котором были уверены, стало очень тяжело. И обвинили во всем синодальную эпоху, и в частности историков. Вот почему духовная цензура, невольно отражая это настроение, распространенное среди определенной части православных, могла запретить даже один из томов «Истории русской церкви» профессора Московской духовной академии академика Евгения Голубинского.
ОЗ: Профессор той же академии Николай Каптерев не мог двадцать лет получить степень доктора церковной истории…
Г. М. : Было отторжение в целом обществом, народом от себя тех, кто пытался дать трезвый взгляд на прошлое и настоящее, и постоянное стремление жить в плену каких-то мифологем. Литературность нашего сознания является результатом его, к сожалению, непреодоленной инфантильности, проявляющейся, в частности, в убежденности в том, что мы оригинальны и самобытны. Часто приходившие нам в голову действительно хорошие мысли, уже многократно высказывавшиеся ранее, мы объявляли собственными открытиями, потому что плохо знали историю вопроса, были незнакомы с элементарной научной библиографией. Поэтому у нас недоучившийся в университете студент, как Лев Николаевич Толстой, или военный инженер, как Федор Михайлович Достоевский, которым с точки зрения их философской эрудиции место было на первом курсе философского факультета в европейском университете, мог превращаться в религиозного мыслителя-философа. Да, с одной стороны, это освобождало нас от каких-то академических стереотипов. В России трудно было найти образованных дураков, которых нередко можно обнаружить на Западе. Зато необразованные таланты встречались у нас гораздо чаще, и при этом, ярко начиная сиять, быстро угасали по большей части… Это проявилось, в частности, в том, что мы, к сожалению, по-настоящему так и не освоили византийское культурное наследие.
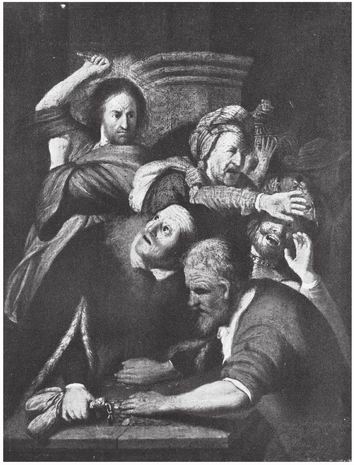
ОЗ: Это идея Флоровского… Вы имеете в виду, что Византия нам оставила богатое святоотеческое наследие, в котором были даны ответы на многие вопросы, но у нас не хватило времени — или не захотели, или не получилось — его освоить?
Г. М.: Я бы не сказал, что даже в византийском святоотеческом наследии были даны ответы на многие вопросы. Конечно, на какие-то вопросы были даны ответы, какие-то вопросы были поставлены, но главная проблема заключалась в том, чтобы дорасти до понимания этих вопросов. Только на рубеже XIX—XX веков у нас наконец выросла из прошедшей европейскую вышколенность богословской культуры церковная научная школа. Потом очень выразительно сверкнуло русское зарубежье в лице Свято-Сергиевского богословского института в Париже, четверть века занимавшего в православном мире лидирующую позицию, давшего жизнь плеяде ярких богословов, крупнейших богословов православного мира. Правда, для нас они были крупнейшими, а для Европы они были просто выдающимися — и не более того. Но этот процесс был прерван. И сейчас мы должны по-прежнему переживать трагедию русского богословия и в связи с тем, что согласно отцу Георгию Флоровскому в России к XX веку так и не сложилось богословия, основанного на традиции святоотеческой, и в связи с тем, что святоотеческую традицию в Европе и сейчас знают, и раньше, начиная с XV века, знали лучше нас. Не случайно византийская элита ехала в XV веке на запад, а не на восток, хотя, казалось бы, Третий Рим готов был принять беженцев из Второго Рима. Другое дело, что принимал он их не всегда гостеприимно — я имею в виду, в частности, преподобного Максима Грека.
Трагедия заключалась в том, что мы слишком поздно стали вообще богословствовать, тем более богословствовать мозгами, а не сердцем, не красками, как придумали потом себе в утешение. Умозрение в красках. Предложить было нечего, поэтому придумали этот замечательный образ, хотя тут есть своя правда — попытка наконец что-то выразить из себя удалась в той сфере, которая не требовала наличия богословской школы, а требовала непосредственно себя, своего индивидуального религиозного опыта… Это касается и церковного пения. А вот что касается богословия как такового, то мы стали богословами в тот момент, когда в начале XX века вся наша страна, а вместе с ней и вся существовавшая в России богословская академическая наука, обрушились, и по существу мы должны признать, что сейчас находимся, в общем-то, на богословской периферии христианского мира.
ОЗ: С XVIII века начинается другая крайность: мы признаем, что у нас дикое такое богословие, пение не то, иконопись не та, и начинаем в массовом порядке заимствовать все это с Запада. В духовных академиях главенствует западное мировоззрение — вплоть до того, что там и верующего-то профессора найти трудно…
Г. М.: При всем несовершенстве дореволюционной духовной школы следует признать, что для нас сейчас эта духовная школа продолжает оставаться труднодостижимым идеалом. Хотя бы потому, что профессора богословия у нас, к сожалению, по сравнению со своими предшественниками начала XX века кажутся недоучившимися студентами духовных академий, и я в данном случае для себя исключения не делаю. Будучи профессором и заведующим кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии, я, сопоставляя себя, допустим, с Антоном Владимировичем Карташевым, могу ощутить себя лишь студентом, которому уже поздно учиться, но который достаточно зрел, для того чтобы понимать, что он не состоялся как ученый. Это трагедия целого поколения. Духовная академия, уничтоженная в 1918—1919 годах, так и не возродилась в советское время, это была химера, существовавшая для церковно-политического экспорта. Духовная семинария была реальной школой, академии не было, и поэтому не было академической науки. Академическое богословие, начавшее складываться у нас как самобытное, исходящее из опыта европейской культуры — а я не считаю ее чуждой нам — и освоения византийских источников, появилось в начале XX века, но кончилась Россия, и по сути дела русским богословам суждено было лишь продлить величественную агонию русской богословской академической науки в стенах Свято-Сергиевского богословского института в Париже. Очень характерен конфликт между Карташевым и отцом Александром Шмеманом, его любимым учеником, произошедший в начале 1950-х годов в связи с отъездом Шмемана в Америку. Это была совершенно живая реакция отца Александра Шмемана на то, что очаг русской богословской науки начал уже тогда затухать в Париже, и он стал надеяться обрести или даже создать новый очаг православной богословской науки в Америке. Но ничего не получилось в долгосрочной перспективе и в Американской православной церкви, хотя этот очаг православной богословской науки раздували и он, и отец Георгий Флоровский, и Георгий Федотов.
ОЗ: Кстати, не думаете ли Вы, что в каком-то смысле затухание этого очага было связано с тем, что вообще наша эмиграция, и особенно парижская, отмерила себе для жизни на чужбине время относительно небольшое, не собираясь обосновываться надолго за границей? Она надеялась на падение коммунизма и триумфальное возвращение в Россию.
Г. М.: Да, уже внуки эмигрантов первой волны об этом не думали, их надежды добила Вторая мировая война. Была какая-то группа романтиков, которая приехала сюда, решив, что настал час весеннего похода, но основная масса людей трезвомыслящих поняла, что происходит и что нужно думать о том, чтобы им и их детям продолжать жить на Западе. Люди пошли разными путями. Наша диаспора оказалась очень недолговечной, как и вообще феномен русско-европейской культуры имперского периода. И в этом наша трагедия, отчасти трагедия церкви, потому что в конечном итоге оправдалось опасение Карташева, что падение коммунизма может и не сопровождаться восстановлением уровня богословской культуры, который был у нас в начале XX века, и мы тогда превратимся в церковь православных коптов и эфиопов. Это эфиопство, на разных уровнях проявляющееся, очень тесно как раз сейчас смыкается с одной стороны с магизмом перепуганных постсоветских дезориентированных обывателей, а с другой стороны — с ожесточением «совков» разного уровня, от «евразийцев» до коммунистов-зюгановцев, которые готовы от скудости своей прибегнуть даже к православию, для того чтобы как-то оживить свой идеологический арсенал. И мы, потеряв распространившуюся очень поверхностно и нешироко русскую богословскую культуру начала XX века, потеряв еще чуть раньше традицию бытового исповедничества христианства, на котором держалась народная религиозность, погрузились, в общем и целом, в неоязычество коммунистического утопизма. И теперь, когда он рухнул, нам остается только привычные стереотипы коммунистической утопии православно-евразийски раскрашивать. А именно соблазна евразийства более всего и опасались русские философы — тот же отец Георгий Флоровский.
ОЗ: Давайте вернемся в Россию… С одной стороны, мы слышим, что в России идет возрождение православия, что «все больше людей приходит в церковь». Об этом говорят и патриарх, и разные другие церковные деятели. А на самом деле возрождение происходит скорее на уровне зданий и каких-то отдельных видов деятельности. А что касается людей, то они дезориентированы, они пытаются «раскрашивать» все под православие — и это выглядит фальшиво. К сожалению, многие прелаты, так скажем, и церковные князья в этом участвуют и освящают своим словом, благословением и так далее. И вот это вызывает страх клерикализации у части интеллигенции. Вы согласны с тем, что такой страх есть?
Г. М.: Страх, может быть, и есть, но я думаю, что это не страх клерикализации как таковой. Для них эта кажущаяся клерикализация — просто знак возрождения некой новой государственной общеобязательной идеологии, в которой «отцы Звездонии» будут определять какую-то очень важную составляющую. Я не считаю, что клерикализация происходит: у нас духовенство не имеет традиции клерикализации — во-первых. Во-вторых, многие кажущиеся клерикальными проекты в нашей церковной жизни оказываются химерами, способными лишь дезориентировать нас самих, а заодно напугать окружающее нас секуляризованное общество. Возьмем, например, идею «двухсотшаговых храмов». Я как человек, четверть века преподающий в духовной школе, могу лишь прийти в недоумение, потому что не знаю, какими священниками они наполнятся. То, что мы сделали в 1990-е годы, нарукополагав клир, который вышел в свет, не пройдя никакой богословской школы, — это уже резко понизило качество церковной жизни, и прежде всего столь необходимую для активной клерикализации способность к миссионерско-просветительской деятельности. Сейчас снижение качества клириков обуславливается еще и тем обстоятельством, что за последние двадцать лет было открыто множество провинциальных семинарий — более сорока, уровень подготовки в большинстве из которых очень низкий. Мало того, выпускники этих семинарий приезжают в наши духовные академии и своим низким уровнем побуждают и без того не особенно стремящихся к развитию наших старых профессоров повторять им семинарские истины в академии, что, соответственно, лишает наших профессоров возможности работать в качестве ученых, готовящих других ученых. Эти и многие другие проблемы внутрицерковной жизни вряд ли способствуют такой активности нашего духовенства, которая бы сделала возможной клерикализацию жизни в нашей стране.
Мы живем в эпоху имитаций. Имитатор вдохновенный и искренний считает, что делает дело, оттого что занимается имитацией. У него сомнений может даже не быть в том, что он делает подлинное дело, но объективно-то он занимается именно имитацией, и это в конце концов начинает себя проявлять. Более того, наша прагматичная власть ведь это тоже чувствует. Она прекрасно понимает, будучи готовой при этом использовать всех, в том числе и православных, в каких-то своих целях, что реальный ресурс православной церкви очень незначительный: и электоральный ресурс, и интеллектуальный ресурс, и в скором времени материальный ресурс, потому что жить, рассчитывая на возможность эксплуатации недоразвившихся религиозных потребностей наших сограждан — молебнами, освящениями, утешительными беседами, заменяя ими психотерапевтов, которых в нашей стране не хватает, — долго не получится. В конце концов это надоест всем, но при этом многие священники ухитрятся потерять вообще себя как священников в этой деятельности, будучи такой ритуально-бытовой обслугой людей, у которых нет никаких еще религиозных христианских потребностей. Это выйдет наружу. Да, будет больше храмов, которые будут функционировать как комбинаты ритуально-бытовых услуг и в которых священники будут выполнять функции психотерапевтов и иногда социальных работников, но не будет общинной жизни, как ее на большинстве приходов нет и сейчас, тем более что евхаристических общин в нашей церкви вообще ничтожно мало, а когда они появляются, то вызывают недоумение, смешанное с неприятием. Это говорит об общем нездоровье, потому что существуют критерии, оставленные нам Христом, оценки способностей нашей церкви. И именно наличие в церкви активной евхаристической жизни христиан, существование в ней крепких общин являются важнейшими признаками подлинной церковной жизни. Чего стоила наша церковь в начале XX века, если при том что в ее рядах было более ста миллионов христиан, подавляющее большинство их причащалось один раз в год?
ОЗ: Ну, как известно, уже в письмах Иоанна Златоуста есть упреки, что христиане причащаются редко, то есть, иначе говоря, эта болезнь возникла не в России.
Г. М.: Времена Златоуста были временами, когда в церкви уже сыграли свою заметную роль неофиты-язычники, приходившие в церковь отнюдь не для того, чтобы следовать за Христом — они следовали за своим «земным царем», и это сказывалось: отсюда уход в монашество наиболее активной и искренней части христиан, и отсюда, в каком-то смысле слова, диссидентство самого Иоанна Златоуста по отношению к современной ему церковной иерархии… Но не будем забывать христиан первых веков, как и не будем забывать евхаристическое возрождение, которое проявило себя как в католической церкви, так и в православной, в лице отца Иоанна Кронштадтского на рубеже XIX—XX веков, и которое было характерным и для общин непоминающих 1920—30-х годов.
ОЗ: Ныне многие говорят, что Московский патриархат РПЦфактически занял место бывшего идеологического отдела ЦК.
Г. М.: Я не думаю, что это так. Зачем современным государственным деятелям, прошедшим школу партийного агитпропа, убедившимся в том, что она плохо работает, заниматься такими вещами? Для самих себя они уже идеологии не ищут, что же касается масс, то у нас нет никакой продуманной религиозной политики — хватаются за все, что предлагают. Проблема в том, что мы предлагаем часто себя именно в качестве религиозно-идеологического агитпропа, рассчитывая получить административный ресурс, покровительство. Ведь значительная и наиболее влиятельная часть нашего духовенства сформировалась в условиях тоталитарного общества, когда все определялось государством, когда все зависело от государства, когда выстраивать отношения нужно было прежде всего с государством. Такова и сейчас позиция многих архиереев. Отношения следует прежде всего устанавливать с местным губернатором, с московским начальством — не с паствой, не с духовенством, которые никуда не денутся и от которых «проку мало», а с теми, от кого зависит «главное», а «главное» зависит по-прежнему от государства. Ну и, конечно, налаживать связи с бизнес-элитой, которая существует в данной епархии. А идеология — это просто то, о чем хоть как-то приходится говорить, общаясь с этими безыдейными, но могущими быть полезными людьми.
ОЗ: Сейчас кто-то описывает эту ситуацию как расцвет православия, кто-то — как упадок, кто-то говорит о том, что иррационализм определяет наш общественный духовный климат. Что касается церкви, то похоже, что она сейчас теряет авторитет в обществе…
Г. М.: Во-первых, мы есть и будем церковью меньшинства, как об этом и предупреждает нас Евангелие, — вот это надо осознать и внести соответствующие коррективы, как мне кажется, в свою деятельность. Во-вторых — церкви, как мне кажется, нужно максимально дистанцироваться от государства, благо современное законодательство дает для этого все основания, потому что государственная перспектива очень неясна, и связывать себя с любым государством опасно, и тем более с государством, которое пребывает в таком сложном положении, и совсем не потому, что оно будет кем-то свергнуто, завоевано: для этого у общества нет ни сил, ни лидеров, ни идей. В данном случае, как ни странно, наша безыдейность спасает нас сейчас от каких-то кровавых конфликтов…

ОЗ: Беспочвенность?
Г. М.: Нет, это даже очень почвенно, как наша любимая русская печка — универсальное средство, где можно еду готовить, обогреваться, даже мыться и, самое главное, — на ней можно лежать и мечтать о собственном мессианском предназначении. Мы пережили тяжелую травму в 1920-е годы, когда потеряли такое множество людей не просто активных, не просто профессиональных, а именно таких, которые являются в любом обществе носителями культурно-исторической памяти, мы потеряли самих себя. Чтобы в этом убедиться, посмотрите на произведения массовой культуры — сравните фильм «Гусарская баллада» и фильм «Уланская баллада», появившийся сейчас в контексте разработки новой идеологии, благо юбилей подоспел войны с Наполеоном. Очевидно, что сейчас даже комедийно-мелодраматического боевика, подобного рязановскому, вышедшему еще в 1962 году, снять, оказывается, уже невозможно. Настолько утеряна даже актерская стилистика изображения людей прежних эпох. Это ведь показательно, потому что субкультуры умирают быстрее всего. Умерла культура русского романса с Валерием Агафоновым, и никто это уже не реанимирует. Конечно, потеря невелика, ведь Рахманинов с Чайковским еще звучат — весьма профессионально исполняемые, но, тем не менее, утрачивается аромат жизни, который был когда-то, а это для культуры в целом губительно: потеря субкультуры ведет к оскудению культуры как таковой, и на их месте возникают культурные суррогаты или религиозные суррогаты.
ОЗ: Недавно Максим Кронгауз в ответ на сетования о деградации современной русской речи сказал: «Я как лингвист не вижу здесь никакой проблемы. На место одного языка приходит другой: один умирает, другой появляется. Да, он нам сейчас кажется неприятным, отвратительным просто потому, что мы привыкли к другому языку, а через сто лет язык изменится». Мы говорим «суррогаты», но это субъективная оценка… Не означает ли это, что приходит какой-то абсолютно новый тип культуры, который мы еще не принимаем, к которому мы не адаптировались, который у нас вызывает отторжение, потому что мы привыкли к тому, старому, а новый мы не понимаем? Может быть, те, кто ездит в разные велопробеги-мотопробеги или пытается устроить разнообразные шоу с церковным оттенком, — может быть, эти люди лучше понимают, что происходит?
Г. М.: Я говорю тоже об этой тенденции. Мы думаем, что мы живем в постсоветской России — а на самом деле мы живем в построссийской России. Это не просто игра словами. Я ведь родился на этой типично петербургской улице, где мы сейчас с Вами беседуем, в доме напротив. И ходил в школу вот тут рядом, на Фонтанке. И у меня всегда было ощущение, что я живу в городе, который был построен в другой стране, и я мечтал со школьных лет понять, какую страну я потерял, в какой стране я мог бы жить. Лишь на шестом десятке лет я убедился, что сейчас мы, построссийская Россия, в наибольшей степени дистанцировались, как ни странно, именно от имперского периода русской истории, который и породил Санкт-Петербург.
Мы сейчас — страна третьего мира, то есть такая страна, у которой либо не было истории, либо она отторгнута от своей прошлой истории, как Египет арабский отторгнут от истории Древнего Египта. Это потеря самих себя. И на наших глазах, безусловно, рождается новая страна, в которой элементы Московии будут сочетаться с гораздо более им созвучными элементами советскости, приправленными каким-нибудь пантюркизмом…
Для меня рождающаяся страна будет, безусловно, в религиозном плане неоязыческой, в государственном отношении — повышенно этатистской, в экономическом плане — преимущественно сырьевой… В такой стране для развития культуры будет очень мало оснований, как их мало вообще в современном мире: современный мир во имя массовой культуры готов пойти на сдачу позиций высокой культуры. Но тем не менее плюрализм Запада позволяет пока еще сохранять сочетание «Макдоналдса» с рестораном высочайшего уровня. Как-то с моим приятелем, венгерским священником, я заехал на виноградник в отдаленной части Венгрии. Тамошний виноградарь — фанатик своего дела. Он архаичным способом производит не больше пятисот бутылок в год удивительных, мало кому известных белых венгерских вин, очень популярных когда-то, но французами отодвинутых на второй план. Я встречаю там приехавшую из Англии «тетку», совсем не похожую на британскую леди, которая профессиональнейшим образом дегустирует вина, отбирает их для лучших ресторанов Америки и Англии — там такие вещи еще ценят. Понимаете, какие это разные миры? Так же и в культуре. Но и в западном мире значение культуры в высоком смысле этого слова падает. Вообще общемировые тенденции в наших условиях нередко приобретают, что мы неоднократно видим в прошлом, гораздо более разрушительный характер, и более того — характер необратимый. То есть мы в конечном итоге прошли, как мне кажется, точку своего культурно-исторического и религиозного апогея. Увы, утопив в крови многих носителей именно высокой русской культуры.
ОЗ: Вы — пессимист?
Г. М.: Я считаю, что я — реалист. Как Виктор Петрович Астафьев, например. Нас с ним разделяет только то, что он, в общем и целом, был в чем-то дистанцирован от христианского мировоззрения, к которому очень трудно, но искренне шел, в отличие от других «деревенщиков», которые с легкостью из парткомов перекочевали в храмы. Но его взгляд был гораздо более честный и реалистический, и более сострадательный, потому что нельзя же так издеваться над русским народом, который, надорвавшись в XX веке, должен сейчас с легкостью демонстрировать примеры православного благочестия, какого-то культурного расцвета, экономического успеха. Он таков, каков он есть, после того что с ним произошло. Наш народ в самом деле попытался совершить историческое самоубийство, искалечил себя, но он остался жив. Велика ответственность за это его элит, в том числе элиты церковной, которая, конечно, сейчас может избавить себя от труда размышления об этом, потому что лучшие по сути были уничтожены, а они-то уже тогда размышляли о своей ответственности за происходящее.
В словах священномученика митрополита Кирилла Смирнова, обращенных к патриарху в 1924 году, на самом деле содержится великое и печальное откровение: «Мы, архиереи, только и годны на то, чтобы сидеть в тюрьмах». Это была констатация исторического банкротства нашей церковной иерархии. Хотя эти слова были сказаны одним из лучших наших архипастырей, он как раз очень много делал и до революции, и после, чтобы Церковь осталась сама собой. В своем выступлении на презентации книги «Русская Православная Церковь на историческом перепутье XX века» я произнес слова, из-за которых некоторые священнослужители сказали, что мне руки больше не подадут. А я только сказал, что меня не интересует ни судьба экс-Советского Союза, ни судьба Российской Федерации, потому что на вопрос философа Владимира Соловьева, содержащийся в стихотворных строках: «О, Русь! В предвиденье высоком / Ты мыслью гордой занята; / Каким же хочешь быть Востоком: / Востоком Ксеркса иль Христа?», и экс-Советский Союз, и Российская Федерация ответили, что хотят быть «Востоком Ксеркса», а не «Востоком Христа». Но сейчас такой же вопрос стоит перед церковью, и я очень опасаюсь, что в лице многих своих представителей она готова в новых идеологических проектах стать «Церковью Ксеркса», и вот это меня волнует, потому что если мы потеряем церковь — мы потеряем все. Потому что в конечном итоге ничего кроме характер, и более того — у нас не осталось. Церковь постепенно умирает, когда начинает встраиваться в антихристианскую парадигму жизни — а мы этим занимались весь советский период, но тогда хотя бы мы пытались физически выживать, — зачем же делать это сейчас? А делается это именно потому, что церковь часто наполнена людьми, у которых идеология, замешанная на всех наших исторических комплексах, заменяет собой Христову веру. Это предчувствовал отец Александр Шмеман, когда говорил об идеологизме как главной опасности христианской жизни. Отчасти это можно найти и на Западе, но не в такой форме, как у нас, и не в такой степени, как у нас.
Христиане должны сказать спасибо секуляризации, потому что она не дает возможности заидеологизированным христианам, именно как христианским идеологам, а не пастырям, играть в церковной жизни большую роль.
ОЗ: У нас принято, особенно в православных кругах, ругать секуляризацию, говорить, что это плохо. Вы не согласны с этим?
Г. М.: Это явление, как и многие другие явления истории, двояко. Вот, например, распространение грамотности — это и хорошо и плохо: она открывает более прямой путь и к истине и ко лжи. То же самое и секуляризация. И важно, чтобы церковь сумела ее использовать себе во благо, как, например, использовала это католическая церковь в Австро-Венгрии, когда там в XVIII веке император Иосиф II проводил мягкую секуляризацию. Это привело к тому, что даже при Яноше Кадаре лучшими школами в Венгрии оставались бенедиктинские гимназии.
Знаете, о чем нам следует задуматься? Почему по окончании Первой мировой войны, в отличие от армий побежденных Австро-Венгрии и Германии, где фронтовики подавили большевизм, почти 12-миллионное христолюбивое воинство Российской империи, которая была страной-победительницей, стало основным резервом большевистской революции? Задуматься надо также над тем обстоятельством, что в рухнувшей Российской империи большевизм удалось подавить почему-то только на территориях протестантских и католических — в Финляндии, Прибалтике, Польше, включая Западную Украину и Западную Белоруссию. А на православных и мусульманских землях «призрак коммунизма», по Европе лишь бродивший, расположился на многие десятилетия. Нам нужно было бы задуматься над тем, что советизация Восточной Европы проходила гораздо глубже и успешнее в православных странах, чем в католических. Из этого можно сделать вывод, что в каком-то смысле слова в православном мире не получилось ощутимой и очевидной социально-культурной проекции христианства. Это не потому, что мы не церковь. Мы, естественно, церковь, но своеобразие наше, во многом роковое и в нынешних условиях имеющее наиболее опасные последствия, выразилось в том, что мы оказались не способны, выстроив какую-то социально-культурную проекцию христианства, адаптироваться к секуляризации, которая происходила везде.
Сейчас наша задача заключается в том, чтобы ответить на главный вопрос: почему за какую-то четверть XX века 100-милионный русский православный народ почти полностью уничтожил крупнейшую поместную церковь православного мира? И ответы на эти вопросы лежат не в 1917 году, и даже не в XVII веке.
ОЗ: Кстати говоря, Петр Чаадаев в свое время, пытаясь ответить на этот вопрос, пришел к выводу, что проблема вообще в нашем византийском пути.
Г. М.: Да, это очень серьезно. Я своего сына ориентировал так: будущий богослов должен получить историческое образование, и, как говорил отец Георгий Флоровский, именно византологическое. И вот — он уже в 28 лет защитил докторскую диссертацию в университете. В отличие от кандидатской она обращена более к западной медиевистике, чем к византологии. Углубившись в историю Византии, мой сын понял, что в общем и целом понять многие византийские проблемы можно, лишь восполнив опыт изучения Византии опытом изучения западного Средневековья. И к чему приведут моего сына его церковно-исторические исследования — я не знаю. Во всяком случае чаадаевских выводов пока еще не предвидится… Многие из нас на протяжении нашей недавней советской истории пытались сохранить себя в мифе о России, которую мы потеряли. Никуда она не потерялась — куда она такая большая денется, — просто она стала такой, какой она остается сейчас. Вот почему она стала такой? Это проблема очень серьезная, экзистенциальная, культурная и, конечно же, религиозная. Перспективу достойного будущего нашей страны и нашего народа я связываю лишь с одной очевидной для христианина любой страны и любого народа аксиомой: мы еще можем из себя что-то представлять, пока у нас церковь будет оставаться Церковью Христовой…
Беседовал Алексей Муравьев
16 ноября 2012 года
