Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 1, 2013
Трудно сказать, когда в научной и общественно-политической литературе впервые было использовано понятие «постсекулярное». Можно лишь утверждать, что уже в 90-х годах XX века оно начинает мелькать в исследовательских трудах, посвященных критике современной практики и теории секуляризма[1]. В фокусе же внимания политических философов, социологов, а затем и средств массовой информации постсекулярное оказалось во многом благодаря немецкому философу Юргену Хабермасу, который, как и положено настоящему интеллектуалу, «первым почуял важное» и заговорил о «постсекулярном состоянии общества» после трагических событий 11 сентября, которые, по словам Хабермаса, взорвали и без того «напряженные отношения между секулярным обществом и религией»[2].
После интеллектуального вторжения Хабермаса и во многом вследствие него происходит лавинообразный рост интереса к постсекулярной проблематике. Как на Западе[3], так и в России[4]одна за другой выходят монографии и статьи на эту тему. Красноречивые свидетельства тому дают интернет-поисковики: если в 2004 году Google выдавал на слово Post-Secular всего несколько тысяч ссылок, то в 2012-м — уже почти 70 млн. Однако рост интереса и даже своеобразная мода на постсекулярное никоим образом не свидетельствуют о том, что само понятие полностью разъяснено. Напротив, даже в научных изданиях[5], не говоря уже о журналистских статьях, концептуализация постсекулярного нередко не идет дальше абстрактной, пусть и вполне верной интуиции: «раньше религии было мало, а теперь ее стало много». Именно поэтому попытка обозначить ключевые смысловые пункты проблематики постсекулярного представляется как никогда актуальной и даже насущно необходимой.
Постсекулярное как новая эмпирическая реальность
Вплоть до недавнего времени среди исследователей, а под их влиянием и в публичном пространстве доминировало представление, согласно которому религия и современность несовместимы[6]: чем больше одного, тем меньше другого, и наоборот. Секуляризация, то есть «утрата религией своей социальной значимости»[7], мыслилась как неотъемлемая составляющая современности как таковой. Действительно, радикальная модернизация, сопровождающаяся урбанизацией, индустриализацией, стремительным развитием научного знания, политическими трансформациями, ломала традиционный уклад, неразрывно связанный с религией. Последней отводилась роль отмирающего символа Средневековья, на смену которому — неважно, во благо или во зло — должна была прийти научная, светская альтернатива.
Однако в 90-х годах XX века — а возможно, даже раньше — с провалом советского атеистического проекта, подъемом фундаменталистских движений, развитием нетрадиционных форм религиозности стало ясно, что ситуация качественно изменилась. В частности, вышеупомянутый Юрген Хабермас очень чутко уловил новую реальность, которая затрагивает не только экзотические для европейца исламские или восточнохристианские общества, но и колыбель секуляризма, то есть саму Европу. Хабермас обратил внимание на целый ряд фактов, принципиально несовместимых с европейским представлением, будто религия в современном мире играет исключительно маргинальную роль. Самый очевидный из них — то, что СМИ преподносят значительную часть из современных конфликтов как религиозные, из чего любой европеец может сделать напрашивающийся вывод о том, «сколь относительно в мировом масштабе его секулярное сознание». Это подрывает секуляристскую веру в исчезновение религии в обозримом будущем и лишает такое видение мира триумфального рвения и пыла. Более того, религии усиливают свои позиции и внутри национальных государств. По словам Хабермаса, «церкви и религиозные организации все в большей мере берут на себя роль "интерпретирующих сообществ", действующих на публичной арене в секулярной среде. Они могут оказывать воздействие на формирование общественного мнения и общественной воли, внося свой вклад в обсуждение ключевых тем — независимо от того, насколько убедительны их аргументы». Наконец, «зримое присутствие в европейских странах полных жизни "чужих" религиозных сообществ» не только подтверждает гипотезу о том, что религия никоим образом не маргинализируется, но еще и «стимулирует внимание к "своим" церквам и конфессиональным общинам. Соседство мусульман
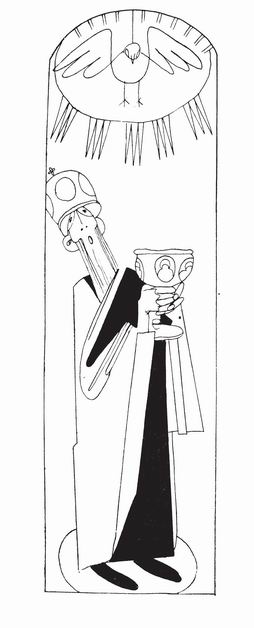
принуждает сограждан-христиан так или иначе соотносить свою деятельность с практикой "конкурирующей" веры»[8].
Представление о полном торжестве секуляризации вызывает все больше вопросов и возражений. Американский социолог Питер Бергер, прежде один из самых ярых его апологетов, в одном из относительно недавних интервью констатировал: «Я думаю, что написанное мной и большинством других социологов религии в 60-е гг. о секуляризации было ошибочным. Мы исходили из убеждения, будто секуляризация и современность сопутствуют друг другу. Чем больше модернизации, тем больше секуляризации. Это не было безумной теорией, поскольку существовали факты, подтверждавшие ее. Но в основе своей, я думаю, она была ложной. Большая часть мира сегодня не является светской. Она очень даже религиозна»[9].
Осталось ли еще какое-то нефальсифицированное положение теории секуляризации? Американский социолог Хосе Казанова в книге «Публичные религии в современном мире»[10] попытался выделить три ключевых смысла, которые вкладывались в понятие секуляризации. Речь шла: 1) об утрате религией своей социальной значимости; 2) о приватизации религии; 3) о социальной дифференциации и превращении религии в одну из подсистем общества наряду с несколькими другими. По мнению Казановы, в современных условиях термин «секуляризация» сохраняет свою эмпирическую значимость лишь в третьем значении[11]. Ведь достаточно просто следить за новостями, чтобы обратить внимание на все более заметное возрастание социальной роли религии и все более активную ее «деприватизацию», в ходе которой она вполне легитимно и успешно осваивает публичное пространство, помогая свободе и правам человека не утратить своей значимости после того, как модернизация «сошла с рельсов»[12]. В частности, Казанова демонстрирует, как именно религии помогли конструировать публичное пространство в Польше, а также способствовали публичным дискуссиям о либеральных ценностях в США.
Однако Талал Асад, критикуя Казанову, справедливо указывает на то, что даже в третьем значении секуляризация может быть поставлена под сомнение, ведь «если религия становится интегральной частью современной политики, то значит, она уже не может быть безразлична к дискуссиям о том, какой именно должна быть экономика, какие научные проекты должны получать финансирование, какими должны быть стратегические цели государственной системы образования. Легитимное вторжение религии в эти дебаты приводит к появлению современных "гибридов": принцип структурной дифференциации, в соответствии с которым религия, экономика, образование и наука локализованы в автономных социальных пространствах, более не имеет силы»[13]. Таким образом, тезис о секуляризации был фальсифицирован во всех возможных значениях, а мы оказались в совершенно новой эмпирической реальности, которая уже не может быть описана с помощью прежних концепций. Именно эту реальность и пытается ухватить концепция постсекулярного.
Все более заметное усиление социальной значимости религии нередко порождает опасения «нового средневековья» со всеми вытекающими последствиями вроде отказа от завоеваний Нового времени и расцвета «религиозного мракобесия». В основе подобных страхов лежит достаточно популярная идея циклической смены периодов веры и неверия — «маятниковых колебаний»[14] от господства религиозного сознания к доминированию секулярного и обратно. На этом строится близкая к постсекуляризму концепция десекуляризации[15], предложенная изначально Питером Бергером, а затем наиболее полно теоретически развитая Вячеславом Карповым в статье «Концептуальные основы теории десекуляризации». Согласно Карпову «десекуляризация — это процесс контрсекуляризации, в ходе которого религия восстанавливает свое влияние на общество в целом, реагируя на предшествующие и/или сопутствующие секуляризационные процессы»[16]. Однако содержащийся в термине «десекуляризация» намек на «восстановление» и обращение секуляризации вспять делает его, с нашей точки зрения, не вполне удачным.
Новая реальность, возникающая на наших глазах и названная «постсекулярной», вовсе не означает возвращение в досовременную эпоху. Постсекулярность, в отличие от десекуляризации, подразумевает дальнейшее движение, а не обратное колебание маятника. И здесь вполне можно согласиться с Грегором Макленаном, считающим, что приставку «пост-» в слове «постсекулярное» следует трактовать не в смысле «анти-» или «после-секулярного», но скорее в смысле «дальше-секулярного»[17]. Постсекулярность не предполагает возврата в средневековье, который можно допустить разве что в качестве фигуры речи, ибо новая, постсекулярная, ситуация возникает на фундаменте, заложенном в ходе многовековых процессов секуляризации, результаты которых — будь то развитие светского научного знания, становление светских политических институтов, развитие светского права и т. д. — отбросить трудно, если вообще возможно[18]. К постсекулярной реальности с ее так называемыми гибридами привела вся динамика современности, и в частности сама секуляризация как неотъемлемая ее часть. Та просто оказалась не всемирно-историческим процессом, не универсальным и необратимым вектором, но лишь одним из этапов истории человечества, имеющим свое начало и свой конец.
Таким образом, первое и наиболее очевидное значение постсекулярного связано с фальсификацией тезиса о секуляризации и констатацией новой эмпирической реальности, в которой религия отнюдь не «утрачивает свою социальную значимость», а, наоборот, начинает играть активную роль в развитии современного мира, формируя пока еще не вполне изученные «гибриды», то есть сочетания религиозного и светского. Эта новая реальность еще только нуждается в детальном описании и документировании.
Постсекулярное как новая нормативная установка
Однако в рамках постсекулярной парадигмы наука пытается ответить и на вопрос о том, какие практические следствия для функционирования современного, прежде всего демократического, общества будет иметь новая ситуация. Именно в этом отношении решающий вклад в разработку постсекулярной парадигмы внес Юрген Хабермас. Во многом продолжая линию размышлений, начатую Джоном Ролзом[19] в работах о «публичном использовании разума», Хабермас поставил вопрос о том, «как мы должны понимать свою роль в качестве членов постсекулярного общества и чего ожидать друг от друга, если мы хотим обеспечить в наших исторически прочных национальных государствах цивилизованное обращение граждан друг с другом, несмотря на беспрецедентное разнообразие культур и религиозных мировоззрений?»[20]
Подобная постановка вопроса вытекает из самих принципов функционирования современного конституционного демократического государства. Чарльз Тейлор обращает внимание на то, что начиная с XVII века космическорелигиозные концепции политического порядка сменились в Европе представлениями, что общество «восходит снизу» и существует для защиты, а также взаимной выгоды равных друг другу членов. Такого рода теории содержат в себе очень мощное нормативное измерение, освящающее три ключевых принципа: 1) права и свободы членов общества; 2) их равенство друг перед другом; 3) принцип основания права на согласии людей[21]. Эти нормативные принципы требуют равного вовлечения всех членов общества в дискуссии, касающиеся общезначимых вопросов. Законы и институты подобного общества должны вытекать из согласия и убежденности в том, что общество и его будущее принадлежит всем членам без исключения.
И здесь возникает проблема плюрализма мировоззрений тех граждан, которые в идеале должны достигать согласия. Монологический диктат какого-то одного мировоззрения (например, секулярного) более невозможен, причем сразу по двум причинам. Нормативный аспект нами уже обозначен: требование равенства граждан вне зависимости от их мировоззрения и основание современного общества на согласии всех его членов. Но есть и второй аспект — эпистемологический, возникший в связи с разочарованием в возможностях науки и основных секулярных мировоззрений дать ответ на ключевые морально-практические вопросы, волнующие человека. Уже упоминавшийся Хосе Казанова объясняет факт активизации религий в публичном пространстве именно тем тупиком, в который общества заводит секулярная модернизация. Приветствуя феномен «публичных религий», Казанова отмечает, что он способен сыграть позитивную роль, в частности, скорректировать некоторые из опасных перегибов современности, так как «религия нередко служила и продолжает служить в качестве оплота против "диалектики просвещения", как защитник прав человека и гуманистических ценностей против секулярных сфер и их притязаний на абсолютную внутреннюю функциональную автономию»[22]. У Юргена Хабермаса схожая интерпретация: его интерес к религиям — во многом сугубо функциональный — связан именно с осознанием того, что религиозные традиции могут помочь «сходящей с рельсов модернизации»[23].
Постсекулярная установка, согласно Хабермасу, предполагает новые условия взаимодействия между светскими и религиозными группами, каждая из которых опирается на свой интеллектуальный, культурный и ценностный фундамент. В их рамках следует выработать справедливый консенсус, для достижения которого обе стороны должны возложить на себя равное бремя по обеспечению плодотворной коммуникации.
Секулярной стороне нужно умерить свой пыл и не просто признать за оппонентами право на полноценное существование и участие в общественно-политической жизни, но еще и допустить наличие в религиозном дискурсе некоторого истинного «когнитивного содержания», которое должно быть распознано и переведено на общедоступный светский язык, а затем использовано для укрепления основ современного конституционного демократического государства.
Религиозная сторона, в свою очередь, должна, во-первых, примириться с наличием иных религий и мировоззрений и занять по отношению к ним «эпистемическую установку», то есть продемонстрировать готовность иметь эти альтернативы в виду, не подвергая, естественно, сомнению исключительность собственного учения о спасении. Во-вторых, религиозные граждане должны занять «эпистемическую установку» по отношению к «своенравию секулярного знания и к общественно институционализированной монополии научных экспертов на знание». Это подразумевает признание того, что «автономный процесс познания не может впасть в противоречие с высказываниями, релевантными для спасения». Наконец, в-третьих, «религиозные граждане должны найти эпистемическую установку к тому приоритету, которым секулярные основания обладают и на политической арене»[24]. Если обе стороны окажутся готовыми возложить на себя подобное бремя, то постсекулярное общество окажется устойчивой и взаимовыгодной формой существования носителей разных мировоззрений.
Последнее из выдвигаемых требований к религиозным гражданам наиболее интересно: будучи рационалистом, Хабермас однозначно утверждает эпистемологический приоритет секулярного мировоззрения как более рационального, более универсального и, соответственно, более весомого для развития общества. Не будем сейчас останавливаться на вопросе о том, насколько верна эта позиция Хабермаса, отметим лишь, что именно в этом пункте разворачиваются наиболее активные дискуссии, касающиеся постсекулярного общества: если религиозное мировоззрение менее весомо, чем секулярное, но при этом его носители все же могут участвовать в публичных дискуссиях, то до каких пределов? Иными словами, где именно должен быть установлен фильтр, пропускающий религиозные содержания дальше лишь при условии перевода на универсальный и общедоступный язык секулярного мировоззрения? При входе в публичное пространство? При входе в институты светского государства? При входе в нормативные документы светского государства?
Линия размышлений о постсекулярном, заданная Хабермасом, до сих пор является одной из магистральных. Отсюда вырос продолжающийся до сих пор спор «инклюзивистов» и «эксклюзивистов»[25], предлагающих разные способы

устройства публичного пространства в ситуации, когда ни одно мировоззрение уже не может, исходя из уверенности в собственной большей рациональности, по умолчанию претендовать на право «монологического диктата».
Таким образом, во втором значении постсекулярное — это новая нормативная установка, позволяющая гарантировать стабильное существование современных демократических обществ в условиях беспрецедентного плюрализма и невозможности монологического диктата какого-то одного якобы более рационального и потому привилегированного мировоззрения (в частности, мировоззрения секулярного).
Но так ли все просто? Постсекулярное как новая оптика
Интерпретация постсекулярного в работах социологов религии и политических философов, в частности того же Хабермаса, может создать впечатление, будто постсекулярное — это очень простая концепция, суть которой в признании ложным незыблемого некогда убеждения в неразрывной связи между модернизацией и секуляризацией, а также в констатации того, что религия не маргинализируется, а, наоборот, пусть и парадоксальным образом, продолжает существенно влиять на жизнь современного, теперь уже глобального общества. А главная задача такого общества — отказаться от монологического диктата секулярного мировоззрения и выработать справедливые механизмы взаимодействия светских и религиозных сограждан, которые бы не накладывали ни на одну из сторон «асимметричного бремени» и серьезно подходили бы к тому содержательному вкладу, который предлагается каждой из сторон.
Однако простую и ясную концепцию постсекулярного придется несколько усложнить. Дело в том, что постсекулярная парадигма — это не просто провозглашение тезиса об усилении социальной значимости религии, но еще и новая оптика, позволяющая иначе взглянуть на саму дихотомию религиозное/светское[26], а также на идеологию и практику секуляризма. Ведь в самом термине «постсекулярное» в отличие от десекуляризации содержится указание на проработку и преодоление секулярного, на выход за его предел. А если учесть, что секулярное чаще всего определяется как нечто противоположное религии, то постсекулярное подразумевает также и преодоление религии, выход в пострелигиозное пространство.
Существует расхожее и с точки зрения здравого смысла совершенно логичное представление, согласно которому религиозное и секулярное представляют собой два извечных и противоположных полюса, которые последовательно сменяют друг друга на различных этапах исторического процесса. Соответственно Средние века мыслятся как период доминирования религиозного начала над светским, в Новое время, наоборот, пальму первенства захватывает светское, а в наше время, когда секуляризация замедляется и даже преодолевается, происходит очередное смещение акцентов в сторону религиозного начала. Постсекулярная парадигма подразумевает пересмотр этого распространенного убеждения. Один из самых парадоксальных и интересных ее тезисов заключается в том, что не существует религиозного и секулярного самого по себе. Это не трансисторические константы, а возникающие в истории формы со своим началом и своим концом. Религия, определениями которой переполнены современные учебники по религиоведению, — не извечная сущность, но плод вполне конкретных исторических процессов, в ходе которых она изобретается и конструируется. И, как ни парадоксально, происходит это именно тогда, когда, согласно расхожему представлению, ее начинает вытеснять все более усиливающееся секулярное начало, то есть в Новое время. Поэтому возьмем слово «религия» в кавычки и будем понимать под ним тот самый конструкт, который сегодня кажется единственно возможным, а на самом деле возник только в Новое время. «Религия» появляется в результате секуляризации, а конец секуляризации, как ни парадоксально, означает исчезновение «религии», ее погружение в пучину истории.
Что имеется в виду под парадоксальным тезисом о том, что религия возникает только в Новое время[27]? Можно ли утверждать, что прежде никакой религии не было?
Прежде всего заметим, что религии «вообще» не существует: разные общества в разные исторические периоды понимали под словами religio или religion различные реальности в зависимости от того, что считалось там ценным, что необходимо было выделить, так сказать, «отнести к ценности», пользуясь языком неокантианцев. Считать иначе — значит вслед за Платоном постулировать существование неизменных идей, и в частности, идеи «религии», являющейся прообразом множества реальных религий, существовавших и продолжающих существовать в истории.
Само слово religio[28] известно еще с Античности, и в те времена оно означало особую добродетель, заключающуюся в «воздаянии чему-либо или кому-либо всего того, что ему причитается». Поэтому, возможно, более корректный перевод religio — не «религия», а «религиозность». В античные времена эта добродетель «подобающего отношения» могла практиковаться в отношении самых разных объектов: суда, закона, родителей, богов, обычаев и т. д. С началом христианской эпохи ее смысл несколько модифицируется: Августин в трактате «О граде Божьем»[29] указывает на то, что religio следует понимать как «подобающее отношение» не к чему угодно, а исключительно к единому высшему Богу. Подобное понимание религии сохраняется вплоть до начала Нового времени и особенно четко прописано Фомой Аквинским в «Сумме теологии». Позднее религия как добродетель уходит на второй план, собственно, вместе со всем дискурсом добродетелей[30]. Однако происходит это, по словам Эрнста Фейла, не ранее середины XVI века: «Я нахожу вплоть до середины XVI века <.. .> примечательно сильную приверженность классической римской концепции religio. <…> Religio обозначает аккуратное и исполненное благоговения выполнение всего того, что человек обязан Богу или богам»[31].
На это можно возразить, что речь идет не о слове «религия», которое в разные эпохи действительно могло значить разное, но о некой трансисторической сущности, которая присутствует в любом обществе, пусть и под разными названиями. Попробуем ответить и на это возражение. Прежде всего заметим, что сама сущность ухватывается лишь через слова и язык — это, как известно, «дом бытия», и чего не существует в языке, не существует в действительности.
Что такое «религия» в современном понимании, претендующем на схватывание ее трансисторической сущности? Во-первых, у «религии» как у родового понятия есть ряд отличительных признаков, будь то «вера в сверхъестественное» или же «связь с трансцендентным», и, соответственно, история знала различные воплощения этих родовых признаков. Во-вторых, «религия» — это особый тип мировоззрения, особый тип верований, суждений о Боге и устройстве мира. В-третьих, «религия» — это еще и некоторое внутреннее чувство, внутренний импульс, упрятанный глубоко в душе человека. Наконец, в-четвертых, «религия» — это особая подсистема общества, связанная со спасение души, поклонением Богу, отличная от политики, экономики, права и т. д.
Здесь надо сразу отметить следующее: ни одна эпоха и ни одна культура не знала «религии» ни в одном из перечисленных значений. Сопоставим, к примеру, современную европейскую ситуацию со средневековой[32]. Во-первых, в Средние века religio не была универсальным родовым понятием, а христианство не было его особым видом. В Средние века существовала только одна истинная religio, суть которой — в поклонении Богу-Отцу, Богу-Сыну и Богу-Святому Духу. Все остальные религии, если в отношении них вообще используется слово religio, считаются ложными. В Новое время, соответственно, ситуация меняется. Например, Иммануил Кант в работе «Религия в пределах только разума» прямо заявляет, что есть «одна (истинная) религия, но могут быть различные виды веры»[33]. Сегодня эта позиция представлена практически во всех учебниках по религиоведению. Во-вторых, religio не была мировоззрением, системой суждений или верований. В Средние века под religio понимали добродетель, настрой личности, возвышавший ее действия до участия в жизни Троицы. Об этом подробно пишет Фома Аквинский в «Сумме теологии», добродетель — это его основное эксплицитное, отдельно прописанное определение religio[34], пусть даже порой он и употребляет данное понятие в иных смыслах. Религия не была мировоззрением и уж тем более некоей «верой в сверхъестественное». Такое понимание возникает гораздо позже, согласно У. К. Смиту, к XVII веку, когда основными вопросами становятся вопросы эпистемологии, то есть познания: «религия» теперь трактуется прежде всего как набор идей, который нужно анализировать исходя из того, насколько они истинны с точки зрения разума. По словам Смита, отныне при определении религии ключевым становится не то, чем «религия является», а то, чему «религия учит»[35]. Именно такое понимание религии зафиксировано в просвещенческих теориях, а также, к примеру, в советском марксизме, считавшем сущностной особенностью религии «веру в сверхъестественное» и критиковавшей эту веру с позиции разума. В-третьих, religio не была сугубо внутренним импульсом, спрятанным в глубинах человеческой души. Средневековая religio — это набор навыков, которые становятся «второй природой» посредством регулярных упражнений души и тела. А церковь — это не просто учреждение, занимающееся душепопечением, но мощная машина, переводящая человека из одного состояния в другое с использованием самого широкого диапазона дисциплинарных воздействий: от увещевания до смертной казни в качестве радикальной меры, для которой привлекаются ресурсы мирских властей. «Религия чувств» возникает гораздо позднее — у Фридриха Шлейермахера, а апогея своего развития она достигает в модном ныне дискурсе о «духовности». Наконец, religio не была особой подсистемой общества, связанной со спасением души и поклонением Богу. Это наиболее очевидно, так как дифференциация общества на различные подсистемы, руководствующиеся собственной логикой и собственными ценностями (об этом подробнее чуть ниже), — это, согласно основным теоретикам модернизации (Макс Вебер, Юрген Хабермас, Талкотт Парсонс), ключевой признак современного общества. Такой дифференциации не знали ни Средневековье, ни Античность[36]. Разве можно вычленить из христианского универсума Средневековья «религию» как обособленную сферу, отличную от политики или экономики?
Последний пункт указывает на ключевое изменение, которое, собственно, и привело к появлению современной «религии»: превращение религии из всеобъемлющей, всепроникающей сущности в одну из подсистем общества, которой не пристало вмешиваться в политику и экономику, ее превращение в частное, почти интимное дело человека. В этом обособлении собственно и заключается акт конструирования, творения «религии» на пороге Нового времени. Как писал в одном из своих писем Спиноза, «определение значит отрицание»: чтобы определить нечто, необходимо обозначить его границы, выяснить, где оно заканчивается и начинается то, что им уже не является. Именно установлением границ «религии» и занялись в начале Нового времени.
Одна из наиболее показательных фигур в этом отношении — Джон Локк, который, собственно, и взял на себя функцию отделения «религии» от того, что ею не является. Локком двигали благородные мотивы: он желал веротерпимости и религиозной свободы, но именно во имя этой цели ему и пришлось жестко ограничить религию, положив ее предел в заботе о «жизни будущей» и «спасении души»[37]. Все же вопросы, касающиеся «гражданских благ» и «дел этой жизни», по мысли Локка, должны быть переданы в сферу компетенции светской власти. Идея Локка совершенно понятна: для обеспечения религиозной свободы и веротерпимости необходимо жестко ограничить сферу ответственности религии, ибо в противном случае все будет объявлено ее делом, а любое покушение на действия той или иной общины будет восприниматься как нарушение той самой чаемой религиозной свободы[38] (именно поэтому Локк не был готов распространить принцип веротерпимости на папистов, то есть католиков, не признававших обозначенных им границ религии).
В социологической литературе процесс изобретения «религии» принято описывать с помощью тезиса о социальной дифференциации. Суть этой концепции проста. В самом общем смысле дифференциация — это процесс усложнения общества через его специализацию: за каждую функцию начинает отвечать отдельный институт[39]. Как поясняет Карел Доббелере, в результате модернизации общество дифференцируется вдоль функциональных линий, развиваются соответствующие функциональные подсистемы (экономика, политика, наука, семья и т. д.). Каждая подсистема действует на основе собственного опосредующего элемента (деньги, власть, истина, любовь), а также на основе собственных ценностей (успех, разделение властей, надежность и достоверность, первостепенная значимость любви и т. д.) и норм[40]. Однако эту дифференциацию нельзя считать единственно возможным воплощением сущности экономики, политики, права, науки и, наконец, религии. Появление сегодняшних постсекулярных «гибридов» как раз и высвечивает всю историчность, временность и в конечном счете бренность этой дифференциации.

То, что верно в отношении «религиозного», верно и в отношении второй части дихотомии, то есть в отношении секулярного[41]. Секулярного в современном значении до Нового времени не существовало. Секулярное, как и «религия», могло появиться лишь в результате долгого процесса исторических трансформаций и усилий по его конструированию (прежде всего за счет ряда оппозиций: рациональное/иррациональное; разум/чувства; знание/вера; свет/тьма; прогресс/ реакция; естественное/сверхъестественное; мужское/женское; мужество/малодушие; свобода/рабство; посюстороннее/потустороннее, первая часть которых относится к секулярному, а вторая — к религиозному). Позволю себе процитировать Хайдеггера:
…Некоторые явления Нового времени можно толковать как секуляризацию христианства, однако на самом деле все разговоры о секуляризации — вводящее в заблуждение недомыслие, потому что секуляризация, обмирщение уже предполагает мир, к которому двигалось бы и в который входило бы обмирщение. Но все дело в том, что saeculum, мир сей, через который совершается обмирщение при пресловутой секуляризации, не существует сам по себе и не появляется сам по себе при нашем выходе из христианского мира[42].
Вместо вводящих в заблуждение попыток мыслить в понятиях некоей универсальной дихотомии «религиозное/секулярное» постсекулярная парадигма предлагает понимать переход от религиозного Средневековья к секулярному Новому времени и, наконец, к нынешней постсекулярной ситуации как последовательную смену разных эпистем со своими «грамматиками понятий» и подразумеваемыми ими разными «формами жизни». Эти эпистемы, естественно, внутренне связаны между собой, однако это не отменяет того качественного разрыва, который происходит при переходе от одной к другой.
Что касается Средних веков, то здесь, используя язык социологии религии, стоит говорить не о «золотом веке» религиозности или же об эпохе тотальной воцерковленности и набожности, а скорее о «веке регулируемого религиозными требованиями социального порядка»[43]. По всей видимости, следует поставить под сомнение само разделение на религиозное и секулярное как два взаимоисключающих полюса. В Средние века — все настолько религиозно, что даже само разделение на мирское и религиозное мыслится в рамках теоцентрической картины мира. Позволю себе предложить обширную цитату из канадского философа Чарльза Тейлора, размышляющего о средневековой эпистеме и о тех трансформациях, которые она претерпевает при переходе к Новому времени:
Давайте проанализируем некоторые из черт «светского» как категории, получившей развитие в рамках латинского христианства. Вначале это была часть диады. Светское имело отношение к «веку» — то есть к профанному времени, — в противоположность тому, что относилось к вечному или сакральному времени. Некоторые периоды, личности, институты и действия рассматривались как тесно связанные с сакральным, или высшим временем, иные же — как относящиеся сугубо к профанному времени. Именно поэтому схожее разделение могло выражаться через использование диады «духовное/темпоральное» (например, государство как инструмент церкви в пространстве мирского). Таким образом, обычные приходские священники считались «светскими», так как действовали внутри «века» — в отличие от состоящих в монашеских орденах «регулярных» священников, которые жили по правилам своего монашеского ордена.
Исходя из этого мы получаем самое простое определение «секуляризации», которое возникает в эпоху Реформации и означает, что некоторые функции, собственность или институты изымались из-под контроля церкви и передавались мирянам.
Подобные переходы изначально осуществлялись внутри системы, которая удерживалась всеобъемлющей диадой; вещи перемещались из одного пространства в другое в рамках устоявшейся системы координат. При сохранении такого понимания «светского» секуляризация превращается в относительно рядовой процесс, сравнимый с перестановкой мебели в помещении, основные точки опоры которого остаются неизменными.
Однако начиная с XVII века возникает новая конфигурация, новая концепция социальной жизни, в которой «светским» исчерпывается все существующее. Так как «светское» изначально отсылало к профанному или повседневному времени в противовес времени высшему, было необходимо найти такое понимание профанного, которое бы не требовало никакой к нему отсылки. Слово продолжало использоваться как ни в чем не бывало, однако его смысл подвергся кардинальному изменению — противоположный полюс оказался полностью изменен. Отныне противопоставление шло не по линии темпорального измерения, в котором «духовные» институты имели собственную нишу. Светское в своем новом значении стало несовместимо с любыми притязаниями к этому миру и его интересам, выдвинутыми от имени чего-то трансцендентного. Очевидно, что разделявшие новое понимание «светского» считали такого рода претензии в высшей степени безосновательными, а само религиозное мировоззрение заслуживающим права на существование только до тех пор, пока оно не бросало вызов интересам мирских властей и мирского благополучия человека[44].
Таким образом, переход от религиозного Средневековья к секулярному Новому времени — это не просто колебание маятника от религиозного полюса к секулярному, а трансформация всей конфигурации, подразумевающая изменение всех привычных точек опоры. Талал Асад проясняет некоторые из ее аспектов:
В процессе секуляризации происходит примечательная идеологическая инверсия. <…> Сначала «секулярное» было частью теологического дискурса (saeculum). Секуляризация (saecularizatio) тогда обозначала легальный переход от монашеской (regularis) к канонической жизни (saecularis), а затем, после Реформации, под ней начали понимать переход церковной собственности в руки мирян, то есть ее «освобождение» и передачу в частные руки, а значит, и в рыночный оборот. В современном же дискурсе «секулярное» представляет себя основой, порождающей теологический дискурс (как форму ложного сознания), от которого эта основа постепенно эмансипируется в своем движении к свободе[45].
Переход к постсекулярной ситуации подразумевает не просто очередное «колебание маятника», но именно новую трансформацию описываемой конфигурации и, соответственно, основополагающих систем координат. В частности, четкие границы религиозного и секулярного, установленные в рамках секулярной же парадигмы, оказываются нарушенными. «Религия» не возвращается, «религия», наоборот, исчезает, если под ней понимать то, что принято с начала Нового времени. Наиболее яркий пример подобной трансформации демонстрирует современный ислам, категорически не признающий установленные в Новое время границы. Как отмечает Александр Кырлежев:
Выступая на национальных и мировой сценах, политический ислам разрушает главный догмат секуляризма: религия — вне политики, равно как и вне других автономных секторов дифференцированного социокультурного целого. Идеология исламизма претендует на универсальность, а значит, на высшую значимость религиозного. Может быть: исламское государство, исламская партия, исламское право (в том числе и особое понимание прав человека: см. Каирскую декларацию о правах человека в исламе 1990 г.), исламская культура, даже исламская экономика[46].

Новая постсекулярная конфигурация ни в коем случае не повторяет ситуацию Средневековья, это именно новая ситуация, которая выстраивается на том фундаменте, который был заложен несколькими веками гегемонии секулярной эпистемы. Когда сегодня говорят о «возвращении религии», о том, что «религия усиливает свое влияние на политику, экономику, культуру», уже подразумевается, что пространство секулярного, куда религия возвращается, продолжает существовать. «Религия» возвращается (впрочем, мы уже упоминали всю относительность этого исчезновения/возвращения), но она возвращается не на пустое место, а в ландшафт, сформированный процессами секуляризации. И так как мы находимся внутри этого процесса, то до сих пор непонятно, какие именно формы примет это «возвращение»-исчезновение.
Столкновение религиозного и секулярного заявляет о себе в таких странных формах, как, например, «православные атеисты»[47], которые под влиянием научнотехнического развития не готовы верить в Бога и уж тем более в Боговоплощение, но при этом чувствуют необходимость как-то интегрировать религиозный аспект в свою идентичность, хотя бы на чисто культурном уровне. Точно такая же противоречивость и непримиренность заметна и в городской топонимике, когда к главному — и прекрасно отреставрированному собору ведет улица Ленина или, например, Аллея пионеров. Это зримо присутствующее противоречие еще должно получить разрешение в рамках перехода к постсекулярной стадии. Однако как бы ни развивалась эта новая постсекулярная конфигурация, очевидно, что ни от прогресса светского знания, как естественнонаучного, так и гуманитарного; ни от становления современных форм человеческого духа, в частности, от субъективности, индивидуализации человеческого сознания, автономии человеческого разума; ни от развития экономической, политической, правовой системы и так далее, при всем желании уже нельзя просто отмахнуться. Постсекулярная ситуация будет связана с трансформацией предшествующей конфигурации, прежде всего заложенных в ней оппозиций. Наблюдать за перипетиями этой трансформации нам еще только предстоит.
Таким образом, постсекулярное — это не только новая реальность и новая нормативная установка, но еще и новая оптика, сквозь призму которой можно совершенно иначе взглянуть на прошлое и поставить под сомнение некоторые расхожие и, казалось бы, неоспоримые факты. И это, безусловно, является наиболее интересным, перспективным, но, к сожалению, и наименее изученным элементом постсекуляризма.
* * *
Закончить эту статью хотелось бы небольшим размышлением о природе Просвещения, идеалы которого в эпоху постсекуляризма якобы попираются. В статье «Что такое Просвещение?»[48]Мишель Фуко утверждает, что ключевая идея просвещенческого проекта состоит в «постоянной критике нашего исторического бытия»[49], призванной продвинуть «бесконечную работу свободы»[50]. Интеллектуал, выполняя эту работу, должен «улавливать точки, где изменение возможно и желательно, и одновременно определять точную форму, которую надлежит придать этому изменению»[51]. Размышление в рамках постсекулярной парадигмы и есть по сути продолжение дела Просвещения. Когда мы говорим о постсекулярном, речь идет не о простом перескакивании на некие несекулярные позиции, но скорее о трансформации очевидно выхолощенного секулярного содержания, о поисках его границ и пределов, о проблематизации некоторых, казалось бы очевидных с точки зрения секуляризма, вещей. Постсекулярное — это не отвержение секулярного; постсекулярная работа идет внутри самого секулярного, которое в процессе «историко-практического испытания пределов, которые мы можем пересечь»[52], как бы перешагивает через самое себя и становится постсекулярным. Мы движемся к новым горизонтам, когда «секулярное» становится постсекулярным, а «религиозное» — пострелигиозным. Американский философ и богослов Джон Капуто пишет по этому поводу: «Я настаиваю на том, что "постсекулярный" стиль рассуждения должен возникнуть как некое повторение Просвещения, как продолжение Просвещения — другими средствами, как Новое Просвещение, то есть такое, которое просвещено относительно ограничений старого. "Пост-" в "постсекулярном" следует понимать не в смысле "игра закончена", но в смысле "после прохождения через" современность, так что речь не идет ни о левом иррациональном релятивизме, ни о новом впадении в консервативную досовременность, которое скрывается под видом постмодерна»[53]. Пусть об этих словах задумается каждый, кто рассуждает о «сумерках рационализма» и наступлении новых «темных веков».

[1] В частности, в 1997 году в работе «Почему я не секулярист» Уильям Конноли указывает на перспективы «постсекулярного этоса взаимодействия» между сторонниками разных вер в качестве альтернативы одномерного секулярного понимания публичного пространства. Однако «постсекулярное» еще не является устоявшимся понятием, о чем свидетельствует его отсутствие в индексе понятий, приводимом в конце книги. См.: Connoly W. Why I am not a secularist. University of Minnesota Press, 2000. P. 158.
[2] Хабермас Ю. Вера и знание // Ю. Хабермас. Будущее человеческой природы. М.: Издательство «Весь Мир», 2002. С. 117.
[3] Упомянем лишь самые значимые из них: Varieties of Secularism in a Secular Age / Michael Warner, Jonathan VanAntwerpen, Craig Calhoun (eds.). Cambridge: Harvard University Press, 2010; Discoursing the Post-Secular. Essays on the Habermasian Post-Secular Turn / Pe4er Losonczi, Aakash Singh (eds.). Minister: LIT-Verlag, 2010; Exploring the Postsecular: The Religious, the Political and the Urban / Arie L. Molendijk, Justin Beaumont, Christoph Jedan (eds.). Leiden-Boston: Brill, 2010; The Power of Religion in the Public Sphere / Eduardo Mendieta, Jonathan VanAntwerpen (eds.). New York: Columbia University Press, 2011; Rethinking Secularism / Eds. Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer, Jonathan VanAntwerpen. Oxford: Oxford University Press, 2011; The Post-Secular in Question: Religion in Contemporary Society / Eds. Philip S. Gorski, David Kyuman Kim, John Torpey, and Jonathan VanAntwerpen. New York & London: New York University Press, 2012. Кроме того, еще несколько изданий на эту тему скоро выйдут в свет.
[4] Можно упомянуть следующие издания: журнал «Логос» № 3 (82) за 2011 год (специальный номер о «постсекулярной философии»); журнал «Государство, религия, Церковь в России и за рубежом» № 2 за 2012 год (специальный номер о «религии в постсекулярном контексте»); серия статей в журнале «Континент»: Кырлежев А. Постсекулярная эпоха // Континент. 2004. № 120; Морозов А.Наступила ли постсекулярная эпоха? // Континент. 2007. № 131; Узланер Д. В каком смысле современный мир может быть назван постсекулярным // Континент. 2008. № 136.
[5] Это заметно, например, по некоторым из статей изданного в 2010 году сборника Exploring the Postsecular: The Religious, the Political and the Urban / Arie L. Molendijk, Justin Beaumont, Christoph Jedan (eds.). Leiden — Boston: Brill, 2010.
[6] Подробнее на эту тему см.: Узланер Д. От секулярной современности к «множественным»: социальная теория о соотношении религии и современности // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2012. № 1 (30). С. 8—32.
[7] 7 Wilson B. Religion in Secular Society: a Sociological Comment. L.: Watts, 1966. P. XIV.
[8] Хабермас Ю. Против «воинствующего атеизма» («Постсекулярное» общество — что это такое?) // Русский журнал. 23.07.2008 (http://www.russ.ru/pole/Protiv-voinstvuyuschego-ateizma, от 13.01.2013).
[9] Berger P. L. Epistemological modesty: an interview with Peter Berger // The Christian Century. 29 Oct. 1997. P. 974.
[10] Casanova J. Public Religions in the Modern World. University of Chicago Press, 1994.
[11] См.: Casanova J. Public Religions Revisited // Religion. Beyond a concept / Ed. H. de Vries. New York: Fordham University Press, 2008.
[12] Casanova J. Public Religion in the Modern World.
[13] Asad T. Formations of the secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003. P. 182.
[14] Каариайнен К., Фурман Д. Религиозность в России в 90-е годы // Старые церкви, новые верующие: религия в массовом сознании постсоветской России. СПб., М.: Летний сад, 2000.
[15] Berger P. L. The desecularization of the world: a global overview // The desecularization of the world: resurgent religion and world politics (ed. P. L. Berger). Washington, D.C.: Grand rapids, 1999. P. 1—18; Berger P. L. Secularization and de-secularization // P. Fletcher, H. Kawanami, D. Smith, L. Woodhead. Religions in the Modern World: Traditions and Transformations. Routledge, 2002. P. 291—298.
[16] Карпов В. Концептуальные основы теории десекуляризации // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2012. № 1 (30). С. 136.
[17] Макленан предлагает использовать приставку infra-, обозначающую «ниже, дальше», для передачи того смысла, который он вкладывает в постсекуляризм. См.: McLennan G. Spaces of Postsecularism // Exploring the Postsecular: The Religious, the Political and the Urban / Arie L. Molendijk, Justin Beaumont, Christoph Jedan (eds.). Leiden-Boston: Brill, 2010. P. 41—42.
[18] Собственно, даже исламский радикализм — это современный феномен религии, оторванной в результате модернизации от культуры, от традиции, от поколенческой преемственности и сведенной к простым идеологическим лозунгам, которые популяризируются с использованием самых современных средств коммуникации — Интернета, социальных сетей и т. д. (О феномене радикализма как «религии без культуры» см.: Roy O. La sainte ignorance: Le temps de la religion sans culture. Seuil, 2008).
[19] Rawls J. The Idea of Public Reason Revisited // The University of Chicago Law Review. Summer. 1997. Vol. 64. No. 3. P. 765—807.
[20] Хабермас Ю. Постсекулярное общество — что это? Часть 1 // Российская философская газета. Апрель 2008. № 4 (18).
[21] Taylor Ch. What Does Secularism Means? // Ch. Taylor. Dilemmas and Connections. Selected Essays. Cambridge, MA; London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011. P. 318.
[22] Casanova J. Public Religion in the Modern World. P. 39.
[23] Хабермас Ю. Граница между верой и знанием. К истории воздействия и актуальному значению философии религии Канта // Ю. Хабермас. Между натурализмом и религией. Философские статьи. М.: Весь мир, 2011. С. 200.
[24] Хабермас Ю. Религия и публичность // Ю. Хабермас. Между натурализмом и религией. Философские статьи. М.: Весь мир, 2011. С. 131 — 132.
[25] Подробнее смотри подборку статей в разделе «Публичное использование разума» в сборнике «Исследуя постсекулярное»: Exploring the Postsecular: The Religious, the Political and the Urban. P. 311—402.
[26] Мне уже приходилось писать на эти темы, см.: Узланер Д. Расколдовывание дискурса: «религиозное» и «светское» в языке Нового времени // Логос. 2008. № 4. С. 140—159; Узланер Д. Введение в постсекулярную философию // Логос. 2011. № 3. С. 3—32.
[27] Существует обширная литература на эту тему: Smith W.C. The Meaning and End of Religion. N. Y.: Macmillan, 1962; Asad T. Genealogies of Religion. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1993; Byrne P. Natural Religion and the Nature of Religion: Legacy of Deism. London and New York: Routledge, 1989; FeilE. Religio. Bande 1—4. Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1986—2007; Dubuisson D. The western construction of religion: myths, knowledge and ideology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2003; Harrison P. ‘Religion’ and the Religions in the English Enlightenment. Cambridge University Press, 1990; Fitzgerald T. Discourse on Civility and Barbarity: A Critical History of Religion and Related Categories. Oxford, N. Y.: Oxford University Press, 2007; Masuzawa T. The Invention of World Religions, or, How European Universalism Was Preserved in the Language of Pluralism. Chicago, London: University of Chicago Press, 2005; Molnar A. The construction of the notion religion in early modern Europe // Method & Theory in the Study of Religion. 2002. Vol. 14; The Invention of Religion: Rethinking Belief in Politics and History (eds. D. R. Peterson, D. Walhof). New Brunswick, NJ, London: Rutgers University Press, 2002; DesplandM. La religion en Occident: evolution des idees et du vecu. Montreal: Fides, 1979; Religion in history. The Word, the Idea, the Reality / La religions dans l’histoire. Le mot, l’idee, la realite (eds. M. Despland, G. Vallee). Waterloo: Wilfred Laurier University Press, 1992.
[28] Об этимологии слова «религия» см.: Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / Пер. с франц. М.: Прогресс-Универс, 1995. Т. 2. Кн. 3.
[29] Августин. О граде Божьем. Кн. 10. Гл. 1.
[30] Макинтайр А. После добродетели. Исследования теории морали. М.: Академический проект, 2000.
[31] Feil E. From the Classical Religio to the Modern Religion: Elements of a Transformation between 1550 and 1650 //Religion in history. The Word, the Idea, the Reality / La religions dans l’histoire. Le mot, l’idee, la realite (eds. M. Despland, G. Vallee). Waterloo: Wilfred Laurier University Press, 1992. P. 32.
[32] Подробнее об этом см.: Cavanaugh W. T. The Myth of Religious Violence. Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict. Oxford University Press, 2009. P. 76—79.
[33] Кант И. Религия в пределах только разума // И. Кант. Собрание сочинений в 8 тт. Т. 6. М.: Чоро, 1994. С. 114.
[34] См.: Aquinas. Summa Theologica. II. ╖ 81—100.
[35] Smith W. C. The Meaning and End of Religion. N. Y.: Macmillan, 1962. P. 39.
[36] Напомню, что Гегель впервые использовал понятие «политическая религия» именно для того, чтобы описать особенности римского общества с верой во множество богов. См.: Гегель Г. В. Ф. Философия религии в 2 тт. Т. 2. С. 191.
[37] Локк Дж. Послание о веротерпимости // Дж. Локк. Собрание сочинений в 3 тт. Т. 3. М.: Мысль, 1988. С. 95, 96.
[38] Собственно, именно это и происходит сегодня, когда, например, мусульмане объявляют семейную жизнь частью своего вероисповедания и воспринимают попытки подчинить ее светским законам как нарушение религиозной свободы.
[39] Wilson B. Religion in Secular Society: a Sociological Comment. Watts, 1966. P. 56; Berger P. L. The Social Reality of Religion. Harmondsworth: Penguin, 1969. P. 113.
[40] Dobbelaere K. Towards an Integrated Perspective of the Processes Related to the Descriptive Concept of Secularization // The Secularization Debate (eds. W. H. Swatos, D. V. A. Olson). Lanham, Boulder, N. Y., Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2000. P. 22—23.
[41] Об этом также есть достаточное количество исследований. Прежде всего см.: Milbank J. Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason. Wiley-Blackwell, 2006; Asad T. Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford University Press, 2003.
[42] Хайдеггер М. Европейский нигилизм // М. Хайдеггер. Время и бытие. Статьи и выступления. СПб.: Наука, 2007. С. 166.
[43] Wilson B. Contemporary transformations of religion. Oxford: Clarendon press, 1976. P. 10.
[44] Taylor Ch. What Does Secularism Means? P. 304—305.
[45] Asad T. Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford University Press, 2003. P. 192.
[46] См. статью Александра Кырлежева, опубликованную в этом же номере журнала «Отечественные записки».
[47] Сам термин «православный атеист» отсылает к высказыванию Александра Лукашенко:
«Я атеист, но православный атеист»; точно так же себя характеризовал и физик Сергей Капица.
[48] Фуко М. Что такое Просвещение? // М. Фуко. Интеллектуалы и власть. М.: Праксис, 2002. Т. 1.
[49] Там же. С. 348—349.
[50] Там же. С. 353.
[51] Там же. С. 353.
[52] Там же. С. 354.
[53] Капуто Дж. Как секулярный мир стал постсекулярным // Логос. 2011. № 3 (82). С. 201.