Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 1, 2013
Чарльз Мэтъюз[1] ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИИ[2] Рецензия на книги: Н. Уэйд. «Инстинкт веры: как возникла религия и почему она выживает» (The Faith Instinct: How Religion Evolved and Why It Endures by Nicholas Wade, Penguin Press, 2010, 320 pp.) и «Религия в человеческой эволюции: от палеолита до осевого времени» (Religion in Human Evolution: From the Paleolithic to the Axial Age by Robert N. Bellah, Harvard University Press, 2011, 784 pp.)
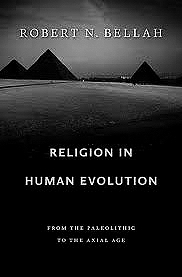
Прошедшее десятилетие оказалось весьма плодотворным для изучения религии. После 11 сентября людям открылось, что религиозность вовсе не сходит на нет, и игнорирование этой стороны жизни может поставить тебя под удар. Эта новость многим оказалaсь не по душе: правда, призывы «новых атеистов» выглядели не столько интеллектуальным вызовом религиозным воззрениям, сколько отчаянным воплем неразвитой души, внезапно ощутившей, что ее воинствующее неверие идет вразрез с окружающей действительностью, а вольтерьянские доблести оказываются развенчанными самой историей.
Загнанный в угол самодовольный хвастун — зрелище малопривлекательное.
Впрочем, вскоре из этого угла зазвучали не менее презрительные оценки, винящие критиков безбожия в вопиющих ошибках и наивных интеллектуальных мечтаниях[3]. Прошло еще немного времени, и накатила волна «новых новых атеистов», в рядах которых оказались такие заметные фигуры, как Ален де Боттон[4], а также целый отряд во главе с Губертом Дрейфусом[5] и Шоном Келли[6]. Они признают значимость не которых аспектов религии, например того, что Дрейфус и Келли именуют «промельками» (whoosh) трансцендентности, и вслед за многими своими предшественниками вроде Огюста Конта отмечают ее роль в социальной организации общества. Однако для них религия все равно остается даже в высших своих проявлениях исключительно творением людских рук и умов, что позволяет поборникам такого подхода с легкостью обходить все острые углы вроде проблем теологии или метафизики. Так что их
снисходительно поверхностное понимание — не более чем увертка, но они хотя бы обходятся с религией вежливо.
К сожалению (или к счастью), все подобные ухищрения в действительности отвлекают от главного: а именно того факта, что в последние десятилетия постепенно развивалось новое серьезное и глубокое научное направление в изучении религии. Его основой стала теория эволюции, зачастую учитывающая, к тому же, данные психологии, лингвистики, когнитивных наук, биологии человека, дабы представить всеобъемлющую картину, что религия несет человечеству и в чем причина ее особой миссии. Такой взгляд имеет свои преимущества, поскольку порой задает новый угол зрения, помещая разнообразные верования и культовые практики, существовавшие в истории человечества, в более широкий и оттого более показательный контекст. Впрочем, подобный подход может обернуться и дурной стороной, ибо здесь очень легко впасть в легковесность при оценке конкретных черт конкретной религии, считая их не более чем первичными данными, кои необходимо быстро переработать, дабы они не затемняли более общие и всеобъемлющие суждения относительно того, как в этих частных деталях проявляется некий фундаментальный феномен, именуемый «религией». Почувствовать разницу можно примерно так: в первом случае вам что-то пытаются объяснить, прививая любовь к высокой интеллектуальной кухне, во втором — от вас хотят отделаться, подсунув безвкусную консервированную бурду из общих банальностей.
Две рассматриваемые нами книги могут послужить прекрасной иллюстрацией, как различить положительный и отрицательный варианты подобного подхода. Один автор устремляется в самую глубину, другой барахтается на мелководье. При этом оба они задаются схожими вопросами о сути религии и предлагают решения, основанные на эволюционной теории. Поэтому, именно сопоставив эти два труда, можно лучше всего осознать и внутренние ограничения подобного взгляда, и его немалый содержательный потенциал — в тех случаях, когда им правильно пользуются. Результаты, которых с его помощью можно достичь, окажутся весьма востребованными в грядущие десятилетия, если поверить предсказаниям демографов о том, что через пятьдесят лет мир станет куда более религиозным, чем сегодня. «Новые атеисты» могут разразиться новым потоком сетований, но факты — упрямая вещь. Вероятно, вскоре мы будем благодарны за любую помощь в адекватном понимании религиозного многообразия мира, и эта помощь в одинаковой (по объему, хотя, быть может, не по внутреннему содержанию) мере потребуется и тем, кто причастен вере, и тем, кто ее лишен.
«Инстинкт веры» Николаса Уэйда[7] меня разочаровал, хотя опыт прочтения его предыдущей книги «Перед рассветом» обещал прямо противоположное впечатление. Я рассчитывал обнаружить в новом труде лучшие черты его предшественника, где хорошее знание истории естественно уживалось с ненавязчивыми и пробуждающими мысль теоретическими экскурсами. Увы, я обманулся в своих ожиданиях. Похоже, в религии и впрямь есть нечто, что превращает столь многих ее исследователей в унылых догматиков.
«Инстинкт веры» по сути содержит две книги, наспех сведенные воедино. В первой из них без особого полета мысли излагается популярная версия эволюционной теории, и из этого изложения читатель больше узнает не об эволюционных корнях религии как таковых, а о том, как на сей предмет смотрит одна (причем далеко не самая представительная) из научных школ, принадлежащих к данному направлению. Вторая часть представляет собой несколько случайный набор наблюдений, почерпнутых из личного журналистского опыта. В ней можно обнаружить немало занимательных сведений и историй (относительно системы ирригации на Бали, например), а также ознакомиться с некоторыми (зачастую вполне маргинальными, да еще и тенденциозно представленными) научными гипотезами относительно возникновения иудаизма, христианства и ислама. Однако в целом книга не содержит ни убедительного обзора лучших достижений эволюционистского подхода, ни вообще сколько-нибудь законченной картины современного религиоведения. Приходится перелистать немало страниц, чтобы набрести на два-три любопытных факта, которые, право, выглядели куда более уместными в тех отдельных статьях, где они первоначально и были представлены; здесь же они в лучшем случае кажутся островками разнообразия среди унылой пучины эволюционной теории.
Впрочем, термин «теория» к «Инстинкту веры» вряд ли применим, поскольку предполагает то, чего книге как раз решительно недостает, а именно: осознанное выстраивание обоснованной и достаточно сложной аргументации, благодаря которой в итоге возникает целостная и продуманная картина, описывающая одну из важных сторон человеческого бытия. Основной тезис Уэйда таков: людям присущ врожденный «инстинкт веры», естественная склонность к религиозности, развитие которой становится способом разрешения общественных конфликтов (как он утверждает, «религия возникает в противовес войне») и способствует созданию вторичных институтов, определяющих этику повседневного поведения и тем самым способствующих укреплению связей внутри социума. К этому в большей или меньшей степени сводится вся аргументация: все прочее — не более чем набор всяческих баек.
Такой подход не может не вызывать вопросов. Во-первых, эволюционная теория в лучших своих проявлениях предлагает нам совсем не столь простые объяснения истоков и предназначения религии. Но забудем об этом на минуту: даже в этой примитивной картине бросается в глаза полное игнорирование фактора времени. Исторические условия в этой книге практически не принимаются во внимание, а эволюция понимается не столько как динамическое движение по лабиринту случайностей и вероятностей, а скорее как неисчерпаемый кладезь историй типа «вот как обстоит дело», эдакая метафизическая конструкция, позволяющая объяснить, почему все происходит так, а не иначе. На каждый случай находится однозначная причина, любая деталь или способ поведения подвергаются жесткой классификации и подверстываются под ту или иную цель, предполагаемую эволюционной моделью. Выходит красиво — даже чересчур красиво, и в итоге у нас на руках остается бесконечный список примеров, которым можно воспользоваться лишь для иллюстрации, насколько ошибочны умозаключения типа post hoc ergo propter hoc. По правде говоря, большой вопрос, можно ли в принципе приписывать определенную и однозначную функциональную значимость некоторым типам поведения, да и вообще является ли научно обоснованной идея «функции», присущей всему на свете. Ведь если на то пошло, эволюция в принципе не предполагает ни функциональности, ни целеполагания. Данный процесс изначально лишен намеренной предопределенности.
Метод же Уэйда поражает как раз настойчивым стремлением подогнать эволюционную теорию под идею полезной целесообразности. Автор раз за разом цепляется за те или иные черты, характерные для определенного времени и места, и стремится уловить их вневременную изначальную природу, трактуя эти частные детали как результат глубинного преображения извечных и неизменных универсалий. Это очень напоминает стародавние методы естественной теологии и естественного права: тому, что произошло в действительности, придается ореол случившегося в соответствии с закономерностью или необходимостью. Такой подход игнорирует как раз одно из главных завоеваний эволюционной теории: важнейшую роль случайности. Всякий хоть что-то понимающий в эволюции должен отдавать себе отчет в том, сколь значительную роль в ней играют небольшие случайные перемены или те конкретные условия, в которых идет процесс развития. Для того чтобы в полной мере осознать, как сложилась та или иная картина, мы должны рассмотреть под микроскопом ее мельчайшие детали, и только тогда сможем с обоснованной долей вероятия предположить, как дело пойдет дальше.
Надо сказать, от простоты предложенного подхода порой прямо захватывает дух: есть религия и есть то, как люди имеют с ней дело. Но все-таки религия — это не физический объект вроде куска руды, и не естественное качество вроде цвета волос; скорее это отвлеченный языковой концепт, служащий инструментом для анализа материала определенного типа. Однако Уэйд не отдает себе в этом отчета и пускается в тщетные попытки отыскать некую изначальную суть этого феномена, общую для всех религий мира, наличествующую всегда и везде. И на этом пути его подстерегает множество трудноразрешимых проблем, поскольку религия — слишком разнообразное явление (или даже целый набор разных явлений), чтобы подыскать ему четкое определение. Чем дальше мы уходим от привычной Европы восемнадцатого века, тем все менее осмысленным кажется само использование этой категории. Конфуцианство в Китае — это форма религии или нет? А как мы определим роль шариатских судов или раввинистического права на протяжении последнего тысячелетия? А что скажем относительно Эрхардовских семинаров[8] в 1970-е годы? Какую часть деятельности блаженного Августина, епископа, занимавшегося гражданским судопроизводством, следует счесть религиозной, а какую нет? А спортивные соревнования в наши дни — не походят ли они на религиозные обряды? Некоторые отвечают на последний вопросутвердительно, а Дрейфус с Келли готовы усмотреть религиозную составляющую даже в процессе заваривания кофе. И кто откажет им в этом праве? Ведь, в конце концов, стоило кофе только появиться в мусульманском мире, как исламские мыслители стали требовать его запрета именно по религиозным основаниям[9].
Надо сказать, сама по себе главная идея книги выглядит странной. Вроде бы Уэйд на протяжении немалого числа страниц убеждает нас в существовании вечного, внеисторического, предшествующего культуре (или кроющегося в ее глубине), всепобеждающего «инстинкта», влекущего людей к вере. Но в конце своего труда он в полном соответствии с расхожими рецептами семидесятых годов прошлого века начинает вещать о грядущем торжестве секуляризма. Так чему прикажете верить? Религия остается неизменным внутренним свойством человечества или ее царству приходит конец?
Уэйду все эти противоречия, кажется, невдомек. Не отдает он себе отчета и в том, что при всей своей кажущейся современности его подход на деле оказывается весьма архаичным. Терминологический аппарат вроде бы вполне на современном уровне, но если вглядеться в структуру мысли и аргументации, то возвести ее можно по меньшей мере аж к римскому философу-стоику I века до н. э. Варрону. Тот тоже утверждал, что религия есть порождение неких естественных сил, в которых лучше разбираются натурфилософы, при том что подавляющее большинство людей, дабы с большим или меньшим успехом «объяснить» для себя эти природные силы, по-прежнему пользуется «мифологическими» понятиями в духе традиционной религии. В свою очередь Варрона затем подверг критике Августин, указавший среди прочего, что стоик оказался не в силах осознать ограниченность своей схемы, неспособной вместить все интересующие его феномены (что-то похожее мы только что уже слышали, не так ли?). Уэйд ничем не отличается от многих поборников естественнонаучного подхода, которые в разговоре о глубинных основах человеческого бытия отталкиваются исключительно от своих специализированных знаний и ровным счетом ничего не ведают о том, что об интересующем их предмете успели сказать мыслители прежних эпох. Невежеством этот недостаток объяснить, разумеется, можно, а вот оправдать — вряд ли.
Дабы представить, сколь неблагодарный труд сопоставлять сочинение Уэйда с книгой Беллы[10], попробуйте на полном серьезе порассуждать о преимуществах полотен Рембрандта по сравнению со страничкой комиксов. «Религия в человеческой эволюции» — это масштабное произведение, которое с полным основанием стоило бы назвать трудом всей жизни, если бы это не был уже второй подобный труд. Немало великих умов были обуреваемы одной идеей, от которой с течением лет изнашивались их души; мыслители рангом пониже меняли концепции чаще. Белла находится где-то посередине, поскольку он уже успел высказать две важные идеи: благодаря одной он составил себе имя, а другая, не менее глубокая по своей сути, в то же время, безусловно, отличается и большим размахом, а возможно, и обещает оказаться более плодотворной. Вышедшая в 1967 году статья Беллы «Гражданская религия в Америке» среди всего написанного по социологии религии после Второй мировой войны может, пожалуй, с наибольшими основаниями претендовать на авторитетность, сравнимую с непреходящей ценностью трудов Дюркгейма и Вебера. В ней автор сумел описать природу американской религии с такой глубиной, живостью и тонкой иронией, которых не смог достичь ни один исследователь американского общества после де Токвиля[11]. Идеи Беллы породили широкий отклик в среде американских интеллектуалов, и их популярность стала одной из причин того, что большая часть его последующих занятий, включая книгу «Привычки сердца» 1985 года, представляли собой развернутое изложение идей, высказанных в этом манифесте.
При этом лишь немногие за пределами узкого круга профессионалов-социологов обратили внимание на еще одну статью, которую Белла опубликовал за несколько лет до своего триумфа, в 1964 году, под несколько туманным заглавием «Религиозная эволюция». В этой статье была обрисована программа действий, направленных на то, чтобы соединить эволюционную теорию с достижениями социологии, антропологии и археологии и таким образом дать всестороннее описание существования homo religiosus по всей земле во все времена. Эта цель — всеобъемлющий ответ на вопрос, что, как и почему представляет собой религия, — показалась столь заманчивой, что послужила толчком для множества амбициозных научных замыслов, которые, впрочем, быстро обернулись ничем, ибо вскоре стало до боли ясно, сколь разнообразными знаниями и способностями должен обладать тот, кто сумеет довести подобное исследование до логического конца. Все отшатнулись в ужасе — но не Белла. Уйдя в 1997 году на пенсию с поста профессора социологии в Беркли и тем самым завершив свою долгую и блистательную университетскую карьеру, он смог вновь посвятить всего себя изучению истории религии: так начала постепенно складываться «Религия в человеческой эволюции».
Чего удалось достичь автору в этой книге? Очень многого, на самом деле: по сути мы имеем дело с выдержанным в духе Джеймса Миченера[12] методичным описанием нашего мира от эпохи Большого взрыва до конца I тысячелетия до н. э. Единственные аналоги, которые приходят мне на ум, это фундаментальные по сути, но все же фрагментарные «Лекции по философии религии» Гегеля, да монументальная «Социология мировых религий» Вебера (в которой он успел охватить Китай и Индию и дошел до Древнего Израиля, но не продвинулся дальше). Вне всякого сомнения, Белла играет по правилам высшей социологической лиги.
Главный тезис этой книги отсылает не столько к идеям Дюркгейма или Вебера — вождей двух главных племен в социологии, и социологии религии в особенности. Он звучит по-фолкнеровски, напоминая знаменитую фразу этого писателя: «Прошлое не мертво. Оно даже не прошлое». Чуть ли не на каждой странице своего труда Белла убеждает нас: «Ничто не исчезает навеки»: обычаи, модели и способы поведения, рефлексы, приобретенные нами, когда обезьяна еще не стала человеком, продолжают определять наши индивидуальные привычки и социальные установления. Эти могущественные силы все еще остаются реальностью; мы смогли добиться лишь относительной независимости от них, сумев в какой-то степени управлять их воздействием на нас. Нам достались в наследство различные черты, часть из которых мы стараемся развивать, а против других считаем необходимым вырабатывать некие защитные механизмы. Тем самым мы обнаруживаем способность к частичной самотрансцендентности, возвышению над собственным «я». Но, как показывает Белла, это качество возникло в ходе эволюции, которая вовсе не является реализацией какого-то заранее предписанного сценария или последовательным развертыванием неких потаенных функциональных моделей, проявившихся, наконец, в современном мире. Нет, для Беллы эволюция — это процесс беспорядочного, в огромной степени случайного и порой парадоксального взаимодействия множества деятелей с окружающей их средой, ситуациями и обстоятельствами, на которые они вынуждены реагировать и отзываться.
Такой подход позволяет автору сделать свое повествование о роли религии в истории человечества по-настоящему содержательным. Если Уэйд смотрит на религию как на некую абстрактную сущность, то Белла подчеркивает ее историческую обусловленность и функциональность. Он считает религией любую «систему символов, которая, будучи введена в действие людьми, порождает мощные, всеобъемлющие и продолжительные настроения и мотивации, осмысляемые как отражение общего порядка бытия». Белла дополняет это определение теоретическими выкладками психолога Мерлина Дональда[13], который утверждает, что человеческий разум проходит в своем развитии три стадии: миметическую (примером могут служить пение и танец), мифическую (устный рассказ) и теоретическую (философия). По мнению Беллы, следуя данной схеме, можно выделить и три последовательных этапа в развитии религии. Вначале возникает племенная религия, когда в основе всех установлений и социальных институтов (религиозных и прочих) лежит прежде всего миф и ритуал. Далее идет период «архаической» религии, когда в фигурах священных царей или жрецов сливаются воедино политические (секулярные) и религиозные (трансцендентные) функции. Наконец приходит «осевое время»[14], когда в Греции, Израиле, Индии и Китае в 600—200 гг. до н. э. происходят коренные изменения, ставящие под сомнение столь фундаментальное для архаических культур представление о неизменной гармонической упорядоченности человеческого общества и мироздания, и тем самым открывается широкое поле для радикальной критической мысли, как философской, так и общественно-политической.
Теперь, после завершения «осевого времени», мы живем в том, что Белла называет «длительным настоящим», и сознаем, что устройство нашего общества вовсе не обязательно воспроизводит порядок мироздания или воплощает окончательную волю Господню. Мы знаем, что организация нашего мира могла быть и другой и, вероятно, даже и должна была быть иной. Попытка выявить глубинные структуры, определяющие наше поведение в мире, необходима, если мы хотим понять, как мы живем и как лучше справляться с трудностями, возникающими на нашем пути. Взглянув на самих себя с этой точки зрения, мы оказываемся способны явственно различить те задачи, которые иначе остаются скрытыми от нас, и обнаружить (пусть выдержанные в духе предположения и оттого лишь частично действенные, но все же) некие подсказки, как с этими задачами справиться.
Пытаясь нащупать этот новый угол зрения, Белла как нельзя лучше отдает себе отчет как в необходимости сочетания методов социологии и антропологии, так и в сложности такого соединения. Порой создается впечатление, что он писал «Религию в человеческой эволюции», то и дело оборачиваясь к своему старому другу, ныне покойному Клиффорду Гирцу[15], критически взиравшему на него с книжной полки. Гирц как антрополог и этнограф скептически относился к многочисленным чрезмерно восторженным поборникам «естественнонаучного» подхода к человеческому бытию, которые так любят побыстрее прорваться сквозь изощренную ткань нашей повседневности и проникнуть в потаенные глубины механизмов эволюции. Со своей стороны, Белла нацелен как раз на поиск тех масштабных мыслительных схем, глубинных структур и идеальных моделей, к которым Гирц относился со стойким предубеждением. Но при всем этом Белла старается максимально принимать во внимание все сказанное его другом, не раз подчеркивавшим случайный характер историко-культурных процессов. Белла настаивает, что человечество как вид обладает столь расплывчатыми характеристиками, что специфическая культурная среда способна оказать на людей огромное воздействие. Существуют «общие возможности для развития человеческого опыта, обладающие очевидными чертами подобия, но они пребывают в зачаточном состоянии до тех пор, пока не подвергнутся преобразованию с помощью символических форм. После того как они обретут таким образом свое воплощение, в них всегда отмеченными оказываются сходства, а между тем ключевыми могут оказаться как раз различия». Он также вполне отдает себе отчет в том, что «культурные традиции не только обобщают, но даже и порождают различные формы эмоционального опыта».
И все же, отдавая научную дань всей сложности и тонкости изучаемого им материала, Белла не боится делать далеко идущие выводы. Среди них наибольший интерес вызывает, наверное, то место, которое он отводит в людских делах «игре», составляющей, казалось бы, отнюдь не самую функционально существенную часть нашего бытия. По его мнению, то, что сегодня мы именуем «религиями», возникло не только в результате социального объединения, направленного на ведение войны или поддержание общественного порядка (как полагает Уэйд), но вследствие канализации различных типов людской энергии в различных формах игры. Значимость игры составляет одну из важнейших идей книги Беллы. Утверждая ее, автор слегка отступает от эмпирического подхода и склоняется в сторону философской антропологии, опираясь на авторитеты философов-романтиков вроде Фридриха Шиллера, а также на работы философски ориентированных ученых типа Гордона Буркхардта[16] (автора вышедшей в 2005 году книги «Происхождение игры у животных»). Это направление мысли исходит из того, что люди — биологический вид, склонный к игре, и что мы более всего являемся сами собой тогда, когда как раз не решаем никаких функциональных задач. Игра понимается не столько как антитеза серьезности, сколько как противоположность работе, составляющей важнейшую часть той повседневной схемы, рамками которой ограничивается львиная доля нашей жизни.
В противовес нудному постоянству работы, призванной неуклонно поддерживать иерархию социальных связей, вновь и вновь определять, кто здесь взрослый, а кто ребенок, кто начальник, кто подчиненный и т. д., игра возникает тогда, когда мы «выключаемся» из жестких социальных схем. В ней диалектическим образом соединяются свобода и принуждение, точнее, свобода в ней существует внутри системы принуждения. Это наиболее очевидно в играх с изначально заданными правилами, но в равной мере присутствует и в любой форме игрового поведения. Рамки игры, выяснение и определение ее условий сами по себе формируют некое состояние критического осмысления, происходящего как бы во сне, в некоем мечтании, по Хабермасу. Кратко говоря, игра обогащает нас, делает нас людьми в полном смысле этого слова, стимулирует нашу мыслительную деятельность, позволяет понять, что за (или над) рутиной повседневности может скрываться блещущий совершенно иными красками прекрасный мир.
Но за этой картиной на страницах книги Беллы потихоньку начинает брезжить неизбежная и существеннейшая опасность. Он опасается, что человечество рискует утратить свою способность к игре. О, нашего автора беспокоит и многое другое, но никакая угроза не затрагивает самих основ нашего существования в такой мере, как вероятность того, что человечество потеряет способность к игре. Если мы перестанем в ней нуждаться, то, по мнению Беллы, утратим полноту нашего человеческого бытия.
Разумеется, в построениях Беллы ко многому можно придраться. В его схеме развития человечества, состоящей из нескольких «этапов», кроется, пожалуй, больше подводных камней, чем он подозревает. Не случайно, когда в двадцатые годы прошлого века Эрнст Кассирер выдвинул весьма схожую концепцию в своей «Философии символических форм», на него обрушился просто девятый вал критики (хотя никто его теорию толком так и не опроверг). В разборе конкретных примеров тоже, без сомнения, найдется немало мелких огрехов и шероховатостей, которыми еще будут упиваться критики-профессионалы. Понимание им «религии», бесспорно, выиграло бы, если бы Белла больше внимания уделил тому, как политика влияет на религию даже сегодня. Ну и, конечно, замысел нуждается в дальнейшем развитии, чтобы покрыть хотя бы часть из оставшихся за кадром последних двух тысяч лет. Но как бы то ни было, амбициозность замысла и уровень, на котором удалось его воплотить, служат залогом того, что этот труд переживет своих критиков.
Велика разница между целями, которые преследуют Уэйд и Белла. Один хочет объяснить существование религии, другой стремится понять, что она собой представляет. В наукообразных построениях в духе Уэйда религия предстает некоей загадкой, которую требуется разрешить. К чему люди дают себе труд верить во что-то нематериальное? Почему они тратят время на дорогостоящие ритуалы и в своем общественном поведении так рьяно стремятся припасть к институтам и предаться занятиям, из которых они явным образом не могут извлечь непосредственной пользы? Стоит только подыскать удобоваримые ответы на несколько подобных вопросов, и дело в шляпе. От такой науки так и веет безразличием. Трудно представить, чтобы Уэйду по-настоящему захотелось научиться чему-то новому у объектов своего исследования.
Напротив, вопросы, которые задает себе Белла, провоцируют дальнейший ход мысли. Он честно признает значение естественных наук, и в частности эволюционной теории, для понимания нами самих себя, но при этом постоянно стремится углублять наши представления о себе и окружающих, а не ищет быстрого удовлетворения в разрешении занимательных парадоксов. Каждый шаг вперед в его исследовании побуждает к дальнейшему размышлению, более глубокому погружению в изучаемую им реальность, заставляет сопереживать людям и оттого полнее понимать их. Вот почему я искренне верю в то, что исследования по эволюции человечества и религии в будущем пойдут по пути, намеченному Беллой, а не Уэйдом. И тогда это уже будет не просто эволюция, тогда мы вправе рассчитывать на настоящий прогресс.
[1] Чарльз Мэтьюз — профессор религиоведения в университете Виргинии, США, автор нескольких монографий по истории религии (в частности, о бл. Августине). С 2006 по 2010 г. являлся главным редактором журнала Американской академии религии. — Прим. пер.
[2] Рецензия была опубликована в журнале The American Interest, July/August 2012. Перевод с английского Николая Гринцера.
[3] В качестве примера можно сослаться на две книги: Terry Eagleton. Reason, Faith, and Evolution. Yale University Press, 2010 и Marilynne Robinson. Absence of Mind. Yale University Press, 2011.
[4] Ален де Боттон (Alain de Botton, 1969) — швейцарский писатель, философ и публицист, ныне проживающий в Великобритании. Известен своим романом «Повести о любви» (Essays in Love, 1993), а также рядом книг по различным областям знания, от психологии до архитектуры. — Прим. пер.
[5] Губерт Дрейфус (Hubert Dreyfus, 1929) — американский философ, профессор Университета Беркли. Известен прежде всего своими интерпретациями трудов Хайдеггера и Фуко, а также рядом книг, содержащих философскую критику идеи искусственного интеллекта. — Прим. пер.
[6] Шон Келли (Sean Dorrance Kelly) — американский философ, заведующий кафедрой философии в Гарвардском университете. Автор ряда исследований по различным проблемам, от статуса сакрального в поэмах Гомера до современной нейрофизиологии. Учился у Г. Дрейфуса, вместе с которым впоследствии написал книгу «Все эти блистательные вещи. Читая западную классику: как доискаться до смысла в наш светский век» (All Things Shining: Reading the Western Classics to find Meaning in a Secular Age. New York: Free Press, 2011). — Прим. пер.
[7] Николас Уэйд — один из наиболее известных популяризаторов науки; в настоящее время ведет раздел «Наука» в газете «Нью-Йорк таймс». Его предыдущая книга «Перед рассветом. Восстанавливая утраченную историю наших предков» была целиком посвящена теории эволюции. — Прим. пер.
[8] Эрхардовские семинары (Erhard Seminar Training, сокращенно EST, что по-латыни означает «есть») — созданная Вернером Эрхардом и чрезвычайно популярная в 70—80-е гг. прошлого века (прежде всего в США) система психологического тренинга, обещавшая за 60 часов занятий трансформировать сознание человека так, чтобы он смог полностью принять окружающий мир «как он есть» и свое место в нем. — Прим. пер.
[9] См.: Ralph S. Hattox. Coffee and Coffeehouses. The Origins of a Social Beverage in the Medieval Near East. University of Washington Press, 1985.
[10] Роберт Белла (Robert Neelly Bellah, 1927) — один из наиболее известных американских социологов и историков религии, долгое время преподававший в Гарварде и Беркли. — Прим. пер.
[11] Алексис де Токвиль (Alexis-Charles-Henri Clerel de Tocqueville, 1805—1859) — французский политический и общественный деятель, прославившийся своей книгой «Демократия в Америке» (1835—1840).
[12] Джеймс Миченер (James Albert Michener, 1907—1997) — американский писатель, автор более 40 художественных произведений, посвященных жизни нескольких поколений в том или ином регионе мира. Среди наиболее известных: «Сказания юга Тихого океана», «Гавайи», «Техас», «Польша» — Прим. пер.
[13] Мерлин Дональд (Merlin Donald, 1939) — канадский психолог и культуролог, известность которому принесла монография «Истоки современного разума» (1991).
[14] «Осевое время» — термин, изобретенный немецким философом Карлом Ясперсом для обозначения периода в истории цивилизации, когда на смену мифологическому приходит рациональный тип мышления. Ясперс датировал его 800—2000 гг. до н. э.
[15] Клиффорд Гирц (Clifford Geertz, 1926—2006) — знаменитый американский антрополог и социолог, автор множества трудов, из которых на русский язык была переведена «Интерпретация культур» (М., 2004). В Гарварде они вместе с Беллой учились у известного теоретика социологии Толкотта Парсонса.
[16] Гордон Буркхардт (Gordon Burkhardt) — американский психолог и эколог, профессор Университета Теннесси.