Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 5, 2012
На медали, выбитой по случаю второго раздела Речи Посполитой, российский орел держит в лапах карту присоединенных в результате разделов 1772 и 1793 го-дов земель, снабженную выразительной надписью: «Отторженная возвратих». А в написанной уже после третьего раздела и не изданной при жизни автора запи-ске Николая Карамзина «О древней и новой России в ее политическом и граждан-ском отношениях» (1811) патетически утверждалось: «Пусть иноземцы осуждают раздел Польши: мы взяли свое»[1].
«Кому достанется Волынь?» Поиски российских ответов
Для Пушкина вынесенный в заглавие этого раздела вопрос был далеко не ритори-ческим. Как это часто бывает, гениальный поэт в одной фразе выразил сомнения и колебания российской общественной мысли по поводу судьбы добытых от Речи Посполитой территорий.
Не углубляясь в историографический анализ вопроса, отмечу лишь, что ми-стифицирующий язык национализма сформировал убежденность в «извечной» природе польско-русского антагонизма, телеологизировал цели и мотивации российской политики в присоединенных губерниях. Концепт «воссоединения русских земель» овладел русским общественным мнением с середины XIX века, а мотив «восточных кресов», утерянной Родины стал одним из краеугольных кам-ней модерного польского национального сознания[2].
Однако сразу после разделов Речи Посполитой и польская элита, и Россий-ская империя начинают поиск возможностей сосуществования. Изначально официальная линия России в присоединеннных землях исходила из постулата «сохранения тишины и спокойствия». Польские же интеллектуалы предложили в качестве основы для сотрудничества с Россией идеи политического славянофиль-ства. Именно поляки — Станислав Сташиц и Зориан Доленга-Ходаковский — первыми выдвинули теоретически обоснованные схемы объединения славян вокруг России. В органической связи с тезисом о славянском родстве шла идея цивилизационной миссии поляков в России, понимаемой по исторической аналогии с ролью греческой культуры в истории Рима. Станислав Сташиц писал: «Спло-тимся же с Россией и будем просвещаться. Возьмем от нее мощь, а она пусть берет от нас просвещение»[3]. Литератор Каэтан Козмян, недавний участник восстания Тадеуша Костюшко, призывал в своих воспоминаниях:
В Польше, несмотря на взаимно нанесенные друг другу удары, отношение к русским… было менее неприязненным, чем к другим соседям, унижавшим нас своей гордыней. Русские не отрицали цивилизационных превосходств поляков, тогда как другие народы с раздраже-нием и презрением именовали нас варварами. Русские и поляки могли быть как два бес-корыстно сражающихся рыцаря, заядлые на поле брани, но, нанесши друг другу раны, го-товые бросить оружие, подать друг другу руки и жить в согласии[4].
Интересно, что параллель с Грецией и Римом воспринималась и на русской стороне. Например, в торжественной оде «На присоединение польских обла-стей
Став с Россом вы в одном составе, Участвуйте днесь первы в славе, В блаженстве, в имени ево[5].
Третьей важной идеей была надежда польских элит (в том числе из австрий-ской и прусской частей бывшей Речи Посполитой) на Россию как возродителя утраченного отечества. Особо сильными эти ожидания были в начале царство-вания Павла I, известного нелюбовью ко всем предприятиям Екатерины (в числе которых не последняя роль принадлежала разделам Польши). Павел ограничился освобождением Костюшко и остальных арестованных за участие в восстании по-ляков, но уже этим вызвал исключительно русофильские настроения в прусской на тот момент Варшаве[6]. Еще большие ожидания разбудил своими пропольскими симпатиями Александр I.
Именно на ранний период царствования Александра (до
Свои надежды на научную карьеру связал с Россией Ян Потоцкий, удостоен-ный милости Александра за книгу «История примитивных народов России» (1802), автор стратегии покорения Россией Кавказа, тайный советник и почетный член Петербургской академии наук. Все эти карьеры разрушили политические со-бытия 1807 года (Тильзитский мир) и особенно наполеоновские войны, однако в 1822 году после публикации в «Северном архиве» рецензии на «Историю» Ни-колая Карамзина на научную карьеру в России рассчитывал уже виленский исто-рик Иоахим Лелевель. На этот раз его планы перечеркнуло раскрытие в 1824 году польского заговора в Виленском университете[9]. Все приведенные примеры (а ими перечень имперских карьер поляков отнюдь не исчерпывается) важны как свиде-тельства самой возможности ориентации на карьеру в России и неантагонистиче-ское видение ее отношений с Польшей.
Если порыться в архивах…
В секретном рескрипте от 8 декабря 1792 года генералу Михаилу Кречетникову, начальнику русских войск в Киевском, Брацлавском, Подольском и Волынском воеводствах, императрица Екатерина II писала:
Нет нужды упоминать здесь о причинах, побудивших Нас присоединить к империи Нашей от республики польской земли, издревле России принадлежавшие, грады русскими князья-ми созданные и народы общаго с россиянами происхождения и Нам единоверные, и о Наших на то правах[10].
Исторические и религиозные аргументы повторены в письме императри-цы к немецкому публицисту Фридриху Мельхиору Гримму, которого Екатерина убеждала, что «не получила ни пяди польских земель», поскольку все ее приобре-тения исторически принадлежали Великому княжеству Литовскому[11].
Известно, что первой карту исторических прав в территориальных претензиях к Речи Посполитой разыграла в 1770 году Австрия, обосновывая свою аннексию округа Зандец древней его принадлежностью венгерской короне, после чего прус-ский император Фридрих в ответ на замечание австрийского посла, что более того Австрия не имеет к Польше претензий, бросил: «Поройтесь в своих архивах, и Вы найдете там предлог приобрести в Польше еще что-нибудь, помимо того, что Вы уже оккупировали…»[12]. Предложение услышали и в России. Екатерина в письме Александру Безбородко в конце 1791 года, накануне второго раздела, рассужда-ла: «Взять, кажется, тут Волынию и Подолию много разных предлогов, лишь выбрать»[13].
Одним из результатов разбора архивов стало «Историческое известие о воз-никшей в Польше унии с показанием начала и важнейших в продолжение оной чрез два века приключений, паче же о бывшем от Римлян и Униятов на благо-честивых тамошних жителей гонений, по Высочайшему блаженные памяти им-ператрицы Екатерины II повелению, из хранящихся в Государственной Колле-гии Иностранных дел в Московском архиве актов и разных исторических книг… собранное» Николая Бантыша-Каменского, написанное в 1794-м, но изданное лишь в 1805 году в Москве. Мимоходом упоминая «отторгнутый в смутные време-на от России народ», свой главный тезис Бантыш-Каменский сформулировал чет-ко: «Желательно, дабы рано или поздно обратились Унияты паки к матери своей Греко-Российской Церкви»[14]. В контексте данного исследования особую важность имеет вопрос: почему эту книгу, написанную «по Высочайшему повелению», не спешили обнародовать раньше? Независимо от того, можно ли публикацию этого труда, приуроченную к десятилетию третьего раздела Польши, считать противо-стоянием полонофильским настроениям начала царствования Александра I, его выход в свет свидетельствует о качественных изменениях ситуации в России, по-явлении общественного мнения.
Фактор единой веры особо подчеркивал в «Мнении о делах польских 1794 года» граф Безбородко, видевший принципиальное преимущество России перед другими странами — участницами разделов:
«[Мы] получим знатное число народа греческо-го исповедания, в унию обращенного, и, конечно, легко имеющего возвратиться в соединение с нашей церковью при одинаковом языке»[15].
Важно отметить, что православное исповедание здесь трактуется именно как одно из преимуществ России, но не как цель ее вмешательства в польские дела. Проблема единоверцев в Речи Посполитой или диссидентский вопрос для России в конце XVIII века — прежде всего тактическое оружие и дополнительный аргумент, легитимизирующий ее полити-ку. Впервые он появляется в договоре России с Пруссией от 16 декабря 1740 года, в сепаратном артикуле которого обе стороны обязались покровительствовать дис-сидентам (т. е. населению не римско-католического исповедания) в Польше. При этом к разыгрыванию карты покровительства диссидентов Россию подталкивала часть православных иерархов, например, игумен виленского монастыря Святого Духа Феодосий Леонтович, перечислявший в одной из своих записок в Петербург от 24 ноября 1762 года выгоды от защиты православных в Польше. По-видимому, ориентируясь на сформировавшийся у него образ рационалистической российской политики, как первостепенную «пользу» игумен представлял то, что впредь не надо будет подкупать магнатов для получения важных сведений, а обо всех их секрет-ных намерениях можно будет узнать от единоверцев. Далее перечислялись сохране-ние политического равновесия и возможность влияния на внутреннюю ситуацию в Польше, и лишь пятым пунктом шло:
Российскому нашему государству можно будет на 600 верст самой лучшей и плодородней-шей земли с бесчисленным православным народом пред всем светом праведно и правильно у поляков отобрать[16].
Таким образом, игумен искушает правительство скорее плодородной землей, чем защитой православия.
Решающим событием в реализации планов диссидентской политики Петер-бурга стала речь могилевского епископа Георгия Конисского на церемонии коро-нации Екатерины 29 сентября 1762 года. От имени православных Речи Посполитой епископ обратился к императрице с просьбой о защите и покровительстве. Однако неверно представлять диалог иерархов с Петербургом односторонне, часто иерархи были лишь орудием имперской политики, которая в то же время была достаточно сдержанной. Это объяснялось отчасти сословно-династической природой империи, отдававшей себе отчет в том, что все православные Речи Посполитой составляют подчиненное сословие, а субъект взаимодействия — польские католические элиты.
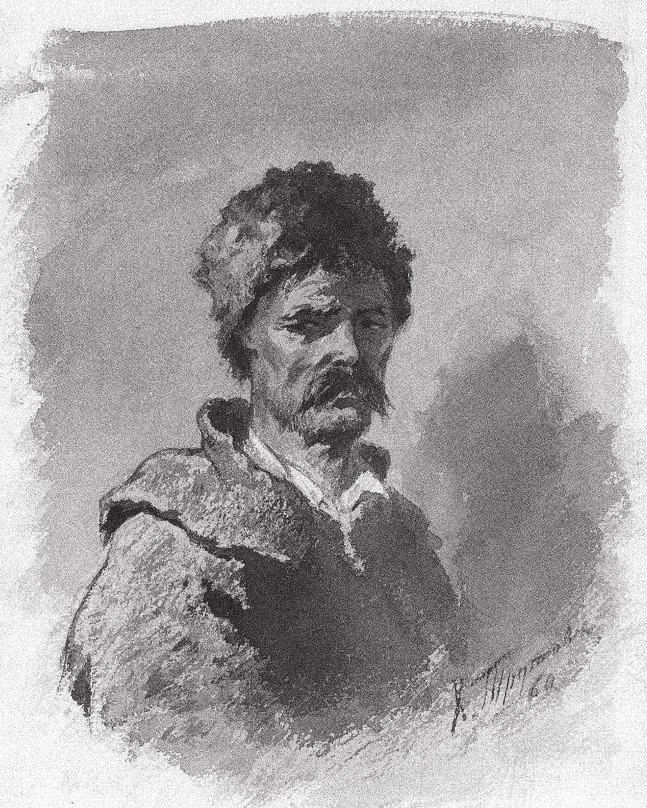
Изданный 27 марта 1793 года манифест Кречетникова «О присоединении Поль-ских областей к России» прежде всего выражал попечение императрицы о благах самой Польши, «о сохранении в сей соседней Ей области покоя, тишины и вольности». Далее генерал в качестве дополнительного аргумента напоминает, что Екате-рина всегда «с особливым соболезнованием… взирала на те притеснения, которым земли и грады, к Российской империи прилеглые, некогда сущим Ея достоянием бывшие и единоплеменниками Ея населенные, созданные и православною Христо-вою верою просвещенные и по сие время оную исповедующие, подвержены были»[17]. Но главным поводом вмешательства называлась угроза от «безбожных бунтовши-ков в Королевстве Французском», которые своими действиями могли «истребить как собственное ея [Польши. — А. П.], так и соседей ея спокойствие»[18].
Рассматривая вмешательство в польские дела как просветительское противо-стояние Порядка Хаосу (в европейской литературе конца XVIII века именно Речь Посполитая обычно представала образцом неустроенного, хаотического и не-жизнеспособного организма), в плоскости практической политики установление Порядка первоначально выглядело как «сохранение тишины и спокойствия» и «не-рушимость устоявшихся обычаев». В переписке 1794 года высших российских са-новников (князя Безбородко и князя Репнина) высказана такая мысль по поводу управления «польскими губерниями»:
Люди к старому очень привязаны. Всякая подать меньше для них тягостна, чем потеря того, что они за привилегии свои почитали… Искать педантически единообразия бъла бы такая же химера, как предполагать и равенство между людьми… Для сего то я настоял и при раз-деле 1793 года, чтобы жителям тамошним оставлены были их права и привилегии[19].
Тот же Репнин дал чрезвычайно яркое выражение сословной логики импе-рии на западных окраинах: «Неудивительно, что мнение тех, которые с тарелками за стульями стоят, не согласно с теми, которые на стульях сидят. Им все хочется самим на стулья сесть, сбив тех, которые их занимают по своему роду»[20]. В тек-стах эпохи Просвещения отношение дворянства к крестьянам было выражено предельно четко. В написанном в 1780-е годы «Рассуждении о непременных госу-дарственных законах» Денис Фонвизин отождествляет понятие «нации» с дворян-ством, а о крестьянстве пишет как о «народе», который, «пресмыкаясь во мраке глубочайшего невежества, носит безгласо бремя жестокого рабства»[21]. В 1767 году поэт Василий Сумароков писал: «Крестьяне наши никаких благородных чувств не имеют»[22]. В «Загородной поездке» Александра Грибоедова есть фраза: «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, он конечно бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен»[23]. Естественно, такой подход исключал серьезное размыш-ление об этнической принадлежности крестьянства новых губерний.
Российская власть при этом умело играла на крестьянских ожиданиях в кри-зисных ситуациях. Во время восстания Тадеуша Костюшко 1794 года российские власти призвали крестьян поставить государственный интерес выше верности по-мещикам[24]. Во время наполеоновской кампании 1812 года в официальных воззва-ниях крестьяне именовались «почтенными нашими поселянами», «почтенными гражданами», то есть с использованием терминологии, зарезервированной для юридически свободных сословий[25].
Наиболее ярко слабость этнической составляющей российской политики от-ражает используемая в официальных документах терминология. В рескриптах Екатерины II выступают польские «Хелм», «Бржесть», «Покуция» вместо русских «Холм», «Берестье», «Покутье»[26].
Убедительной иллюстрацией национальной слепоты центральной имперской власти являются материалы заседаний Комитета министров — высшего админи-стративного органа в Санкт-Петербурге, созданного в сентябре 1802 года в качестве совещательной структуры абсолютной монархии, в рамках которой император мог обсудить наиболее спорные вопросы управления государством с назначенными им высшими сановниками. В начале ХГХ века львиная доля дел, рассматриваемых Коми-тетом, происходила от губернаторов новоприобретенных западных земель, которые довольно часто просили поддержки и вмешательства верховной власти в их противо-стояние со все более сильным польским движением, особо активизировавшимся во время наполеоновских войн. Губернаторы информировали столицу о распростране-нии слухов про восстановление Наполеоном Речи Посполитой в границах до первого раздела, активизацию контактов шляхты западных губерний с поляками австрийской Галиции и подсказывали, что «одна примерная строгость» могла бы стать наукой для всех. Однако позиция Комитета министров была начисто лишена национальной оптики, он совершенно не интересовался этническим составом крестьянского насе-ления или содержанием образования, получаемого местной шляхтой[27].
Политика постепенного и осторожного вмешательства в «местные дела» новоприобретенных губерний проводилась не только на словах. Университет-ский устав 1804 года требовал перевода всего преподавания на русский язык, это требование повторялось в уставе 1828 года, но русский стал по-настоящему языком преподавания в учебных заведениях всех уровней только после восста-ния 1830 года[28] (и то не сразу — в 1863 году Юрий Самарин писал про жизненную необходимость в западных губерниях «просвещения, православно-русского, а не общей цивилизации»[29]). Не лучше обстояли дела с языком и в центре: возглавив-ший III Департамент Сената Иван Дмитриев сетовал, что лишь немногие местные сборники права были переведены (и то переписаны дурным почерком), остальные хранились в оригиналах, причем заведующий польскими делами не знал польско-го, а остзейскими провинциями — ни немецкого, ни латыни[30].
Если говорить о конфессиональной политике, то в отчетах волынского губер-натора за 1806 год состояние православных (в тогдашней официальной термино-логии «греко-российских») церквей оценивалось так: «Они вообще ветхи и бедны до безобразия; прихожане их также бедны», а помещики «занимаются собствен-ными костелами»[31]. В отчете с той же Волыни за 1810 год губернатор писал, что православную религию исповедуют «только находящиеся при должностях чинов-ники и обращенные в православие по присоединении здешнего края к России поселяне»[32]. До 1830 года политических выводов из этого не делалось.
Сословный характер империи ярко иллюстрирует история с имитацией шля-хетства, описанная в документах архива Правительствующего Сената. Один дезер-тир, переменив фамилию, был в Васильковском повете «принят шляхетским обще-ством». Разъясняя возможность такого поворота событий, Киевское губернское правление в рапорте от 14 апреля 1815 года сообщало в Правительствующий Сенат:
…Как народ здешний, то есть крестьяне и мещане говорят языком руским украинским и ре-лигии греко-российской, а дворяне и шляхта по большей частью говорят языком польским и римско-католической религии, то все приходящие сюда люди неизвестного состояния, т. е. беглые мещане литовские, выходцы голицейские и даже беглые от польских помещиков дворовые люди, называя себя подобно вышепоказанным и говоря польским языком, принима-ются здесь весьма удобно сельскими шляхетскими обществами в число свое, единственно по-тому, что оные люди по языку, по религии и по прозваниям похожи на здешних шляхтичей[33].
О том, что данный случай был не единственным, свидетельствуют цифры, по-казывающие огромное количество «новоприписанной» шляхты без каких-либо до-кументов — только в Киевской губернии таковой было 12 407 душ[34]. Отдавая себе отчет в имитировании шляхетства, центральные органы власти много рассуждали о потерях казны от неуплаты «псевдошляхтичами» налогов, но не делали ника-ких политических выводов. Лучшим свидетельством этого была риторика выска-зываний о крестьянстве. В представлении киевского гражданского губернатора от 1802 года отмечалось, что дворянство губернии «благонравно и в достаточном воспитании», а вот «чернь здешняя требует всегдашнего надзора или побуждения»[35]. Речь здесь идет о тех же людях, которых после 1863 года Михаил Погодин назвал «соотечественниками» и призывал «освободить из-под ига враждебного племени»[36](принципиальное отличие шляхты от поселян подчеркивалось, как и раньше, толь-ко теперь акцент был перенесен с уз социальных на национальные: новое время требовало новой аксиологической перспективы).
Разделяй и окультуривай
Описанное состояние неопределенности прослеживается в таком историческом ис-точнике, как торжественные оды, отражавшие поиски государственной мифологии.
В предложенном одами описании разделов Речи Посполитой преобладает мотив расширения пространства цивилизации. Он повторяется многократно в оде Василия Петрова «На присоединение польских областей» 1793 года, выстроенной в виде монолога реки Днепр.
Устами Днепра Петров обращается к «новой области России», отождествляе-мой им с Польшей и в то же время называемой «древней, но отступной» дочерью России, которая не слушала родственного зова и одичала «яко зверь»:
Гордитесь в мысли вы спокойной:
Вы днесь сыны под небесем
Монархини, владеть достойной
Не вами токмо, светом всем[37].
Для Петрова совершенно отсутствует мотив православного русского населе-ния, он обращается исключительно к полякам, но в соответствии с панславист-ским каноном, предложенным во многом теми же самыми поляками. Пожурив их за имевшие в истории место козни против России, поэт приглашает поляков к строительству империи и предсказывает день, когда «все Славенско плем’я / В честь Норда препояшет мечь»:
Но вам наперсники России,
Поляки! Первородства честь;
Вы дни предупредили сии:
Вам должно прежде всех расцвесть
Став с Россом вы в одном составе,
Участвуйте днесь первы в славе,
В блаженстве, в имени ево.
Сколь в древности велики были,
Которы Римлянами слыли;
Днесь имя Россов таково[38].
Последние строки свидетельствуют, что упоминаемая выше метафорическая параллель Польша-Россия — Греция-Рим воспринималась и в российских кругах.
Уже через два года муза Петрова повторяет текст манифеста Кречетникова о «якобинской заразе». В оде 1795 года «На взятие Варшавы» поэт, теперь уже устами заплаканной Вислы, уведомляет, что «наперсники России… в чудовищей преобразились / Секванским духом заразились», возомнили «Чтоб все на свете были равны / Все наглы, хищны,звероправны» и забыли, что «Без посторонния опеки / Они табун, не человеки»[39]. Обеспокоенная такими преображения на своих берегах, Висла просит Неву:
Иль извергов природы дерзких
В правдивом гневе порази;
Или полки чудовищ мерзких
Опять в людей преобрази.
Не дай распространиться яду…[40]
Устами «покорителя Варшавы» генерала Александра Суворова Екатерина приглашает поляков «к сладости свободы».
Те же образы приобщения к цивилизации находим и в других источниках. Ермил Костров как реальность описывает, как «горделив Сармат»:
Колени преклоня, целует ту десницу,
Которой мужеством он в плен веселый взят
Взят в плен, и тем узрел отрад своих десницу.
Жалеет, что ему всенощный ток судеб
Толь поздно путь явил к разсудку и блаженству[41].
Таким образом, «блаженство» и «сладости свободы» дарованы регулярным (полицейским) государством. Как показал Виктор Живов, в просветительской концепции абсолютный просвещенный монарх воспринимается как установи-тель мировой гармонии, а государство становится предметом поэтического вос-торга и философских рассуждений именно потому, что выступает распорядителем космической гармонии на земле[42]. В таком контексте особая роль отводится путешествиям монарха по новоприобщенным к цивилизации землям. В 1780 году Екатерина совершила такое путешествие по белорусским губерниям. Накануне поездки Академия наук подготовила «Топографические замечания».

В академическом описании Белоруссии, «сей новой земли», мотивы «древне-русских» традиций значительно слабее мотива цивилизационного просвещения «благодаря России». Если польские времена описываются как период беспра-вия, истощения земель, отсутствия удобных коммуникаций, праздности шляхты и усиления евреев, «немало способствовавших общей бедности», то уже в первые годы российского владычества разнообразные учреждения «возобновлены, рас-пространены, украшены и преуспевают в изобилии, щастии, силе и славе»[43]. При описании конкретных населенных пунктов (без каких-либо обобщений) отмеча-ются их русские истоки. О Полоцке, например, сказано: «Сие древнее Российских Государей наследие, претерпев толикия перемены, многия силы и славы своей лишилося», о Мстиславле — «сей древний и Россиянами основанный город»[44]. О Могилеве невозмутимо сообщается, что, по некоторым свидетельствам, он «имеет одного основателя с городом Львовом, в Червонной Руси построенным», а «могий Лев» не что иное как «могучий Лев», но тут же отмечается: «Сию догадку равным образом доказать трудно»[45].
Регулярное государство регулирует и ландшафт, выступая при этом в роли демиурга, создающего из хаоса (а именно такая характеристика — одно из кли-ше описания польской анархии) порядок. Свидетельством такой политики стали инициированное белорусским наместником Захаром Чернышевым создание сети екатерининских аллей, в ходе которого обочины основных дорог были плотно усажены березами, создававшими у путника ощущение парковой аллеи, а так-же установка верстовых столбов, стандартных почтовых станций, строительство унифицированных административных зданий в городах[46]. В воспоминаниях рос-сийского чиновника Гавриила Добрынина, отправленного в белорусские губер-нии средним канцелярским служащим, содержится интересное упоминание о его первом впечатлении от новоприобретенных губерний: «Перевалившись в новоприобретенный Белорусский край, мы удивились, увидя безконечную аллею, по которой ехали, усаженную с обеих сторон по два ряда березками»[47]. Из этого вида цивилизационной поступи Добрынин заключил: «По приезде в первый белорус-ский город Рогачев мы увидим великолепные здания». Однако вместо этого он увидел «обыкновенную деревню, похожую на скотной двор», с построенным «по общему плану» зданием почты, а в едва найденной квартире и смрад, и тараканов, коими «преизобиловала» и канцелярия, расположенная в обычной избе[48].
Прозаичные образы воспоминаний Добрынина подтверждает давно подме-ченное отсутствие в России конца XVIII века непосредственной связи между иде-ологией государства и реальным механизмом государственного управления[49].
Один из постоянных образов середины XIX века — взаимное непонимание и неприятие поляков и русских. Однако в первой половине века в русском обще-ственном мнении заметно сочувствие Польше, утратившей государственность. Известны литературные проявления сочувствия Польше, противоречившие кон-цепции «сладости свободы». Сохранившаяся в отрывках анонимная «Ода на день торжественного празднества порабощения Польши» соболезновала той, с кого венец сорвало «насилье», и издевалась над официальными одами:
В чертоге фурии ужасной
Сонм подлых душ подобострастный
Жжет лести гнусный фимиам[50].
Этот текст содержит элемент, свойственный и позднейшим проявлениям об-щественного мнения в России: автор обращается к той самой коварной «фурии» с призывом о даровании Польше свободы.
Еще во время первого раздела 1772 года у Михаила Муравьева, в то время — солдата Измайловского полка, а позднее — попечителя Московского универ-ситета, товарища министра народного просвещения, учителя русской истории и словесности наследников императорского трона Александра и Константина, родился замысел исторической трагедии «Болеслав» о Болеславе II Кривоустом, короле XII века, добившемся территориального единства польских княжеств[51].
Одну из сторон отношения к польскому движению отражает многозначитель-ное рассуждение поэта и придворного Гавриила Державина о том, как надлежит наказывать участников польской конспирации, «из нижнего разбора людей» (свя-щенники, мелкая шляхта), арестованных в 1798 году в одной из белорусских губер-ний. Утвержденный им приговор к вечной каторге в Сибири за нарушение присяги о русском подданстве поэт и сановник назвал чрезмерно жестоким, ибо обвиняе-мые всего лишь «имели некоторые между собой разговоры о спасении от нашего владения своего отечества»[52]. Державин считает, что сделать «завоеванный народ» истинно верноподданным можно лишь «правосудием и благодеяниями, а тогда уже и наказывать его за преступления, как и коренных подданных по патриотическим законам», а затем добавляет любопытную вещь: наблюдать надо за магнатами, «а не за тем, что попы и подъячие между собою в домах своих разговаривают»[53].
Таким образом, в «альтернативном» дискурсе Польша предстает как символ свободы. Описанные заявления, исполненные симпатий по отношению к Поль-ше, были возможны, пока романтизм не разглядел в крестянском населении за-падных губерний «русских» и не поставил национальную идентификацию выше сословной и любой другой.
Путешественники без идеологического компаса
Уникальный источник, уже упоминавшийся в этой статье, — «Записки путеше-ствия по западным губерниям Российского государства» академика-минераловеда Василия Севергина (1765—1826), появившиеся в ходе поездки ученого в 1802 году и изданные в следующем году в Санкт-Петербурге. Поводом для путешествия было повеление императора Александра осмотреть и перевезти в Московский универ-ситет натуральный кабинет покойной княгини Анны Яблоновской в Семятиче. Понятно, что академик-путешественник все время поездки проводил в шляхет-ских, исключительно польских кругах. Описанные им простолюдины западных губерний суть ретрансляция взгляда на них польского помещика:
Шисматики отличаются от Унеятов тем, что сии последние повинуются папе, а пер-вые Патриарху Цареградскому. Одеяние Шисматиков подобно одеянию Грекороссийских монашествующих особ. Также расположение церкви и обряды при Богослужении во всем почти подобны Российским. Находясь в Прусской части Польши и не умея впрочем ни сло-ва по Российски, совершают они Богослужение по Российским церковным книгам. Обык-новенное Греко-Россиян приветствие на праздник Христова Воскресенья: Христос Вос-крес и ответ на сие: Воистину Воскрес, также и у них в употреблении… Говоря о Шисматикиках нельзя не упомянуть мне также о Унеятах. Исповедание и осо-бливо Богослужение Унеятов во всем сходно с Богослужением Шисматиков. Как в Прус-ской, так и в Российской части Польши называют они себя Россиянами[54].
Не имея готовой идеологической схемы описания реалий новоприобретен-ных губерний, Севергин назвал тамошних крестьян так, как их называли равные ему — помещики («шисматики» — пейоративное польское название православ-ных). Академик не узнал в православных белорусских крестьянах «своих», даже несмотря на то, что они, по его словам, «подобны» российским православным и даже называют себя «россиянами».
Подобные проблемы уже в 1817 году испытывал в Киеве князь Иван Дол-горукий, приехавший в древнюю столицу, по его собственному признанию, «погулять»[55]. Общение с поляками привело автора к выводу, что «по непостоян-ству характера своего» народ этот и язык свой «изуродовал»: «…Их наречие есть одно из самых неприятных в Европе. К тому же Поляки самые легкие слова ста-раются сделать тяжкими в произношении. Он не скажет просто «три», а «трши», не «пять», а «пенць», и так чтобы выговорить, например, 33 надобно сказать ««тршыдесьцытршы». Представьте, какое мучительное коверканье языка и всей челюсти! Не легче ли было бы сказать добро, нежели «добрже’?»[56].
Довольно легкомысленный путешественник, тем не менее, обратил внимание на этническую ситуацию в крае: «Не думайте, чтобы Губерния была населена По-ляками: совсем нет! Она состоит в народе из Малороссов, Козаков и вообще, что мы называем, из Хохлов Русского Исповедания и Закона»[57]. Трудности с опреде-лением национальности основной массы населения прекрасно отражают рас-терянность россиянина перед реалиями западных губерний, отсутствие готовых формул описания реальности.
Присутствует тема «национальной слепоты» и в ретроспективных текстах о начале XIX века. В «Записках» выходца из немецких дворян Филипа Вигеля, чье детство прошло в Киеве («Украйна была для меня настоящая родина»), автор вспоминает визит в бывшее имение Потемкина в Богуславле и Корсуне:
…не мог надивиться тому, что везде вижу православные церкви, везде слышу Малорос-сийское наречие и только изредка встречаю поляков. Невежество мое, которое, впрочем, разделял я со всеми жителями внутренней России, заставляло меня думать, что все на-ходящиеся за старою нашею границей есть и было всегда настояшая Польша[58].
В данном контексте действительно уникальным текстом являются «Волынские записки» сочинителя Степана Руссова, изданные в 1809 году в Санкт-Петербурге. Автор уже на обложке указывает, что написал свой текст в Житомире. Почетный член Академии наук по отделению языка и словесности проявляет поразительную этническую проницательность:
Граница с Галициею не есть граница Российского народа: в самой Галиции даже до Кар-патских гор обитают Россияне же, говорят по Российски, исповедуют веру Грекорос-сийскую Униатскую; даже города и селения сохраняют доселе Российские имена, как-то Львов, Ярославль, Перемышль и прочая[59].
Является ли текст Руссова нерепрезентативным исключением из правила этни-ческой слепоты или следствием глубокого знания автором реалий региона? В лю-бом случае «Волынские записки» опровергают историографичекий тезис о том, что в начале ХГХ века никто не воспринимал позднейшие Восточную и Западную Украину как части одного этнического целого. Руссов подчеркивает: «Здешние (волын-ские. — А. П.) Россияне язык и все нравы имеют как все вообще Малороссияне»[60]. Более того, Руссов был не первым. В предисловии неизвестного автора к публи-кации, происходящей из совершенно иной пограничной украинской области — Слобожанщины, «Топографическое описание Харьковского наместничества» от-мечается общность «области одного Славено-Российского племени, ныне трем государствам принадлежащие» и прямо упоминается та же Галиция[61].
Возвращаясь к Руссову, стоит обратить внимание, что в эпоху, которую принято называть «донациональной» (во всяком случае в модерном понимании этого слова), он помещает в своей книге главу «Нации». Вывод автора и на этот раз небанален:
Каждое почти состояние составляется из особой нации. Все именующиеся шляхетством суть природные Поляки, кои кроме шляхетства и духовенства почти ни к какому более состоянию не принадлежат; все Евреи суть купцы и мещане, и они одни только всю тор-говлю здешней губернии имеют в своих руках… И все Россияне суть земледельцы, пребы-вающие в неусыпных трудах и глубоком неведении[62].
Чего стоила Руссову его прозорливость? Существуют упоминания о том, что за свои «Волынские записки» он стал жертвой нападения шайки волынской шляхты во главе с неким Залесским («званием житомирский маршал, фигурою запорож-ский казак, умом деревенский мужик»[63]).
Зарождение «гражданского» патриотизма
Осенью 1819 года было написано «Мнение русского гражданина» официального историографа Николая Карамзина. Обращаясь к императору Александру, Карам-зин приводит аргументы против замысла «восстановления Польши в ее целости»[64].
Начав с апелляции к христианскому мировоззрению царя, историк подчерки-вает невозможность реализации христианских принципов в реальной политике («Евангелие молчит о политике», «мы, захотев быть христианами-политиками, впадаем в противоречия и несообразности»). Отказ от планов восстановить Поль-шу в границах 1772 года Карамзин обосновывает аргументами геополитики (мол, даже если Россия пойдет на такой шаг, к нему не склонить ни Австрию, ни Прус-сию); правом завоевания («Мы взяли Польшу мечом.., Екатерина ответствует Богу, ответсвует Истории за свое дело; но оно сделано и для Вас уже свято»)[65]; династи-ческим принципом «старых крепостей» (мол, Белоруссия, Волынь, Подолия, Гали-ция «были некогда коренным достоянием России»)[66].
Далее Карамзин рассматривает, что бы произошло, если бы Александр вос-становил историческую Польшу. Прежде всего возникла бы угроза того, что «мы» (в данном случае Карамзин, вероятно, имеет в виду образованные круги рос-сийского общества) лишились бы «не только прекрасных областей, но и любви к царю». Это предостережение Карамзин усиливает тезисом о том, что «никог-да поляки не будут нам ни искренними братьями, ни верными союзниками». За сим следует чрезвычайно любопытная фраза, уже цитировавшаяся выше: «Лит-ва, Волыния желают Королевства Польского, но мы желаем единой Империи Российской»[67]. Здесь особо важно упоминание Волыни, «желающей Королевства Польского», указывающее на отсутствие осознания Карамзиным единства запад-ных губерний.

Написавший уже после 1830 года книгу о благоустройстве России эмигрант Николай Тургенев предлагал вообще отказаться от Польши, видя в ней второе по-сле крепостного права «препятствие для прогресса в России». Тургенев использо-вал несколько отличную от Карамзина риторику национального, но отобразил не-устойчивость того, что есть «исконно русские земли»: «За исключением исконно русских губерний, возвращенных России во время 1-го раздела Польши, осталь-ное — т. е. Литва, Подолия, само королевство никогда не находились с Россией в отношениях, необходимых для объединения»[68]. Для Тургенева Подолия в число «исконно русских губерний» не попала. Можно вспомнить, что в январе 1863 года, когда подольское дворянство обратилось с просьбой о присоединении губернии к Царству Польскому, «к стране, которой предания, интересы, принципы свобо-ды гражданской и религиозной суть те же, что и наши», «Московские ведомости» Михаила Каткова дали им гневную отповедь: подольское дворянство «органи-чески неспособно представлять нужды и желания своей провинции», поскольку дворянство — польское, а остальные сословия — «русские». Уничижительный вывод Каткова — «200—300 человек просят о польских преданиях для страны с 1 200 000 жителей, как 18 русских семейств, имеющие дома в Ницце просили бы о введении в городе русских законов»[69] — отражает ситуацию, когда национальное уверенно побеждает сословное.
Как разыграть крестьянскую карту?
Главной предпосылкой победы национального над сословным было приглашение крестьянства в нацию, или опознавание в крестьянах национально родственного сообщества. На протяжении двадцати лет после разделов российская власть фак-тически не вмешивалась во взаимоотношения помещика с крестьянами, а сами эти взаимоотношения были очень далеки от патриархальной идиллии. Лучшим свидетельством тому стало откровенно враждебное отношение большинства кре-стьян к призыву польских шляхтичей поддержать восстание 1831 года. Значитель-но более действенным оказался призыв российского генерала Сакена, обещавше-го, что крепостные больше не будут принадлежать владельцам, восставшим против монаршей власти, и призывавшего крестьян доносить власти на последних.
Первые попытки крестьян «искать правду» у российской администрации до-кументально подтверждены с 1820-х годов. Реагируя на распространение среди крестьян слухов и стремительное увеличение количества жалоб на помещиков, Николай I издал 12 мая 1826 года манифест с опровержением слухов об освобож-дении государственных крестьян от налогообложения и частновладельческих кре-стьян — от власти помещиков. Тот же манифест, исходя из увеличения количества петиций от крестьян, повелевал «для прекращения сего зла и сохранения тишины и порядка… сочинителей или писателей таковых просьб, яко возмутителей общего спокойствия, предавать суду и наказанию по всей строгости законов»[70]. В высочай-шем рескрипте на имя министра внутренних дел от 1 сентября 1826 года император выражал уверенность в том, что «дворянское сословие… с прискорбием встречает каждый пример злоупотребления законной власти над крестьянами и с негодова-нием отвергает все крайности, с отеческим началом сея власти несовместных»[71].
Аксиома «отеческих начал» дополнялась еще одной метафорой бюрократи-ческого происхождения. Канцелярия Киевского, Волынского и Подольского генерал-губернатора уже в 1831 году, определяя личную ответственность помещи-ка за сохранение тех же «тишины и порядка», разъясняла: «Каждый помещик есть ближайший полицмейстер в своих владениях и отвечает своим именем и благосо-стоянием за малейшее неустройство»[72].
Запретив крестьянам жаловаться на «отца» и «ближайшего полицмейстера», центральная власть, однако, не исключала возможности единичных отклонений от нормы. По такому случаю Николай I инструктировал уездных (в источниках того времени используется термин местного происхождения — «поветовых») предво-дителей дворянства. Им вменялось в обязанность периодически наведываться во все окрестные имения и неофициально, без письменного производства, интере-соваться отношением помещиков к крестьянам. В случае получения информации о злоупотреблениях следовало прежде всего убедиться в ее правдивости. Затем надлежало встретиться с помещиком и провести с ним разъяснительную беседу, параллельно неофициально передавая эти сведения губернскому предводителю, который, в свою очередь, ставил в известность гражданского губернатора, но не инициировал никаких действий. И лишь в случае безуспешности разъяснитель-ной беседы, по той же иерархической цепочке, все перечисленные чиновники приступали «уже совокупно к мерам пресечения порядком»[73].
Жалобы крестьян на жестокое обращение помещиков стали предметом рас-смотрения и Комитета министров — высшего административного органа, создан-ного в Санкт-Петербурге в сентябре 1802 года в качестве совещательного инсти-тута абсолютной монархии. Дело об «изнурении крестьян со стороны помещиков Волынской губернии», которое волынский губернатор переслал в Петербург, содержит сам текст прошения с изложенными фактами принуждения к работе в праздничные дни и доведения крестьян до черты голода. Призывая «не дать по-гибнуть в скорботе и тиранстве невинно», крестьяне-просители указывают, что всеми чиновниками польского происхождения «человек почитается хуже скота и при том посудите, что благочестивый Христианин, по занятию работами, не бывает никогда в Церкви Божьей… и сам не знает, что он такое: человек ли или несчастная тварь»[74].
Наиболее любопытно решение Комитета. Не заметив «подсказки» (неизвест-но: сознательной или нет) крестьянской жалобы о влиянии притеснения со сто-роны польских шляхтичей на положение православного населения, петербургские сановники констатировали, что в расследовании данного дела вообще нет необ-ходимости, поскольку прошение никем не подписано. Кроме того, Комитет со-слался на недавнюю поездку по Волынской губернии сенатора Сиверса, «от кое-го, без сомнения, не сокрылись бы столь чрезмерные отягощения крестьян», что выступает дополнительным аргументом в пользу оставления жалобы «без всякого действия»[75].
Изменяется ли такая политика после подавления польского восстания? На протяжении 1831-го и нескольких следующих лет среди документов канцеля-рии киевского военного губернатора часто встречаются два вида бумаг: жало-бы помещиков на непосушание их крепостных с просьбой о государственном вмешательстве для восстановления послушания и жалобы крестьян на поме-щиков за притеснения, являющиеся местью за доносы об их участии в поль-ском восстании.
25 июня 1831 года генерал-адъютант Александр Бенкендорф писал киевско-му военному губернатору Борису Княжнину о полученных им сведениях, что якобы «крестьяне Киевской губернии нередко употребляют во зло предостав-ленное им право предоставлять начальству своих помещиков»[76]. В ответ Княж-нин отмечал, что еще не получал ни одной жалобы от помещиков на подобные злупотребления со стороны крестьян, когда же последние передавали власти по-мещиков или экономов, участвовавших в восстании, недостатка в доказатель-ствах — заготовленном оружии, снарядах и припасах — ни разу не было. Более того, губернатор ссылался на распоряжение генерала Сакена, чтобы «крестьяне, как единственно соблюдшие в нынешнее время долг верноподданической при-сяги, не были угнетаемы своими владельцами»[77], и пересказывал Бенкендорфу содержание своих собственных распоряжений: крестьян, доказавших верность престолу, защитить от притеснений и преследования; всех помещиков и эконо-мов предварительно проинформировать о недопустимости мщения крестьянам; объявить крестьянам о дальнейшем соблюдении верности. Если же помещики тем не менее не могли удержаться от мщения, крестьяне могли жаловаться бли-жайшему начальству[78]
Чем заканчивались такие жалобы, можно узнать из нескольких дел, касаю-щихся конкретных жалоб крестьян. Например, 9 сентября 1831 года шестеро кре-постных с. Кухарив Радомысльского повета Киевской губернии подали жалобу на эконома Гельбовича, который увеличил им барщину и проявлял жестокость, желая отомстить за доносы о его участии в польском восстании. «Ближайшим» начальством оказался земский исправник — родной племянник помещика Понговського, нанявшего Гельбовича, потому крестьяне были вынуждены сразу об-ращаться в высшие инстанции. Перечисляя факты унижений и необоснованных наказаний со стороны Гельбовича и его друзей-шляхтичей, крестьяне просили прислать «безпристрастного» чиновника с целью проведения сурового рассле-дования.
Киевский военный губернатор передал дело в Частную комиссию г. Радомысля, специально подчеркнув в письме, что «хотя и в других поветах Киев-ской губернии были мятежи, но только один Радомысльский повет отличается частными жалобами крестьян на угнетение помещиков и другие безпорядки по имениям, а сие самое доказывает, что вы не обращаете внимания на благо-состояние крестьян»[79]. 9 ноября 1831 года был подготовлен рапорт Радомысльской Частной комиссии, утвеждавший, что увеличение барщины «не подтвер-дилось», «да и самые жалобщики сознались, что они никаких угнетений со стороны энонома Гельбовича в отрабатывании повинностей не чувствуют»[80]. Также «не подтвердились» и сообщения о поддержке Гельбовичем польского восстания.
Несмотря на все это, российскую администрацию беспокоил вопрос защи-ты крестьян от мщения со стороны амнистированных помещиков — участни-ков восстания. В 1835 году при Киевском, Волынском и Подольском генерал-губернаторстве была создана Тайная комиссия по мерам для защиты крестьян от преследования со стороны помещиков за донесения на них во время поль-ского восстания. Правда, результат работы этой комиссии оказался довольно скромным: она рекомендовала ограничиться «освобождением от власти поме-щиков тех только крестьян, которые доносами своими… возбудили против себя вечную вражду», а поскольку они не могли выступить с доносами без согласия всей общины, следовало «освобождение сие распространить на целые селения, не касаясь других деревень того же владельца, в коих на него никаких доносов …не было»[81].
По-видимому, «возбудить вечную вражду» и тем заслужить личную свободу посчастливилось лишь одному крестьянину, а именно Семену Бурделюку, кото-рого освободил от крепостной зависимости Комитет западных губерний. Импера-тор утвердил это решение 30 июля 1835 года[82].
* * *
Таким образом, хотя потенциал этно-религиозных отличий крестьян от помещи-ков на присоединенных от Речи Посполитой землях Российская империя и осо-знавала, на протяжении всей первой половины Х1Х века она использовала его лишь тактически. Такая линия вполне понятна, учитывая, что империя просто не могла не держаться до последнего за сословный принцип своего функционирова-ния, ибо отказ от него предполагал бы качественное переосмысление всех основ ее самоидентификации. В то же время эта объективная привязанность к сослов-ности обрекала Россию на социальное, экономическое и военно-политическое отставание в Европе, где модернизация экономики и армии шли нога в ногу с «на-ционализацией» населения[83].
Переплетение различных политических, культурных и социальных тенденций первой половины XIX века делало все менее реалистичным согласие польских и имперских элит по вопросу о статусе подчиненного населения присоединен-ных к России земель, православных и греко-католиков, в которых русская эли-та постепенно открывала «русских», а польские эмиграционные авторы начина-ли видеть украинцев и белорусов[84]. Противоречия между осознанием этничной специфики зависимых сословий и стремлением возродить Польшу в границах Речи Посполитой 1772 года были непростым вызовом для польской политиче-ской мысли середины ХГХ века. Отвечая на него, польские мыслители ссылались на французский опыт, доказывая, что, несмотря на этнические особенности, «русины и ляхи… всегда составляли один польский народ»[85]. Не соглашаясь с по-следним утверждением, активисты украинского движения охотно воспринимали предложенные польскими коллегами аргументы принципиальных отличий между русинами и великороссами.
В середине XIX века разгорается настоящая война двух образов западных гу-берний / восточных кресов империи. Польская политическая мысль решительно отказывается от образа России как пространства, которое нужно сделать более цивилизованным, и империи, в рамках которой возможно возрождение Речи По-сполитой в границах 1772 года. Российская политика в западных губерниях ста-новится все более чуткой к проблемам языка преподавания и уличных вывесок или вероисповедания подданных. Идущий на смену просвещенному универса-лизму романтизм ознаменовал собой переход от сословно-исторической к этно-культурной нации, что предполагало переосмысление как польских, так и рос-сийских концепций, каждая из которых была отныне обречена на борьбу за души малозаметных ранее «шисматиков».