Лурье Л. Я. Питерщики. Русский капитализм. Первая попытка. — СПб.: БХВ — Петербург, 2011. — 288 с.
Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 4, 2012
Столица часто не походит на страну в целом, но очень многое говорит о государствен-ном устройстве. Это тем более справедли-во в отношении государства централизо-ванного, такого, например, как Россия. Вероятно, поэтому Василий Ключевский предложил периодизацию российской исто-рии «по столицам»: Киеву, Москве, Петер-бургу…
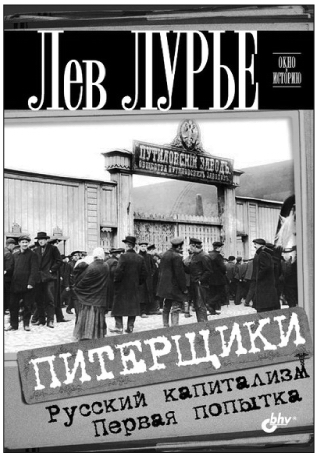
Скучно повторять, что архитектура — это застывшая музыка. В случае с Петербургом это еще и застывшие законы, регламенты, табели, стиль и ритм российской госу-дарственности, которые во многом определяла военно-бюрократическая машина. Два столетия столичная жизнь вра-щалась на плацу между канцелярией и казармой. К середине 1870-х го-дов 20 % населения столицы принадлежали к военному сословию, чуть более 14 % — к госу-дарственным служащим[1]. Здесь царил Левиафан, не признававший других объектов почитания. Ха-рактерно, что в Петер-бурге лишь редкие храмы строились на частные пожертвования, вопреки российской традиции[2].
К чиновничьему миру столицы прихо-дилось привыкать самым разным «малень-ким людям». Вместе с ними столицу обжи-вала и сама Россия, динамично менявшаяся в XVIII—XX веках. Наверное, больше других примечательны в этом отношении годы Ве-ликих реформ 1860—1880 годов. Тогда Россия пережила радикальные изменения: существен-но трансформировалась социальная структура общества, возникли новые институты (органы местного самоуправления, гласный суд, адво-катура и др.). Все это с неизбежностью сказа-лось на жизни Петербурга, где старое и новое постоянно «сталкивались лбами».
Этим «встречам» и посвящена книга Льва Лурье, главный герой которой — капи-талистическая волна, захлестнувшая столицу. Петербург Пушкина стал Питером торговцев и приказчиков. Чаще всего малосимпатич-ные, но зато весьма деловитые нувориши овладели большими богатствами и стали пре-тендовать на особое положение. Их звучные имена (Кокоревы, Овсянниковы, Елисеевы) стали своего рода символом фундаменталь-ных социальных изменений, очевидных в Пе-тербурге и, быть может, не столь заметных в России. Столицу заселяла деревня — ярос-лавская, костромская, тверская, олонецкая. Крестьяне самых разных губерний осваива-лись в Петербурге, а затем в Северной Паль-мире устраивалась вся их родня. Обычно они занимались одним промыслом, в сущности монополизируя его, орга-низовывали землячества, артели.
Показывая повсе-местные столкновения старого и нового в сто-личной жизни, автор «Питерщиков» вполне намеренно подводит читателя к казалось бы очевидному выводу: быть может, капитализм на первых порах и вызывает чувство брезгливости, но он исторически неизбе-жен и в конце концов эф-фективен. Более того, все его бросающиеся в глаза недостатки постепенно уходят в прошлое. «Эпо-ха накопления первона-чального капитала» уступает место временам благообразным, на смену звероподобному миллионеру-поджигателю Овсянникову при-ходят его же внуки — вполне просвещенные политики и меценаты Рябушинские.
Однако всякая историческая анало-гия хромает, как бы привлекательна она ни была. В данном случае сопоставление кон-ца XIX и XX веков не кажется очевидным. Оно становится возможным лишь потому, что автор предлагает слишком уж необыч-ный угол зрения на столичную жизнь второй половины XIX века. Под этим углом хорошо заметны закоулки и задворки Петербурга, но плохо видны его проспекты и площади.
Доминантой петербургской жиз-ни XIX века оставалась канцелярия. Она за-давала темп всему остальному городу. Соб-ственно, и капитализм в российской столице имел канцелярское происхождение. Он «раз-бух» на государственных концессиях, кото-рые прежде всего распределяли в Комитете министров и Министерстве путей сообщения. Именно там чиновники «направляли потоки капиталов», которые чаще всего «осваивали» не железоторговцы Кокоревы, а представи-тели самого ближнего круга императора (например, семейство Адлербергов). Едва ли было случайным и то, что к концу XIX века около 16 % всех должностей в руководящих органах акционерных компаний принадлежа-ло представителям только лишь титулованно-го дворянства[3].
Председателем столичного Биржевого ко-митета долгие годы был придворный банкир барон А. Л. Штиглиц. Председателем Главного Общества российских железных дорог был В. А. Половцов (брат А. А. Половцова — госу-дарственного секретаря и зятя того же барона Штиглица). Одним из основных акционеров этого Общества был великий князь Констан-тин Николаевич. В управлении им принима-ли участие наиболее влиятельные банковские группы, российские и иностранные[4].
Особый петербургский деловой мир вы-страивался на традиционном канцелярском фундаменте. Его главными бастионами становились не фабрики и заводы, а банки, в ко-торых немалую роль играли представители все той же высшей бюрократии. Характерно, что министры финансов И. А. Вышнеград-ский, С. Ю. Витте, В. Н. Коковцов, товарищ министра финансов А. И. Путилов, министр торговли и промышленности В. И. Тимиря-зев и многие другие были тесно связаны как с банковским миром, так и с железнодорож-ными концессионерами. В этом смысле впол-не закономерно, что петербургские предпри-ниматели начала XX века оказались куда более лояльными по отношению к действовавшей власти, нежели их московские коллеги.
Иными словами, в России складывалась своеобразная версия капитализма, где сольная партия была отдана государству и его предста-вителям. Деловую элиту столицы составляли прежде всего не инициативные купцы, вы-бившиеся из крестьян (хотя и такие, конечно, были), а лица с юридическим образованием и классным чином согласно Табели о рангах.
Именно к бюрократической элите на деле принадлежали многие из тех, кого Л. Я. Лу-рье, вероятно несколько опрометчиво, назвал «молодыми реформаторами». Стоит напом-нить, что к 1880-м годам многие разработчики Великих реформ уже отошли к праотцам. Те, что дожили до этого времени, были далеко не юношами. И взгляды представителей «либе-ральной бюрократии» эпохи Великих реформ нашему современнику, вероятно, не пока-зались бы либеральными. Например, братья Милютины верили в социальную благодетель-ную роль самодержавия, отстаивали политику русификации окраин и не всегда считали нуж-ным учитывать общественное мнение.
Все эти как будто напрашивающиеся ана-логии заслоняют главное в книге, в которой языком цифр, таблиц и графиков обрисовывается социокультурный феномен Петербурга конца XIX века. Аристократический, бюро-кратический, военный и, наконец, выращи-вающий капусту крестьянский Петербург не просто соседствовали, а занимали одно и то же пространство и, соответственно, постоян-но сталкивались друг с другом.
Многие столичные дома могли служить образцом социальной пестроты. Плотность размещения жильцов по этажам дома свидетельствует о многом. В подвальном этаже, по данным статистики XIX века, проживали четыре человека в комнате. Там скученность была наибольшей. В первом этаже на комнату приходилось 1,7 человека, на втором — 1,5; на третьем — 1,6; на четвертом — 0,9, на пятых-шестых этажах — 1,3; на мансарде — 3[5]. Тако-вой была «архитектура» столичного общества, в котором жители мансард постоянно прохо-дили мимо квартир своих более благополуч-ных сограждан.
Это многое объясняет в русской исто-рии, русской литературе и даже русской ре-волюции. Архаика и модерн так привыкли встречаться друг с другом, что даже как буд-то не замечали своей столь поразительной близости. Это были параллельные миры, не старавшиеся понять друг друга. По словам сведущего петербургского бытописателя Владимира Михневича, «быть может, наибольшая оригинальность Петербурга за-ключается в том, что огромное большинство его жителей — торговая и промышленная масса — не ассимилируется и, живя иногда целый век, чрезвычайно редко отрешается от родного пепелища, свято храня его обычаи и весь житейский склад»[6].
Большинство жителей города объединя-ли замкнутые диаспоры. Лишь 14 % населения столицы составляли уроженцы Петербургской губернии, 8 % — Ярославской, 6 % — Твер-ской, 3 % — Новгородской, столько же — Финляндии, по 2 % — Московской, Псковской и Костромской, по 1,5 % — Лифляндской и Рязанской[7]. При этом важно иметь в виду, что лишь 33 % населения столицы проживали в Петербурге на постоянной основе, 67 % — гостили, короткое или продолжительное вре-мя[8]. Согласно сведениям городской перепи-си 1869 года мужчин (377 тыс.) в Петербурге было существенно больше, нежели женщин (289 тыс.). Этот демографический перекос в значительной мере обеспечивался приез-жим крестьянством (среди них было 143 тыс. мужчин и 68 тыс. женщин)[9].
Не смыкавшиеся параллельные миры создавали конфликтное пространство рус-ской культуры. Ее «населяли» и «господа», разъезжавшиеся на лето на дачи и за грани-цу, и маляры, тогда же, летом, приезжавшие в столицу со своими гармонями, песнями и непременными семечками[10].
У многих Петербург ассоциировался с во-енными парадами и яркими офицерскими мундирами. Но это были не единственные краски города. «Шерстяные платки на плечах у деревенских баб, всюду сновавших по городу, обычно были в крупную клетку — как это тоже было привычно глазу! И каких только тут не было сочетаний — синего с оранжевым, зеле-ного с красным, серого с черным… А сколько еще всевозможных продавцов и уличных ре-месленников заполняло улицу — разносчики, сбитенщики, точильщики, стекольщики, про-давцы воздушных шаров, татары-халатники, полотеры — всего не перечесть, — и их белые передники, картузы, зипуны, валенки (ино-гда так красиво расписанные красным узором) и разные атрибуты и инструменты простона-родья, как все это оживляло и красило картину петербургской жизни»[11]. Полиция, вероятно пугаясь такой социальной пестроты столи-цы, не пускала одетых «по-простонародному» в Летний сад, на Дворцовую набережную, да и на Невский и Большую Морскую (если не считать утренних часов)[12].
«Трение» этих миров и стало одной из причин февраля 1917 года, столь загадочного как для современников, так и для исследо-вателей. В те дни государственные мужи Пе-тербурга должны были «расшифровать» бро-жение непонятного для них «дна» столицы. Утомленные бесплодным противостоянием с правительством, депутаты Думы томились в ожидании революции, которая, подобно deus ex machina, должна была разрешить все волновавшие их проблемы. Они пугали власть «Ахеронтом» в ноябре, декабре 1916 года, в январе и феврале 1917-го. Уже, казалось бы, ничто не предвещало потрясений, когда по столице прокатилась волна спорадических и никем не организованных волнений, в кото-рых немалую роль сыграл городской люмпен, недавно побывавший на фронте. Изначально правительственная администрация не при-давала этим волнениям большого значения, городской обыватель не усматривал в хаосе тех дней тектонических сдвигов всей россий-ской жизни, зато думцы, не покидавшие Тав-рического дворца, в самом скором времени пришли к мысли, что это и есть революция, которую они ждали уже несколько месяцев — именно они рассмотрели ее призрак в неяс-ных очертаниях социального недовольства[13].
[1]Михневич В. Петербург весь на ладони. СПб., 1874. С. 263.
[2] Там же. С. 268.
[3]Корелин А. П. Дворянство в пореформенной России. 1861 — 1904 гг. М., 1979. С. 120.
[4]Колышко И. И. Великий распад: Воспоминания. СПб., 2009. С. 124.
[5] Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия. Т. 2. Девятнадцатый век. СПб., 2011. Кн. 8. С. 538.
[6]Михневич В. Указ. соч. С. 262.
[7] Там же. С. 265.
[8] Там же. С. 266.
[9] Там же. С. 270.
[10]Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С. 11.
[11] Там же. С. 13.
[12] Там же. С. 12.
[13]Соловьев К. А. Политическая культура // Очерки русской культуры. Конец XIX — начало XX в. Т.