Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 1, 2012
Понятие нация играет ключевую и весьма многоплановую роль в политическом мышлении модерна. Задача этой статьи — проследить эволюцию понятия нация и контекстов его использования в русском языке от петровского времени до конца XIX века. Проблематика начала ХХ века обсуждается в самых общих чертах лишь в заключении к статье, поскольку резкое увеличение числа и объема текстов, использующих понятие нация в этот период, требует особого, весьма трудоемкого и продолжительного по времени исследования.
Понятия народ и народность рассматриваются в этой статье в той мере, в которой они были непосредственно связаны с понятием нация, то есть использовались для его перевода, замены, объяснения, порой — вытеснения. Этот подход обусловлен рядом причин. Во-первых, такая связь, то есть использование понятий народ и народность именно для перевода, замены и объяснения понятия нация, действительно прослеживается, и в статье это будет показано. Изучение этой связи и позволяет выделить из весьма широкого поля значений понятий народ и народность ту специфическую область, где они приобретают политическое содержание, резонирующее с содержанием понятия нация. Во-вторых, такой подход позволяет четче проследить механизмы заимствования, усвоения и цензурирования понятия нация, то есть взглянуть на него не только с точки зрения истории понятий, но также в контексте истории культурных трансферов[2]. Наконец, поскольку до сих пор внимание исследователей было сосредоточено главным образом на понятии народность, это неизбежно приводило к некоторой недооценке значения и распространенности понятия нация[3].
В выборе источников мы, сознавая все недостатки такого подхода, ограничиваемся почти исключительно авторами «первого ряда», то есть известными политическими и творческими персонажами. Причина проста — даже этот пласт источников исследован на сегодняшний день совершенно недостаточно. Впрочем, отчасти ограниченность круга источников компенсируется прочтением их не с точки зрения истории идей, но именно в рамках истории понятий. Из прессы систематическому анализу были подвергнуты лишь катковские издания первой половины 1860-х годов. Также использованы традиционные для таких исследований источники — словари и энциклопедии, в основном XIX и начала ХХ века.
Датировка заимствования, источники и механизмы
Процесс заимствования понятий нация и народ исследован слабо. Можно, однако, уверенно утверждать, во-первых, что источников и каналов заимствования было несколько, и, во-вторых, что понятие народ заимствуется ранее понятия нация.
Сергей Плохий считает, что понятие народ усваивается в Московском государстве в середине XVII века, когда после восстания Богдана Хмельницкого и перехода левобережной Гетманщины под власть царя резко интенсифицировались контакты между Московским царством и киевским кругом православных духовных деятелей[4]. В этом контексте понятие народ имело, разумеется, сильные религиозные коннотации. Важную роль в процессе утверждения понятия народ в значении общности не только религиозной, но и этнополитической, связанной также с династической лояльностью, сыграл Синопсис, или собрание кратких выдержек из летописей о «начале славено-российского народа». Составленный Иннокентием Гизелем, настоятелем Киево-Печерского монастыря, Синопсис был впервые издан в Киеве в 1674 году и оставался на протяжении всего XVIII века главной исторической книгой в России[5]. Трансфер понятия народ из родственного языкового, религиозного и культурного контекста, во многом вместе с трансфером в Россию самих его носителей из среды киевских книжников, способствовал его быстрой ассимиляции.
Николай Александрович Смирнов, изучивший в начале ХХ века три более или менее кратких списка (словаря) недавно заимствованных слов, составленных в первой трети XVIII века, указывает, что, хотя главным источником заимствований была в то время Германия, многие слова, в том числе и нация, заимствовались через Польшу, на что указывает окончание -ия[6]. В недатированном, но сохранившем собственноручную правку Петра I Лексиконе вокабулам новым по алфавиту слово нация объясняется как «народ руский, немецкий, полский и прочая»[7]. В Регламенте шкиперам (СПб., 1724. С. 4) слово нация употребляется в смысле государственной принадлежности: «Когда чужестранный (шкипер) найдет что в воде потерянное, людми нашея нации, то оное объявлять»[8]. Наконец, краткий список иностранных слов Различная речения иностранная противо славено-российских, датированный 1730 годом, сохранился в архиве графа Алексея Сергеевича Уварова. В нем содержатся такие записи: «нация — народ», «димократия — народодержавство»[9]. Понятие нация использовал в своих проповедях послеполтавского периода Феофан Прокопович при обсуждении международных отношений и применительно к иностранным державам, предпочитая понятие народ или наше отечество применительно к России[10]. Таким образом, к первой четверти XVIII века понятие народ уже было прочно усвоено, утратило новизну и использовалось для пояснения понятия нация в качестве эквивалента. Это сохранилось и впредь. Например, в словаре Владимира Ивановича Даля одна из трактовок понятия народ оказывается близкой понятию нация: «Обыватели государства, страны, состоящей под одним управлением»[11]. Слово же нация сохраняет отчетливый оттенок чужеродности, «иностранности» вплоть до второй половины XIX века.
Можно высказать предположение, что понятие нация заимствовалось в петровскую эпоху как из общения с поляками, так и в ходе контактов, в том числе дипломатических, с другими государствами Европы. Очевидно, что из польского контекста, и в прямой связи с польскими реалиями приходит понимание нации как дворянской корпорации, которое оставалось актуальным в России вплоть до начала XIX века[12].
Скорее из дипломатических контактов и для дипломатических целей усваивается понимание нации как суверенного государства. Это видно из цитированного Регламента шкиперам. В первом русском неофициальном сочинении по вопросам международного права, опубликованном вице-канцлером Петром Павловичем Шафировым в 1717 году, понятие нация не использовалось. Однако понятие политичные народы, которым пользуется Шафиров, в английском переводе его книги, появившемся в 1722 году, передано как civilized nations[13].
В целом в XVIII веке между понятиями нация и империя в России нет напряжения и противоречия.
Понятие нация часто использовалось в донесениях русских дипломатов, в том числе с Балкан[14]. Слово нация в значении «держава», «империя» продолжало использоваться и в ходе войн с Наполеоном в тайных меморандумах, адресованных Александру I и писанных по-французски. Так, о “toutes les nations de l’Europe” рассуждает в своей записке от ноября 1809 года Федор Петрович Пален[15], о “toute l’énergie de la nation russe” говорит в своем меморандуме от 22 января 1812 года Барклай де Толли[16].
Нация как дворянская корпорация и тема прав первого сословия
В начале 1780-х годов Денис Иванович Фонвизин работал над Рассуждением о непременных государственных законах, которое должно было стать введением к соответствующему проекту законов Петра Ивановича и Никиты Ивановича Паниных[17]. Братья Панины составляли этот проект для наследника Павла Петровича[18]. Проект продолжал ту линию на ограничение самодержавия, которая была заявлена в проекте Никиты Панина о создании имперского совета и расширении полномочий Сената, поданном Екатерине вскоре после ее восшествия на престол. Слово нация встречается в тексте более десяти раз и используется Фонвизиным как ключевое понятие, которым автор обозначает корпорацию российского дворянства. Рассуждение словно стоит на границе эпох — влияние идей западноевропейского Просвещения очевидно, но не менее очевидно влияние шляхетской традиции Речи Посполитой. Фонвизин стремится обосновать понимание дворянской нации как источника легитимной власти монарха. Он даже рассуждает о праве нации восстать против нечестивого монарха: «В таком гибельном положении нация, буде находит средства разорвать свои оковы тем же правом, каким на нее наложены, весьма умно делает, если разрывает. Тут дело ясное. Или она теперь вправе возвратить свою свободу, или никто не был вправе отнимать у ней свободы»[19].
Эти рассуждения были частью сугубо тайного документа и трудно представить их заявленными публично. Однако в ином контексте, не применительно к России, эти темы, в том числе выраженные с помощью понятия нация, могли появиться и в печати. В брошюре, написанной против Барской конфедерации под видом перевода с французского, Яков Иванович Булгаков многократно употребляет понятие Нация, рассуждая о правах польского шляхетства, а по сути используя ссылки на эти права для оспаривания легитимности преобразований, подрывавших влияние России в Речи Посполитой[20].
В этом сочинении понятие нация оказывается уже тесно связанным с темой конституции и с вопросом соотношения прав нации и представительских учреждений, что, впрочем, имплицитно присутствовало уже в уваровском списке 1730 года. Но сама трактовка прав Нации Булгаковым преследует цель лишить легитимности реформаторские усилия сейма. Впрочем, утилитарный, пропагандистский характер этого сочинения не отменяет важности обсуждаемого вопроса об опасности узурпации власти представительными учреждениями. Таким образом, в конце XVIII века понятие нация, обозначавшее наделенное неотъемлемыми правами дворянское сословие, используется для обсуждения темы ограничения власти монарха, темы конституции и темы представительных учреждений.
Нация, конституция и представительные учреждения
Проблема нации как источника легитимности была поставлена со всей остротой Французской революцией. В Декларации прав человека и гражданина (1789) говорилось: «Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации»[21].

При этом в революционной Франции нация заведомо понималась как надсословная общность, наделенная суверенитетом и правом политического представительства. Вопрос о том, кто же составляет нацию, кто действует от имени нации, если она не ограничивается дворянской корпорацией, становится одним из ключевых. Можно сказать, что в конце XVIII и начале XIX века понятие нация заимствуется в Россию заново, уже из контекста революционной Франции.
Новое содержание понятия утверждалось довольно быстро даже на самом верху российской социальной пирамиды. 27 сентября 1797 года наследник престола, будущий царь Александр I, отправил из Гатчины с близким другом Николаем Николаевичем Новосильцевым письмо своему почитаемому бывшему воспитателю Фредерику-Сезару Лагарпу. В письме сообщалось, что Новосильцев едет спросить «советов и указаний в деле чрезвычайной важности — об обеспечении блага России при условии введения в ней свободной конституции». Суть своего плана, призванного даровать свободу «сверху», дабы избежать революции «снизу», Александр излагал так:
…я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться игрушкой в руках каких-либо безумцев […] мне кажется, что это было бы лучшим родом революции, так как она была бы произведена законною властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена, и нация избрала бы своих представителей. Вот в чем заключается моя мысль[22].
Разумеется, Александр излагал Лагарпу свою мысль на французском языке, но наследник престола Российской империи говорил именно о России, и именно применительно к России употреблял понятие нация в неразрывной связи с понятиями свободы, конституции и представительства. Александр провозглашает своей целью избежать французского революционного сценария, а также подчеркивает, что заимствование идей и их распространение в обществе должно происходить «само собою разумеется, постепенно». Нетрудно разобрать эхо наставлений Фонвизина, адресованных батюшке Александра. Этот вопрос о сохранении стабильности и управляемости в ходе преобразований и заимствований станет ключевым для русской мысли XIX века, и она будет давать на него самые разнообразные ответы[23].
В реформаторских проектах Михаила Михайловича Сперанского, относящихся к первому десятилетию XIX века, слова нация мы не находим. Но используемое им понятие народ по смыслу часто оказывается идентичным понятию нация. Конечно, французское влияние на Сперанского очевидно, и в 1812 году обвинения в «привязанности к французской системе» стали одной из причин его ссылки. В Отрывке о Комиссии Уложения, написанном в 1802 году, говорится: «Вместо всех пышных разделений свободного народа русского на свободнейшие классы дворянства, купечества и проч. я нахожу в России два состояния: рабы государевы и рабы помещичьи. Первые являются свободными только в отношении ко вторым, действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов»[24]. Вслед за этими знаменитыми рассуждениями Сперанский делает замечание, которое затем вычеркивает, очевидно, из осторожности: «Прежде надобно создать сей народ, чтоб дать ему потом образ правления»[25]. Он вполне отдает себе отчет в том, что нация формируется через политическую практику. Во Введении к Уложению государственных законов (1809) Сперанский рассуждает о том, кому в России могли бы принадлежать «права политические», то есть «право избрания и право представления», при этом прямо отсылая к опыту «европейских государств», в которых «основалась система выборов или народного представления»[26]. В течение всего XIX века понятия народного представительства, национального собрания будут тесно связаны с понятием нация. Даже в самый лютый с точки зрения цензурных ограничений период 1840-х годов редактировавшийся Михаилом Васильевичем Петрашевским словарь иностранных слов мог напечатать подробную и внятную статью Национальное собрание, со ссылками на опыт стран, стоящих «на высшей ступени развития», в то время как статья Нация могла лишь сообщить читателю, что «это слово часто употребляется вместо слова народ в тех случаях, когда имеют в виду обратить внимание читателя […] на племенную родственность членов какого либо народа»[27].
Период, когда понятие нация использовалось для описания конституционных реформ, оставаясь почти исключительно принадлежностью франкоязычной части дискурса российских элит, продлился до середины 1820-х годов. Победа в войне с Наполеоном не сняла с повестки дня проблему политических преобразований, прежде всего конституции и национального представительства. Именно эти принципы были реализованы Александром I во вновь созданном Царстве Польском, получившем и конституцию, и сейм, и конституционного монарха, по совместительству российского самодержца. Именно в Варшаве по поручению царя Новосильцев начал в 1818 году готовить Государственную уставную грамоту, а точнее La charte constitutionelle de l’Empire de Russie. Текст писали на французском и с привлечением французских юристов[28].
Если в 1797 году Александр, тогда наследник престола, предполагал, что, после того как он дарует конституцию, «нация изберет своих представителей» и к ним перейдет власть, то в подготовленной по его распоряжению Государственной уставной грамоте 1819 года единственным источником легитимности является уже сам монарх[29]. Но идея национального представительства в проекте все же осталась: статья 91 заявляет: «La nation russe aura à perpétuté une representation nationale»[30]. В русском переводе XIX века это звучало так: «Да будет российский народ отныне навсегда иметь народное представительство».
Именно в контексте своих трудов в Варшаве, в канцелярии Н. Н. Новосильцева, Петр Андреевич Вяземский задумывается над русским переводом ряда политических понятий, о которых прежде рассуждали исключительно на французском. «Многие слова политического значения, выражения чисто конституционные были нововведениями в русском изложении», — так говорил сам Вяземский о проблемах, с которыми тогда столкнулся. Вяземский консультировался по поводу перевода таких понятий с Карамзиным, и, вероятно, не только с ним. Некоторые результаты своих размышлений он излагал в письме из Варшавы 22 ноября 1819 года Александру Ивановичу Тургеневу:
Зачем не перевести nationalité — народность? Поляки сказали же: narodowosc. Поляки не так брезгливы как мы, и слова, которые не добровольно перескакивают к ним, перетаскивают они за волосы, и дело с концом. […] Слово, если нужно оно, укоренится. Неужели дичимся мы теперь от слов татарских, поселившихся у нас? А гораздо лучше, чем брать чужие, делать — своим, хотя и родиться должны от не всегда законного соития. Окончание ость — славный сводник; например: libéralité непременно должно быть: свободность, а liberal — свободностный[31].
Будучи в Варшаве, Вяземский заимствует механизм «перевода» слова из польского языка, но думает, конечно, о либералах и свободах Западной Европы[32].
Важный аспект двойного значения слова народность становится вполне ясен из того, как в 1824 году П. А. Вяземский, уже в печати, поучал своего оппонента, Михаила Александровича Дмитриева: «Всякий грамотный знает, что слово национальный не существует в нашем языке; что у нас слово народный отвечает двум французским словам: populaire и national; что мы говорим песни народные и дух народный там, где французы сказали бы chansons populaire и esprit national»[33]. Эта линия напряжения между народностью как populaire и народностью как national будет активно эксплуатироваться позднее в политическом дискурсе славянофилами и, особенно, народниками.
Разумеется, П. А. Вяземский искал именно адекватный перевод слов нация, национальность, национальный. Однако понятие народность в 1820-е годы не пользовалось большой популярностью. Слово народность решительно не нравилось, например, Пушкину, в том числе и неопределенностью своего значения: «С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы — но никто не думал определить, что он разумеет под словом народность»[34].
В самом начале 1820-х годов Александр I по ряду причин отказывается от планов конституционных преобразований в России как несвоевременных[35]. Идеологически национальное представительство и конституция не отвергнуты окончательно, но из публичного дискурса эти темы изымаются. Однако в кругу тайных обществ они продолжают обсуждаться весьма интенсивно. Русская Правда Павла Ивановича Пестеля, которая сочетала элементы конституции и политической программы, была написана в основном в 1822–1825 годах, и в главных пунктах была одобрена членами «Южного общества» декабристов[36]. Пестель пишет Русскую правду по-русски, но думает при этом по-французски, и на французском оставляет пометки на полях о том, что следует писать далее. Свой русский текст Пестель просил редактировать тех соратников, которые, как он считал, знали русский лучше, чем он. Он, очевидно, был озабочен поиском русской формы и русских слов для представления своих идей — поэтому он пишет не конституцию, а Русскую Правду. Поэтому, зная и используя понятие нация, применительно к России он пользуется понятием «Русский Народ» как синонимом нации. Пестель готовит этот документ с мыслью о его обнародовании после победы восстания. Полное название документа говорит в этом смысле само за себя: «Заповедная Государственная Грамота Великаго Народа Российскаго служащая Заветом для Усовершенствования Государственнаго Устройства России и Содержащая Верный Наказ как для Народа так и для Временнаго Верховнаго Правления». Поиск подчеркнуто русских выражений вместо иностранных понятий конституция и нация связан именно с проблемой восприятия широкой публикой, для которой слово нация оставалось к тому времени отчетливо иностранным.
В Русской Правде изложен наиболее радикальный и последовательный, выдержанный совершенно во «французском духе», проект строительства нации в Российской империи. Он сочетает радикальные политические преобразования, включая уничтожение, в том числе буквальное, династии, и самую радикальную ассимиляторскую программу.
Пестель дважды использует слово нация в Русской Правде, оба раза говоря об «иностранцах, принадлежащих к разным другим нациям». Сама оговорка о других нациях свидетельствует, что он имплицитно имеет в виду и нацию Российского государства. (Вообще эта формула, в которой понятие нация применяется к России «по аналогии», будет весьма характерной для русского дискурса всего XIX века. Понятие нация вполне осознанно использовалось в XVIII веке именно как инструмент внешнеполитической репрезентации. В XIX веке эта формула часто используется уже неосознанно: если Россия среди других, то нация, а если речь идет только о России, вне сравнительного контекста, то естественнее употребить понятие народ.)
Пестель воспринимает нацию (Народ) как этнически открытую общность, связанную политическими узами гражданства и культурно-языковым единством.
П. И. Пестель делит народы на большие и малые, причем он не рассматривает народ или племя как имманентную сущность, и видит в малых народах объект ассимиляции и социальной инженерии. Он противопоставляет и подчиняет важное для эпохи романтизма «Право Народности» «Праву Благоудобства» (вторая глава, параграф 1), полагая, что «право Народности существует истинно для тех только Народов, которые, пользуясь оным, имеют возможность оное сохранить», то есть, способны отстоять его военной силой. Малые народы, по Пестелю, лишены такой возможности, а «посему лутче и полезнее будет для них самих, когда они соединятся духом и обществом с большим Государством и совершенно сольют свою Народность с народностью Господствующаго Народа, составляя с ним только один Народ, и переставая безполезно мечтать о Деле Невозможном и Несбыточном»[37].
В альтернативном декабристском программном документе, заметно более краткой Конституции Никиты Михайловича Муравьева, говорилось об освоении русского языка, без знания которого через 20 лет после введения этой Конституции в жизнь нельзя будет пользоваться гражданскими правами[38].

В обязанности «Русского Народа», как и других больших наций, входит, по П. И. Пестелю, «охотно принимать в свою Народность племена присоединенныя, дабы они составляли в Государстве не только худо прилепленныя к нему части, но сливались бы совершенно в общий Состав, забывали бы свою прежную безсильную Народность и вступали бы с удовольствием в новую Величественнейшую Народность». Русская Правда, очевидно, вдохновлялась французской моделью нациестроительства, основанной на лидирующей роли централизованного светского государства и культурно-языковой гомогенизации.
Проект Пестеля — это, кажется, единственная попытка рассматривать всю империю как материал для строительства нации. «Большое Государство» из Русской Правды, по сути, стремится перестать быть империей, преодолев культурную, языковую и, со временем, кажется, даже конфессиональную неоднородность, слив все группы подвластного населения в один «Господствующий Народ»[39].
Русская Правда — это пример реакции на качественно новую ситуацию, возникшую в результате аннексий конца XVIII и начала XIX века, когда этническая гетерогенность империи резко возросла. Тема этнической разнородности империи и способов ее преодоления, ассимиляции и аккультурации становится все более важной и описывается с помощью всего доступного набора понятий — народ, нация, народность.
Анализ реформистских проектов первых десятилетий XIX века показывает, что перед их авторами с новой остротой встала проблема перевода слова нация, сохранявшего отчетливый привкус иностранного заимствования, на русский язык. В это время происходила эмансипация русского языка как языка публичной сферы. Частью этой эмансипации было стремление находить слова русского корня для перевода заимствуемых понятий. В ключевых политических документах, таких как различные Уложения, Заповедные Грамоты и Русские Правды, стремление к замене слова нация русскими эквивалентами (народ, народность) было связано с предполагавшимся в будущем публичным характером этих документов.. Отсюда стремление, во-первых, использовать слова, более понятные широкой публике, и, во-вторых, избежать иностранных слов, дабы не подчеркивать лишний раз заимствованного характера предлагаемых политических идей и норм.
От перевода к редактированию, вытеснению и цензуре
Весь реформаторский и революционный дискурс как властвующих элит, так и заговорщиков-декабристов оставался, за редкими исключениями, непубличным. После восстания декабристов и польского восстания 1830–1831 годов прежний дискурс о нации и национальном представительстве как желанной, хотя и труднодостижимой цели, сменился в позиции официальных кругов отрицанием конституции и национального представительства как неуместных для России в принципе. Это потребовало и отказа от понятия нация как слишком тесно связанного с идеями конституционализма.
В отношении понятия нация Сергей Семенович Уваров произвел операцию, во многом похожую на то, что было сделано в отношении понятия цивилизация[40].
Знаменитая формула «Православие, Самодержавие, Народность», предложенная Уваровым, знаменует этот новый этап[41]. Уже в 1820-е годы имперские элиты, на основании как зарубежного, так и домашнего, декабристского опыта, осознали весь масштаб опасности, таившейся для старого режима в понятии нация. К этому моменту становится очевидным «неудобство» понятия нация не только как атрибута определенного политического устройства, несовместимого с самодержавием. Оказалось также, что понятие нация может быть с успехом использовано элитами окраин империи для того, чтобы бросить вызов имперскому центру. 25 января 1831 года, после демонстрации в честь казненных декабристов, сейм от имени польской нации детронизировал Николая I.
С. С. Уваров четко сформулировал свое отношение к политическому содержанию понятия нация: «Приняв химеры ограничения власти монарха, равенства прав всех сословий, национального представительства на европейский манер, мнимо-конституционной формы правления, колосс не протянет и двух недель, более того, он рухнет прежде, чем эти ложные преобразования будут завершены»[42]. Главные элементы традиционной идеологической конструкции воспроизведены — империя в ее современном состоянии и могуча (колосс), и хрупка одновременно. Но если прежде конституция и национальное представительство рассматривались как благо, недоступное для России в ее нынешнем состоянии, то теперь это «ложные преобразования».
Остается, между прочим, неясным, какую роль в выборе именно термина народность сыграли сотрудники Уварова, переводившие его французские тексты на русский язык. Сам Уваров писал: nationalité[43], — и в ряде его русских текстов мы встречаем также слово национальность в контекстах, похожих на те, в которых используется слово народность[44].
Вытеснение из официального дискурса понятия нация было, прежде всего, вызвано его неразрывной связью с конституцией, национальным представительством и надсословностью. Именно расплывчатость понятия народность и возможность использовать его не столько для перевода, сколько для редактирования понятия нация оказались востребованы. Механизм этого явления понимал Виссарион Григорьевич Белинский, который писал: «Слово же народность именно есть одно из тех слов, которые потому только и кажутся слишком понятными, что лишены определенного и точного значения»[45]. Цензура преследовала понятие нация, что можно хорошо видеть на примере печальной судьбы статей Белинского, где он пытался коснуться этих вопросов даже в весьма завуалированной форме[46].
Нация обсуждается Белинским в связи с такими понятиями, как государство и общество. По необходимости Белинский делал это в завуалированной форме и не мог вполне развить свои идеи — цензура внимательно следила за этими сюжетами. Весьма возможно, что именно опасением цензурных репрессий можно объяснить, почему в статье Общий взгляд на народную поэзию и ее значение. Русская народная поэзия, написанной в 1842 году, Белинский лишь однажды использовал слово нация, но многократно — слово народ[47]. (Впрочем, статья все равно не прошла цензуру и была опубликована только в 1862 году.) Темы, которые Белинский пытался обсуждать в печати, занимали умы в умножавшихся как раз в то время интеллектуальных кружках, где свобода высказывания не зависела от цензуры[48].
Более поздние работы свидетельствуют об устойчивости рассмотренных мотивов в мысли В. Г. Белинского. Например, он возвращается к ним в статье Взгляд на русскую литературу 1846 г. О «взрослости»: «В чем состоит эта русская национальность, этого пока еще нельзя определить»[49]. О политическом содержании понятия: «Человек силен и обеспечен только в обществе; но, чтобы и общество, в свою очередь, было сильно и обеспечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь — национальность»[50].
Усилия властей давали результат, и, как писал Модест Андреевич Корф в своем дневнике 1848 года, шеф жандармов Алексей Федорович Орлов не без удовлетворения отмечал, что угроза революции в России по образцу европейских потрясений мала, поскольку:
…главный оплот наш […] против народной […] общей революции, в том, что у нас нет ни элементов для нее, ни орудий […] Элементов нет, потому что свобода книгопечатания, народная репрезентация, народное вооружение и прочие, наполняющие теперь Запад идеи, для девяти десятых русского народонаселения — совершенная ахинея[51].
В то же время, стремясь вытеснить понятие нация на обочину дискурса, власти открывали публичное пространство и, что особенно важно, пространство периодической печати для дебатов о народности. В политике имперских властей элементы националистической тактики становятся очевидными с 1830?х годов. Особенно ясно это прослеживается в деятельности С. С. Уварова, создавшего кафедры отечественной истории, внедрившего в образование национальный исторический нарратив в его устряловской версии, стандартизировавшего университетские программы[52].
Изначально понятие народность использовалось для обозначения общности (и в этом значении могло быть более или менее сходно по значению с понятиями народ и нация) или для обозначения свойств литературных сочинений и других произведений искусства. Оба значения оставались актуальными вплоть до 1880-х годов. Вместе с тем в конце 1840-х годов новая трактовка понятия народность как набора специфических характеристик, присущих тому или иному народу, была предложена Николаем Ивановичем Надеждиным в его докладе Об этнографическом изучении народности русской[53]. Надеждин и его взгляды на народность оказывали существенное влияние на программу деятельности Императорского Русского географического общества и дискурс этнографической науки вплоть до 1880-х годов. Мария Войттовна Лескинен, подробно рассмотревшая надеждинскую трактовку народности, считает, что «соотношение народа и народности у Надеждина близко к современному различению этноса и этничности»[54]. Если воспользоваться словами самого Надеждина, «народы составляют предмет, которым ближайше занимается, а описание ‘народностей’ есть содержание, из которого складывается этнография»[55]. Именно в этом значении употребляет в 1883 году и позднее понятие народность Владимир Сергеевич Соловьев, когда пишет, что «англичане грабят народы, немцы уничтожают в них саму народность»[56].
Постсевастопольская Россия. «Перезагрузка» понятия народность, возвращение нации
В. С. Соловьев пользовался выражением «предсевастопольский период», которое, пожалуй, более точно определяет рубеж двух эпох, чем привычное понятие «эпоха великих реформ»[57]. Смена дискурса начинается практически одновременно с началом нового царствования, во второй половине 1850-х годов, задолго до отмены крепостного права. Атмосферу 1856–1857 годов хорошо передает заметка Александра Ивановича Герцена, открывающая третью книгу Полярной звезды. «В последние два года литература наша возмужала на десять лет», — пишет Герцен и объясняет, что в томе нет обозрения русской литературы уже не потому, что недостаточно материала, но потому, что он не уверен, что «отзывы Полярной Звезды не опасны для книг и лиц в России»[58].
Понятие нация и производные от него не сразу возвращаются на страницы печати — это происходит скорее в самом начале 1860-х годов. Однако уже в конце 1850?х в дискурсе имперской бюрократии используется понятие национальный, причем прежде всего в связи с национализмом на окраинах империи. В предписании цензурным комитетам от 1858 года в случае переиздания Граматки Пантелеймона Александровича Кулиша, впервые напечатанной в Петербурге в 1857 году, указано исключить из нее статьи, «проникнутые национальным украинским духом»[59]. В 1860-е устойчиво присутствует в языке бюрократии понятие национальный вопрос. Собираясь в инспекционную поездку в Киевское генерал-губернаторство летом 1864 года, Петр Александрович Валуев так формулировал свои задачи в докладной записке царю: «В отношении к национальному вопросу надлежит обратить внимание на стремления малороссийского сепаратизма и наблюдать за тем, чтобы под видом патриотического противодействия полонизму так называемые украйнофилы не организовали в народных массах противодействия правительственному великорусскому началу единства России»[60]. Понятие нация и производные от него активно используются в начале 1860-х и в дискурсах окраинных националистов[61].
В начале 1860-х годов впервые заявленная в печати, в первую очередь в журнале Основа, идеология украинского национализма поставила под вопрос концепцию общерусской народности, объединяющей великороссов, малороссов и белорусов. Этот вызов приобретал особое значение в условиях освобождения крестьян, когда актуальными становились вопросы массового начального образования и языка преподавания в начальных школах, а также проблема включения крестьян в нацию (или народность) в качестве субъекта. Новую остроту этим сюжетам придали события 1863–1864 годов, связанные с польским восстанием. Эти две темы — национального сепаратизма на окраинах и консолидации русской нации — существуют уже нераздельно в дискурсе 1860-х годов.
Наиболее активны в обсуждении этих вопросов катковские издания. Сам Михаил Никифорович Катков уделяет им пристальное внимание. До 1863 года в его публицистике чаще используется понятие народность, содержание которого, впрочем, становится очень близко понятию нация. В ответ на статью Николая Ивановича Костомарова Две русские народности, где речь шла о великорусах и малорусах/южнорусах как об отдельных народностях, Катков писал: «Возмутительный и нелепый софизм […] будто возможны две русские народности и два русских языка, как будто возможны две французские народности и два французских языка!»[62] Здесь «русская народность» очевидно используется в значении «нация»[63]. Тогда же, по аналогии с европейскими державами и в связи с вызовом со стороны украинского национализма, в русской мысли начинает активно разрабатываться тема разграничения между русской нацией и русской национальной территорией, с одной стороны, и империей — с другой[64].
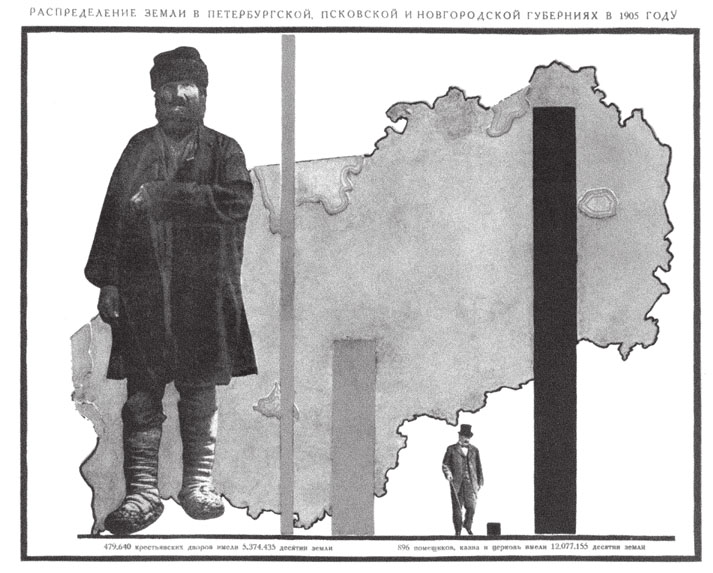
В 1863 и 1864 годах Катков уже много пишет именно о нации, прежде всего в связи с вопросом о «принципе национальности», то есть о праве наций на самостоятельное политическое существование и о целостности империи, которую он трактует как государство русского народа.
Очень часто в текстах М. Н. Каткова появляется в это время пропагандистское словосочетание «национальное чувство»: «нет в мире народа, в котором национальное чувство было бы так сильно и крепко как в русском народе»[65]. Это составляет очевидный контраст с его настроениями 1861 года, когда он еще не принял на себя роли главного пропагандиста русского национализма: «Русская народность еще сама сомневается в себе, ищет себя и не обретает. Где на народность большой спрос, где о ней слишком много толкуют, там значит ее мало или там ее нет в наличности»[66].
Эта смена дискурса в условиях польского восстания была характерной для большей части общества.
&Константин Николаевич Леонтьев использовал в своих работах понятие нация, а в начале 1870-х даже не придавал ему негативного смысла. Так, в статье Панславизм и греки Леонтьев писал:
Немцы — нация. Славяне — племя, разделенное на отдельные нации языком, бытом, прошедшей историей и надеждами будущего. Немцы могли соединиться в одно союзное государство. Славяне могут составить лишь союз отдельных государств. Этнографически немецкое государство и немецкую нацию можно уподобить большой планете, около которой есть лишь два одноплеменных спутника германского племени — Голландия и Скандинавия. Россия — планета со многими спутниками, похожими этнографически не на Баварию или Ганновер (Баварию или Ганновер можно было бы уподобить лишь отдельному Новгородскому или Малороссийскому царству), а на Голландию и Швецию[67].
Очевидно, что здесь понятие нация у Леонтьева тесно связано с государственностью и с особой степенью культурной близости, в то время как племя — понятие, обозначающее общность более широкую и аморфную.
В работе 1875 года Византизм и славянство К. Н. Леонтьев уже начинает развивать представление о современном ему национализме (это слово он и использует) как о силе, неразрывно связанной с либерализмом и конституционным устройством. В этом качестве национализм оказывается орудием либерального «упрощения», борьбы с аристократическим принципом внутри отдельных обществ и орудием нивелирования человеческих обществ в мировом масштабе[68]. Наиболее четко эти идеи были представлены Леонтьевым в брошюре Национальная политика как орудие всемирной революции[69]. Главный тезис дан чеканной формулой: «Движение современного политического национализма есть не что иное, как видоизмененное только в приемах распространение космополитической демократизации»[70]. Национализм у Леонтьева оказывается борьбой со всяческой традиционной оригинальностью за установление светского либерально-конституционного уравнительного порядка, «космополитизмом идей и чувств»[71].
Все эти нации, все эти государства, все эти общества сделали за эти 30 лет огромные шаги на пути эгалитарного либерализма, демократизации, равноправности, на пути внутреннего смешения классов, властей, провинций, обычаев, законов и т. д. […] Все общества Запада за эти 30 лет больше стали похожи друг на друга, чем было прежде. Местами более против прежнего крупная, а местами более против прежнего чистая группировка государственности по племенам и нациям есть поэтому не что иное, как поразительная по силе и ясности своей подготовка к переходу в государство космополитическое, сперва европейское, а потом, быть может, и всемирное![72]
«Наияснейший первообраз новой Европы» К. Н. Леонтьев видит в «эгалитарно-либеральной» Франции[73]. Россия, по Леонтьеву, вступила на путь революционно-эгалитарного национализма с отменой крепостного права: «Политика племенная, обыкновенно называемая национальною, есть ни что иное, как слепое орудие все той же всесветной революции, которой и мы, русские, к несчастью, стали служить с 1861 года»[74].
Особенный интерес представляет заключение этой брошюры, где К. Н. Леонтьев, отвергнув и осудив современный национализм, не желает отказываться от самого понятия и говорит об «истинно-национальном» призвании России, которое должно быть «культурное, а не чисто-политическое»[75]. Иными словами, Леонтьев хочет отделить «истинно-национальное призвание» от тех либерально-демократических принципов, которые так прочно с ним ассоциируются. Именно эта тактика антилиберальных сил вскоре позволит им в значительной мере присвоить понятие нация и изменить его содержание. Сам Леонтьев надежды на осуществление «истинно-национальной миссии» прямо связывал с «современной реакцией» в России[76].
Конечно, аристократическое реакционерство Леонтьева, сожалевшего о том, что рабство, религиозность и утонченный разврат уходят в прошлое, было слишком экзотическим цветком, но в упрощенном (и извращенном) виде его аргумент о необходимости отделить национализм от идей конституционализма, светскости и демократизма был усвоен широко. Так в 1880-е годы традиционная конструкция, в которой нация и национализм являются источником угрозы и, одновременно, необходимым ресурсом, получает новое содержание.
Принципиальная «незападность» русского общественного устройства важна, разумеется, и для таких оппонентов М. Н. Каткова, как славянофилы. Один из аспектов этой темы — взаимоотношения русской нации с империей и династей. Славянофилы считали, что русский народ отказался от политического бремени в пользу самодержавной монархии, демократы и те либералы, которые не были настроены националистически, говорили о свержении самодержавия на пути к общей свободе и гармонизации отношений между различными этническими группами империи. Националисты же, в том числе из среды поздних славянофилов, ставили вопрос о том, что империя должна служить прежде всего интересам русской нации, а не династии[77]. Отчасти реакцией на эту позицию становится постепенная национализация династии Романовых при Александре III и Николае II.
Другой аспект темы — определение тех территорий и групп населения, которые должны были стать частью русской национальной территории и русской нации и, как следствие, тех окраин империи и групп населения, которые не рассматривались как объекты ассимиляции в обозримом будущем[78]. В 1880-е годы киевский противник украинского движения Михаил Владимирович Юзефович сформулировал лозунг «единой и неделимой России», который для него означал не единство империи во всей ее полноте, но именно единство русской нации как объединяющей всех восточных славян[79]. В это же время формула «исконно русские земли» становится неотъемлемой частью официального языка.
В 1880-е годы не только реакционеры и традиционалисты, но и либералы смещают внимание с нации на национализм. Ярче всего это видно в работах В. С. Соловьева, для которого в этот период данная тема была центральной[80]. Нация и народ у Соловьева зачастую выступают как синонимы[81]. Нация порой трактуется как вневременное явление: Соловьев, например, говорит о нациях в древнем мире[82], о «важной культурной нации Финикии»[83]. Народность и национальность понимаются им в надеждинской традиции как набор специфических характеристик[84].
«Мания национализма, — считает Соловьев, — есть господствующее убеждение наших дней»[85]. Понятия народность, национальность и национальная идея Соловьев использует как положительные, обозначающие освободительные устремления, национализму же он придает исключительно отрицательное значение:
Различие между национальностью и национализмом — то же самое, что между личностью и эгоизмом […]
Народность есть положительная сила, и всякий народ имеет право на независимое (свободное от других народов) существование […] Национальная идея, понимаемая в смысле политической справедливости, во имя которой защищаются и освобождаются народности слабые и угнетенные […] заслуживает всякого уважения и симпатии. […] Национализм или национальный эгоизм, то есть стремление отдельного народа к утверждению себя на счет других народностей, к господству над ними, есть полное извращение национальной идеи[86].
Такую трактовку национальной идеи становилось крайне затруднительно совмещать с повесткой дня русского национализма, который выступал за целостность империи. Тема политического представительства не связывается уже у Соловьева с темой нации.
В. С. Соловьев отмечает популярность новой, органицистской трактовки нации, говоря о «зооморфическом идоле, которому служат нынешние националисты»[87]. «Родоначальниками нашего национализма» Соловьев объявляет славянофилов[88], отрицая либеральные корни национализма и превращая таким образом национализм в консервативную идеологию. В отличие от К. Н. Леонтьева, осуждавшего либеральный национализм и предлагавшего собственную версию «правильного» национализма, Соловьев вовсе не пытается предъявить права на национализм, отстоять его либеральную генеалогию, но однозначно его осуждает, отдает на откуп идейным и политическим оппонентам. В статье Национализм для словаря Брокгауза — Ефрона, написанной Соловьевым, национализм характеризуется как «знамя дурных народных страстей», «переразвитие национального чувства», а популярность национализма объясняется «ошибочным его смешением с патриотизмом»[89].
Обозначившаяся уже в 1860-е годы, к 1880-м годам вполне набирает силу тенденция использовать понятие нация прежде всего для обсуждения темы этнической или расовой консолидации, а также темы нации как организма и как мистической духовной связи[90]. Неразрывно связанная с понятием нация в первой половине XIX века, тема политического представительства и конституции теперь чаще всего артикулируется либералами без использования этого понятия. В социалистической части политического спектра нация все чаще подчиняется классу или вытесняется им.
Понятие народность в 1880-е годы почти выходит из употребления. В языке конца XIX — начала ХХ века народность чаще всего обозначает этническую группу, причем издававшаяся тогда Большая Энциклопедия полагала, что человеческие коллективы «постепенно развиваются из народности в национальность и из национальности в нацию»[91]. Ни эта энциклопедия, ни широко распространенные в то время энциклопедические словари Брокгауза — Ефрона и Гранат не содержат отдельных статей о народности. То определение народности, которое дал в 1873 году Александр Дмитриевич Градовский, позднее стало основой для определения нации во многих толковых словарях и энциклопедиях[92].
Начало ХХ века
В 1915 году публицист и библиограф Николай Александрович Рубакин посвятил один из выпусков своего труда Среди книг обзору литературы по национальному вопросу. Приведенный им список, охватывающий почти исключительно публикации предыдущей декады, насчитывает около 700 позиций. Кроме того, в самом обзоре Рубакин неоднократно отсылает читателя к публикациям, включенным в предыдущие разделы его библиографии, так что можно уверенно утверждать, что он оперирует примерно одной тысячью наименований[93]. Далеко не полный обзор Рубакина служит убедительной иллюстрацией тезиса, высказанного в начале статьи, — объем материала для начала ХХ века настолько велик, что требует специального исследования, далеко выходящего своим масштабом за формат статьи. Здесь есть место лишь для самых общих наблюдений о самом исследовании Рубакина, автор которого не скрывает своих либеральных убеждений, что, конечно, делает его обзор довольно тенденциозным.

Вполне в духе времени Рубакин посвящает заметно больше внимания трактовкам национального вопроса и национализма, чем нации, что отражает смещение внимания к понятиям, непосредственно связанным с политической активностью, получившей, наконец, после 1905 года, легальное пространство. Своего отрицательного отношения к национализму автор вовсе не скрывает:
Литература по национальному вопросу подавляет теми человеконенавистническими тенденциями, которыми в большей или меньшей степени проникнуто огромное большинство произведений, разработке национального вопроса посвященных […] Национальный вопрос это вопрос о борьбе, о грызне национальностей между собой, потому что не о единении человечества обыкновенно говорят люди, выдвигая на первый план национальные различия и так называемые «национальные идеи», а о разъединении его, о поддержании, хотя бы даже искусственном и насильственном, тех различий, какие в разных племенах и расах наблюдаются[94].
Рассуждая о том, что такое нация и национальность, Рубакин сразу отмечает многообразие мнений по этому вопросу. Он выделяет четыре основных подхода: «метафизическую точку зрения», понимающую нацию как мистический организм, рационально неопределимый[95]; «психологическое (волюнтаристское) направление»[96]; «эмпирическое направление, ограничивающееся перечислением элементов, присущих нации»[97]; наконец, «экономический материализм»[98]. У Рубакина нация практически исчезает как «сущность» и со всей очевидностью приобретает черты ключевого понятия, оспариваемого различными идеологами и политическими силами[99]. Он также пытается выстроить классификацию и, одновременно, генеалогию типов русского национализма:
- народность официальная;
- славянофильство раннее;
- славянофильство позднейшее;
- славянофильство современное;
- реакционный национализм Каткова и наших дней, представителями которого являются крайне правые;
- национализм октябристского оттенка;
- национализм либеральный, представителями которого могут считаться писатели, группирующиеся около «Русской Мысли» и сборника «Вехи»[100].
Себя Рубакин позиционирует вне этого поля, вероятно, близко к Павлу Николаевичу Милюкову и основной группе кадетов, которые видели себя в оппозиции к национализму.
В качестве типичного примера взгляда на эти темы из правой части спектра, где-то на границе тех групп, которые Н. А. Рубакин описывает под пунктами 5 и 6, можно привести выдержавшую как минимум три издания книгу члена Киевского клуба русских националистов Павла Ивановича Ковалевского Национализм и национальное воспитание в России[101]. Это сочинение, представляющее собой набор весьма противоречивых, нередко интегрально-националистических, расистских и даже протофашистских тезисов, представляет интерес в контексте нашего исследования, поскольку значительная его часть посвящена определению ключевых, с точки зрения Ковалевского, понятий националистической мысли. Определяет и развивает эти понятия Ковалевский с помощью многочисленных отсылок к тем авторам, из трудов которых он извлекает близкие его взглядам цитаты[102].
Нация, по Ковалевскому, это:
…группа людей, занимающая определенную территорию на Земном шаре, объединенная одним разговорным языком, исповедующая одну и ту же веру, пережившая одни и те же исторические судьбы, отличающаяся одними и теми же физическими и душевными качествами и создавшая известную культуру. Национальный — свойственный, присущий данной нации. Национальность — собрание свойств и качеств, присущих той или иной другой нации[103].
Ковалевский проводит различие между нацией и народом:
В русском языке есть слова «народ», «народность», «народный». Но это не то же, что нация, национальность, национализм. Это или больше, или меньше. Словом «русский народ» обозначают или состав жителей всего Российского государства, и тогда в это государственное понятие входит 150 наций, составляющих Российскую империю, или словами «русский народ» обозначают сословие, класс людей, простой класс народонаселения[104].
Это рассуждение замечательно по двум причинам. Во-первых, нация у Ковалевского выступает как этническая группа, отсюда 150 наций в Российской империи, что парадоксальным образом близко позднейшему советскому дискурсу. Во-вторых, для общности, охватывающей всех подданных/граждан империи, Ковалевский предпочитает понятие народ.
Целый набор понятий, производных от нации, становится предметом его обсуждения и наукообразного толкования — национальное чувство, национальное сознание и так далее[105]. Среди ключевых для Ковалевского — понятия национализация, национализировать. «Национализировать значит внедрять в ту или другую группу людей свойства, присущие той или другой нации». Ковалевский утверждает, что «в настоящее время русская нация очень слабо национализирована»[106]. Хотя Ковалевский говорит о становлении сознательного русского национализма после того, как «Верховная власть 17 октября 1905 г. признала самосознание русского народа настолько установившимся, что призвала граждан к принятию участия в устройстве и управлении государством»[107], он связывает недостаточную национализацию не столько с недостаточной включенностью людей в политическую и гражданскую активность, сколько с недостатком национального сознания, то есть этнической мобилизации и индоктринации[108].
П. И. Ковалевский использует понятие нация в типичном для ХХ века ключе — как инструмент исключения из национальной общности своих политических противников: «В настоящее время большинство русской интеллигенции не только анационально, но прямо антинационально»[109]. В связи с этим у Ковалевского возникает и расовый мотив, когда он доказывает, что интеллигенция должна быть проникнута «живым чувством кровной своей связи с данной национальной группой»[110].
Другой способ национализации — это «внедрение национальных свойств одной нации другой нации»[111], «сознательное и умышленное насаждение национальных свойств и качеств державной нации в нациях культурно слабых и соподчиненных»[112].
Даже поверхностный взгляд на цитированные сочинения Н. А. Рубакина и П. И. Ковалевского, каждый из которых был далеко не ведущей фигурой в своем лагере, показывает новое качество периода. В условиях, когда манифест 17 октября 1905 года принципиально изменил содержание и границы общественной и политической сферы, понятие нация становится частью консолидированных, развитых и взаимоисключающих идейных систем, используется для планирования пропагандистских стратегий, тактических шагов и формулирования публичных политических программ.
Заключение
Понятие нация появилось в русском языке в петровский период, но сохраняло статус нового и заимствованного вплоть до последних десятилетий XIX века. С самого начала понятие было многозначным, обозначая государство, совокупность его подданных, дворянскую корпорацию. Также с самого начала в его понимании присутствовал и этнический мотив. Поэтому один из ключевых вопросов — пропорциональное соотношение всех этих мотивов в тот или иной период.
Понятие народность вошло в оборот в 1820-е годы, будучи изначально, наряду с народом, одним из вариантов перевода понятия нация на русский язык из франкоязычного дискурса образованных элит. Народность имела широкое хождение в период 1830–1860-х годов, во многом благодаря включению этого понятия в уваровскую триаду, где народность служила уже инструментом редактирования, а не перевода понятия нация.
В николаевской России использование и обсуждение понятия нация, особенно в политическом контексте, часто блокировалось, в том числе цензурными средствами, главным образом из-за связи нации с темами конституции, политического представительства и надсословности[113]. Понятия народность и (реже) национальность использовались в 1820–1880-е годы и для обозначения совокупности индивидов, и для обозначения набора специфических черт, отличающих одну группу от другой. К концу XIX века сложилась иерархия, согласно которой народность развивается в национальность и затем — в нацию. В других интерпретациях та же иерархия отражала размеры групп — от малых народностей и более многочисленных национальностей к нации. Впрочем, оба варианта этих иерархий не были вполне общепринятыми[114].
В первую декаду царствования Александра II понятие нация постепенно сместилось в центр публичного дискурса. Начиная с 1870-х годов все чаще использовалось понятие национализм, которое стало центральным понятием дискурса в 1880-е годы. К 1880-м годам народность была окончательно вытеснена понятиями нация, национальность и национализм, которые, как прежде народность, стали предметом оживленных, даже ожесточенных полемик. Если в период 1840–1870-х годов понятие нация использовалось в основном авторами западнической, либеральной ориентации (В. Г. Белинский, М. Н. Катков в его либеральный период), то с утверждением этого понятия как общепринятого в 1880-е годы оно вошло и в арсенал правых, которые боролись с либералами за утверждение собственной, часто авторитарной и расовой, трактовки нации. В либеральной прессе это вскоре привело к появлению сентенций с осуждением национализма как гипертрофированного и искаженного патриотизма, как формы ксенофобии. Уже в 1880-е годы либералы во многом отдали понятие нация на откуп своим противникам справа, часть которых вскоре стала определять себя как националистов.
Понятия народность и нация использовались для обсуждения и концептуализации как минимум четырех ключевых общественно-политических тем. Во-первых, для обсуждения политической системы, в том числе темы конституционного устройства и политического представительства. В этом контексте народность выполняла скорее блокирующую функцию в отношении понятия нация, которое в первой и второй трети XIX века неразрывно ассоциировалось с западноевропейским опытом политического представительства вообще и с Французской революцией в частности. В этот период понятие нация имеет далекий горизонт политического ожидания.
Во-вторых, понятия народ (как эквивалент нации у М. М. Сперанского) и собственно нация (у В. Г. Белинского и позднее) использовались для артикуляции темы преодоления (или изменения смысла) сословных и других социальных барьеров. В 1860-е годы возник ряд идейных течений, которые стали рассматривать отношения в треугольнике власть — интеллигенция — народ (в смысле простой народ) как структуру с одним лишним элементом. Для левых этим лишним, антинародным элементом были правящие элиты, для правых — антинациональная интеллигенция.
В-третьих, понятие нация использовалось для описания и структурирования империи, для выделения в ней консолидированного (или подлежащего консолидации) ядра, которое иногда описывалось как «русская нация внутри империи». Здесь можно говорить скорее о преемственности понятий народность и нация. Устряловская схема русской истории, которая заложила основы русского национального исторического нарратива, оставшегося в этой части непререкаемым даже для таких разных историков рубежа веков, как Василий Осипович Ключевский и Дмитрий Иванович Иловайский, была сформулирована в рамках дискурса народности. В имперском контексте понятия народ и нация использовались и для обсуждения темы ассимиляции. В конце XIX и начале ХХ века термин народность, изменив свое содержание, употреблялся для обозначения этнических групп, эволюция которых в политически самостоятельные единицы (нации) с точки зрения русского национализма считалась нежелательной. В этот период тема «русские в империи» постепенно приобрела типичный для модерного национализма имперских наций мотив требования привилегированного положения «государствообразующей нации» в империи.
Наконец, понятие нация (а позднее — народность, национальность) использовалось для описания отношений России с окружающим миром. В XVIII и первой половине XIX века нация помогала артикулировать тему России как державы, равной своим европейским партнерам, а также тему отставания в развитии и необходимости реформ. Для артикуляции проблемы эмансипации России от доминирующего западного влияния в первой половине XIX века использовалось понятие народность. Эта эмансипация могла мыслиться и как «про-европейская», и как «анти-европейская». Уваров, запустивший народность в политический обиход, тесно связывал с этим понятием темы «взрослости России», утверждения престижа русской культуры и права быть избирательным в заимствованиях с Запада. Но с самого начала он считал необходимым настойчиво подчеркивать европейскую ориентацию и формулу «эмансипации в Европе», опасаясь интерпретации этих тем в воинственном антиевропейском духе. Так проявилась в 1830-е годы одна из ключевых тем русской политической жизни, не раз возвращавшаяся впоследствии: стремление власти жестко определять меру европейских заимствований. В этом стремлении власть часто смешивала мотивы расчета и осторожности с эгоистическим авторитаризмом и оказывалась, в той или иной степени, в конфронтации как с западнической, так и с изоляционистской частью политического спектра. Предпочтение, вплоть до 1870-х годов отдававшееся властями понятию народность перед понятием нация, стояло на перекрестье взаимосвязанных тем определения отношений России с Европой и определения предпочтительной модели политического устройства. Но уже с конца 1860-х годов понятия нация, национальность успешно служили для выражения как западнической, так и последовательно анти-западной позиции, причем в цивилизационном (Николай Яковлевич Данилевский), а не ситуационно-политическом смысле.
В XIX веке, при первых двух Александрах, нация использовалась для артикуляции реформаторских планов, которые были призваны сблизить Россию с (воображаемой) Европой и с точки зрения политического устройства, и с точки зрения степени национальной консолидации. При Николае I нация была вытеснена на периферию дискурса, поскольку ее политическое содержание признали вредным и неуместным для России. Начиная с Александра III нация активно использовалась сторонниками «особого пути» для артикуляции их идей.
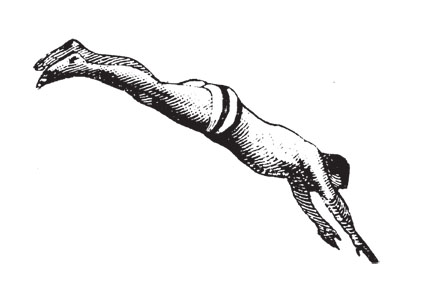
Приключения понятия нация в России продолжились в ХХ и продолжаются в XXI веке. Нация становилась объектом жесткой цензуры в советское время, неуверенного и, порой, наивного освоения на рубеже советского и постсоветского периодов, ожесточенной борьбы в постсоветский период[115], развитие которой во многом повторяет сценарии и интеллектуальные ходы, рассмотренные в этой статье.
[1] Полный вариант статьи будет опубликован в книге «Понятие о России: к исторической семантике имперского периода». Под. ред. А. Миллера, Д. Сдвижкова и И. Ширле. М., НЛО, 2012.
[2] См.: Миллер А. И. Приобретение необходимое, но не вполне удобное: трансфер понятия нация в Россию (начало XVIII — середина XIX в.) // Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917). М., 2010. С. 42–66. Мои другие недавние публикации на тему истории понятий нация, народ и народность: Miller A. I. Natsiia, Narod, Narodnost’ in Russia in the 19th Century: Some Introductory Remarks to the History of Concepts // Jahrbücher für Geschischte Ost-Europas. Vol. 56. 2008. № 3. P. 379–390; Миллер А. И. Народность и нация в русском языке ХIХ века: подготовительные наброски к истории понятий // Российская история. 2009. № 1; Он же. Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010. Гл. 3, 6. Некоторые фрагменты этих статей включены в настоящий текст, который я рассматриваю как суммирующий и обобщающий для этого этапа моих занятий историей понятия нация в России.
[3] См.: Бадалян Д. А. Понятие «народность» в русской культуре XIX века // Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XIX века: Сб. науч. работ. СПб., 2006. С. 108–122. См. также весьма краткий и, рискну сказать, во многом поверхностный текст о народности как политической концепции: Perrie M. Narodnost’: Notions of National Identity // Kelly C., Shepherd D. (ed.) Constructing Russian Culture in the Age of Revolution: 1881–1940. Oxford, 1998. P. 28–37. Понятие народность рассматривается также в: Knight N. Ethnicity, Nationality and the Masses: Narodnost’ and Modernity in Imperial Russia // Hoffman D. L., Kotsonis Y. (ed.) Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practicies. New York, 2000. P. 41–65. Наиболее подробный обзор использования понятия народность для обозначения набора качеств, свойств в научном дискурсе 1830–1880?х годов дан в монографии: Лескинен М. В. Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности. М., 2010. С. 52–97.
[4] Plokhy S. The Origins of the Slavic Nations // Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus. Cambridge, 2006. P. 250–299; См. также: Kohut Z. E. A Dynastic or Ethno-Dynastic Tsardom? Two Early Modern Concepts of Russia // Siefert M. (ed.) Extending the Borders of Russian History: Essays in Honor of Alfred J. Rieber. Budapest; New York, 2003. P. 17–30.
[5] См.: Самарин А. Ю. Распространение и читатель первых печатных книг по истории России (конец XVII — XVIII в.). М., 1998.
[6] Смирнов Н. А. Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху. СПб., 1910. (Отд. оттиск из: СОРЯС. Т. 88. № 2). С. 5. См. также: СлРЯ XVIII. Вып. 14. СПб., 2004. С. 97.
[7] Первое издание см. в приложениях к: Смирнов Н. А. Западное влияние. С. 362–382.
[8] Цит. по: Там же. С. 203.
[9] Под названием Сборник этот документ опубликован: Там же. С. 383–384.
[10] См.: Plokhy S. The Two Russias of Teofan Prokopovyc // Sedina G. (ed.) Mazepa and His Time. History, Culture, Society. Alessandria, 2004. P. 361; Феофан Прокопович. Соч. М., 1961. С. 133. С. Плохий считает, что Прокопович в то время был сторонником «национализации» Московского государства и «неустанным строителем национального образа России», беря пример с протестантских проповедников, делавших то же самое в стане противника России по Северной войне — Швеции (Plokhy S. The Two Russias. P. 363–364).
[11] Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. СПб., 1881. С. 461.
[12] Ср.: naród szlacheсki (польск.), natio hungarica (лат.).
[13] Шафиров П. П. Разсуждение, какие законные причины его царское Величество Петр Первый Царь и повелитель всероссийский, к начатию войны против Карла XII, короля шведского, в 1700 году имел. СПб., 1717; Shafirov P. P. A Discourse Concerning the Just Causes of the War between Sweden and Russia: 1700–1721 (Translation from 1722) / Ed. by W.E. Butler. Dobbs Ferry; New York, 1973.
[14] Костяков Ю. В. Сербы в Австрийской монархии в XVIII в. Калининград, 1997.
[15] Внешняя политика России XIX и начала ХХ века. Т. 5. М., 1967. С. 294.
[16] Там же. Т. 6. М., 1962. С. 267.
[17] Фонвизин Д. И. Собр. соч. В 2 т. Т. 2. М.; Л., 1959. С. 254–266.
[18] Письмо Павлу Петровичу с приложением проекта было подготовлено осенью 1784 года, вскоре после смерти воспитателя наследника Никиты Панина, но было доставлено адресату лишь после его восшествия на престол, когда никого из авторов уже не было в живых.
[19] Там же. С. 259.
[20] Записки о нынешнем возмущении Польши / Перевел с французского языка капитан Н… Я… [Булгаков Яков Иванович]. СПб., 1792. Вот несколько цитат: «Мятежники нарушили тем самым святейшие условия первейшего Пакта, составляющего Польскую Нацию […] то есть Пакта о равенстве прав всех членов военного Польского дворянства» (Там же. С. 45); «Если бы можно было позволить каждому законодательному собранию, под видом тем, будто оно уполномочено во всем от Нации, лишать все Магистраты вверенной им власти, тогда б Нация беспрерывно была подвержена ужаснейшему и пагубнейшему всех деспотизмов игу большинства собраний; коих возмущение Франции и Польши представляют нам теперь яснейший пример» (Там же. С. 22); «Знаменитое преимущество свободного избирания Польских Королей, принадлежащее Нации» (Там же. С. 37); «Нельзя тому противоречить, что Нация, установляя себе Конституцию, не лишается права оную усовершенствовать и делать в ней разные перемены, какие только вящая ее польза потребует, но сие право ни мало не может принадлежать законодательным собраниям, если оно не вверено им единодушно от всей Нации» (Там же. С. 41).
В этом же духе, и тоже с использованием понятия нация для обозначения польского дворянства, говорила о делах в Польше Екатерина II в инструкции своему представителю при Тарговицкой конфедерации: «Главный интерес России — восстановление в Польше прежнего свободного правления — счастливо сходится с желанием, по крайней мере, трех четвертей населения самой этой нации» (см.: Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772. 1793. 1795. М., 2002. С. 588).
[21] Туманов В. А. (ред.) Французская республика. Конституция и законодательные акты. М., 1989. С. 26–27.
[22] Цитируется по: Шильдер Н. Александр I // Русский биографический словарь. Т. 1. СПб., 1896. С. 141–384 (цит. с. 159–160).
[23] См. подробнее: Миллер А. Приобретение необходимое, но не вполне удобное.
[24] Сперанский М. М. Проекты и записки. М.; Л., 1961. С. 43.
[25] Там же. С. 44.
[26] Сперанский М. М. План государственного преобразования графа М. М. Сперанского. М., 2004. С. 36.
[27] Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемый Н. Кириловым. Вып. 1. СПб., 1845. С. 220, 223.
[28] Ближайшим сотрудником Новосильцева в этом деле был П. И. Пешар-Дешан (Deschamps), который, как отмечал близко его знавший П. А. Вяземский, «набил себе руку во Франции на приготовлении и редакции» таких проектов (см.: Мироненко С. В. Самодержавие и реформы: Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. С. 149, 171–172, 181).
[29] Ст. 12: «Государь есть единственный источник всех в империи властей гражданских, политических, законодательных и военных». Ст. 31: «Общие законы постановляются государем при содействии общего государственного сейма».
[30] Цит. по: Schiemann Th. Kaiser Alexander I und die Ergebnisse seiner Lebensarbeit. Berlin, 1904. S. 365. (Полный французский текст см: La charte constitutionelle de l’Empire de Russie / Préface de M. Th. Schiemann. Berlin, 1903.) Интересна также ст. 94, которая говорит о национализированных иностранцах (étrangers nationalisés), которые могут занимать должности в России после пятилетнего беспорочного пребывания и при условии овладения русским языком. Иными словами, критерием допуска является принятие подданства (гражданское понимание нации) и успешная аккультурация.
[31] Остафьевский архив князей Вяземских. Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым, 1812–1819. СПб., 1899. С. 357–358. Сам Тургенев в своем письме Вяземскому еще в 1812 году писал о национальной войне (Там же. С. 5). Вообще изучение эпистолярного наследия той эпохи может дать представление о распространенности понятия нация в образованной среде. Так, В. А. Жуковский уже в 1810 году демонстрирует вполне зрелое понимание нации в письме к А. И. Тургеневу: «В истории особенно буду следовать за образованием русского характера, буду искать в ней объяснения настоящего морального образования русских. Это мне кажется прекрасною точкою зрения, а со временем может выйти из моих замечаний что-нибудь весьма полезное (пишу это про тебя). Политические происшествия можно назвать воспитанием того отвлеченного существа, которое называют нациею» — см.: В. А. Жуковский — А. И. Тургеневу, 12 сентября 1810 г., [Муратово] (Жуковский В. А. Собр. соч. В 4-х т. Т. 4. М.; Л., 1960. С. 468–469).
[32] Подробнее см.: Миллер А. И. Империя Романовых и национализм. С. 81–112; Он же. Народность и нация.
[33] Вяземский П. А. Разбор второго разговора // Дамский журнал. 1824. № 8. С. 76–77 (цит. по: Бадалян Д. А. Понятие «народность». C. 113). В немецком языке этот вариант двойственности тоже присутствует. Слово narodowosc, использованное Вяземским как образец, современный польско-немецкий словарь переводит как Nationalität или как Volkszugehörigkeit (Polnisch-Deutch Vörterbuch. Langenscheidts. Berlin, 1980. S. A290).
[34] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. М., 1949. С. 40 (О народности в литературе).
[35] Подробнее см.: Миллер А. И. Приобретение необходимое, но не вполне удобное. С. 51.
[36] Подробнее о редакционной работе над Русской Правдой см.: Нечкина М. В. «Русская Правда» и движение декабристов // Восстание декабристов. Документы. Т. 7. М., 1958. С. 9–75.
[37] Восстание декабристов. Документы. Т. 7. С. 121–122.
[38] Гл. 2, ст. 8: «Через 20 лет по приведении в исполнение сего устава Российской империи никто не обучившийся русской грамоте не может быть признан гражданином» (текст Конституции см.: Дружинин Н. М. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933. С. 321–326, 328–336).
[39] Русская Правда делает исключение для Польши, которая трактуется как «историческая» нация, способная к самостоятельному существованию. При этом перспектива предоставления Польше независимости оговаривается целым рядом условий, среди которых — право России определить будущую линию границы и обязанность Польши эту границу признать, а также обязанность Польши предоставлять всю свою армию, в случае необходимости, в состав русской армии.
[40] См. статью М. Б. Велижева в настоящем сборнике.
[41] Подробнее см.: Миллер А. И. Империя Романовых и национализм. С. 193–216.
[42] Цит. по: Зорин А. Кормя двуглавого орла: Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2001. С. 361.
[43] См.: Зорин А. Идеология «православия–самодержавия–народности»: опыт реконструкции. (Неизвестный автограф меморандума С. С. Уварова Николаю I) // НЛО. 1997. № 24. С. 71–104.
[44] В своей записке царю в 1843 году С. С. Уваров говорит о необходимости подавить в среде польской молодежи мечтания о «частной народности и пустое стремление к восстановлению утраченной самобытности», понимая под народностью и самобытностью государственный суверенитет и ностальгию по Речи Посполитой. Говоря в этой же записке о немецком дворянстве прибалтийских губерний, он употребляет слово национальность: «мысль, что их мнимая национальность есть национальность Германская, сильно укоренилась между ними». См.: Десятилетие Министерства народного просвещения, 1833–1843. (Записка, представленная Государю Императору Николаю Павловичу Министром народного просвещения графом Уваровым в 1843 году и возвращенная с собственноручною надписью Его Величества: «Читал с удовольствием»). СПб., 1864. С. 124, 50–51.
[45] Белинский В. Г. Общий взгляд на народную поэзию и ее значение. Русская народная поэзия (1841 г.) // Белинский В. Г. Полн. собр. соч. В 10 т. Т. 5. М., 1954. С. 654.
[46] Там же. С. 681; Белинский В. Г. Статьи о народной поэзии // В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 122. Подробнее см.: Миллер А. И. Империя Романовых и национализм. С. 99–101.
[47] Белинский В. Г. Общий взгляд. С. 654.
[48] Молодой П. А. Валуев, член «кружка шестнадцати», в который входили Гагарин, Лермонтов и другие яркие молодые аристократы, 6 декабря 1839 года в своей записной книжке оставил на французском запись, адресованную Гагарину, с которым, по всей видимости, он обсуждал эти темы: «Мысли о национальности (nationalité). Гагарин друг, но бо?льший друг истина […] Я не могу точно установить, к какому времени относится изобретение этого слова. Как бы то ни было, изобретение неплохое. В наше время газетчики подразумевают под этим словом почти исключительно бо?льшую или ме?ньшую независимость нации (nation), образующую среди других наций обособленное политическое целое. В этом смысле вызывают постоянно призрак польской национальности. — Но мы в нашем споре совсем не так поняли слово национальность. Применяя это слово к внешним политическим формам, ограничивая национальность рубежами, установленными правительствами, сводя ее, так сказать, только к костюму, маске, под которой народ появляется в политическом мире, забывают, мне кажется, основные элементы национальности, занимаются тем, что восстанавливают на зыбучем песке дипломатические переговоры, т. е. здание, фундамент которого должен покоиться на внутренней жизни, нравах и истории нации. Я думаю, что мы употребляли слово национальность в том смысле, которым обозначают национальный дух, национальные обычаи, национальные песни. Чтобы быть возможно более сжатым, спешу представить вашему одобрению предварительное определение слова национальность. Национальность есть целое, состоящее из языка, нравов, верований и характера нации, она является комплексом всего того, что ее существенно отделяет от других — комплексом связывающим» (см.: Герштейн Э. Г. Лермонтов и «кружок шестнадцати» // Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова: Исслед. и мат-лы: Сб. 1. М., 1941. С. 77–124, цит. с. 100). Тогда же регулярно собираются кружки у И. В. Киреевского, П. Я. Чаадаева; эти кружки тоже заведомо не были чужды этой проблематики.
[49] Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1846 г. // В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 21.
[50] Там же. С. 29.
[51] ГАРФ. Ф. 728, д. 1817, ч. xi, л. 144об.–145. Цит. по: Шевченко М. М. Конец одного Величия. Власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ. М., 2003. С. 123.
[52] Подробнее см.: Миллер А. И. Империя Романовых и национализм. Гл. 6.
[53] Впервые опубликован: Зап. Русского географического общества. Кн. 2. 1847. Современная публикация: Этнографическое обозрение. 1994. № 1–2. С надеждинской интерпретацией народности сходна трактовка понятия национальность как «одинаковости обычаев и нравов» среди «лиц, принадлежащих к какому-либо одному народу», которую дает в 1845 году словарь Н. Кирилова (Карманный словарь иностранных слов. Вып. 1. С. 221).
[54] Лескинен М. В. Поляки и финны в российской науке. С. 64–91 (цит. с. 67).
[55] Этнографическое обозрение. 1994. № 1. С. 110.
[56] Соловьев В. С. Национальный вопрос в России // В. С. Соловьев. Соч. В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 266.
[57] Там же. С. 449.
[58] Полярная Звезда. Кн. 3. Лондон, 1857. С. III (репринтное переизд.: М., 1966).
[59] РГИА. Ф. 772, оп. 1, ч. 2., ед. хр. 4503.
[60] Там же. Ф. 908, оп. 1., ед. хр. 231, л. 4об.
[61] Н. И. Костомаров, например, в известной статье «Две русские народности» дважды говорит о том, что «в Великороссии великий князь заменил общественную волю всей нации» (Основа. СПб., 1861. № 3. С. 74–75. Подробнее анализ публицистики журнала «Основа» см.: Миллер А. И. Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении. СПб, 2000).
[62] Катков М. Н. 1863 год. Собрание статей по польскому вопросу, помещавшихся в «Московских Ведомостях», «Русском Вестнике» и «Современной Летописи». Вып. 1. М., 1887. С. 276.
[63] Параллельное использование понятий народность, нация, национальность как сходных по смыслу было типично для 1860-х годов. Н. Я. Данилевский в России и Европе (1869) использует народность и национальность как синонимы, причем национальность чаще и более охотно.
[64] Подробно см.: Миллер А. И. Империя Романовых и национализм. Гл. 7.
[65] Московские ведомости. 21 мая 1865. № 110. См. также: Там же. 11 февр. № 34.
[66] Катков М. Н. Наш язык и что такое свистуны // Русский вестник. Т. 32. М., 1861. С. 13. Мотив недостаточной национальной сплоченности, недостаточной национальной энергичности почти неизменно возникает в русских рассуждениях о нации и народности, когда речь заходит о сравнении с образцами — Британией, Францией, Германией.
[67] См.: Леонтьев К. Н. Панславизм и греки // К. Н. Леонтьев. Собр. соч. Т. 5: Восток, Россия и славянство. М., 1912. С. 12 (первая публикация в Русском вестнике в 1873 г.).
[68] См.: Леонтьев К. Н. Византизм и славянство // К. Н. Леонтьев. Собр. соч. Т. 5. С. 110–261.
[69] Леонтьев К. Н. Национальная политика как орудие всемирной революции. М., 1889.
[70] Там же. С. 6.
[71] Там же. С. 10.
[72] Там же. С. 13.
[73] Там же. С. 19.
[74] Там же. С. 44.
[75] Там же.
[76] Там же. С. 48.
[77] См., например, относящиеся к 1864 году рассуждения М. П. Погодина: «Русский государь родился, вырос из Русской земли, он приобрел все области с русскими людьми, русским трудом и русской кровью! Курляндия, Имеретия, Алеутия и Курилия суть воскрылия его ризы, полы его одежды, а его душегрейка есть Святая Русь […] видеть в государе не Русского, а сборного человека из всех живущих в России национальностей, это есть такая нелепость, которой ни один настоящий русский человек слышать не может без всякого негодования» (Погодин М. П. Польский вопрос. Собрание рассуждений, записок и замечаний, 1831–1867. М., 1867. С. 189). В начале ХХ века эти идеи выражались уже более лапидарно: «Русский национализм, как я его понимаю, есть признание права русского народа получить возмещение расходов, понесенных им в постройке империи» (Сигма [Сыромятников С. Н.] Дома. XLII // Новое время, 9 (22) февр. 1903. № 9675).
[78] В связи с этим начинает расширяться понятие инородец. См. статью В. О. Бобровникова в настоящем сборнике.
[79] Именно от «единой и неделимой России» был поставлен в Киеве в 1888 году памятник Богдану Хмельницкому.
[80] Его сборник «Национальный вопрос в России» выдержал 3 издания (1884, 1888, 1891). Последнее издание, состоящее уже из двух выпусков, включает статьи за 1883–1891 годы. Цит. по изданию 1989 г.: Соловьев В. С. Национальный вопрос. С. 257–637.
[81] Там же. С. 261.
[82] Там же. С. 355.
[83] Там же. С. 365.
[84] См. уже цитированное: «Англичане грабят народы, немцы уничтожают в них саму народность» (Там же. С. 266, 269).
[85] Там же. С. 516.
[86] Там же. С. 518.
[87] Там же. С. 631. Среди тех, кто активно использовал понятие национальный организм, был, например, Ф. М. Достоевский. См.: Достоевский Ф. М. Собр. соч. В 15 т. Т. 14. СПб., 1995. С. 117, 291.
[88] Соловьев В. С. Национальный вопрос. С. 501.
[89] Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. (изд.) Энциклопедический словарь. Т. 20а. СПб., 1897. С. 710, 713.
[90] В 1886 году вышел русский перевод эссе Эрнеста Ренана «Что такое нация?», где расовая трактовка нации и тема духовной связи занимают центральное место. Впрочем, расовые мотивы связываются с нацией уже в 1870-е годы. Так, А. Н. Пыпин уже в 1875 году писал: «…‘национальность’, ‘раса’ имеют важное значение в истории развития народа» (Пыпин А. Н. Древний период русской литературы и образованности. Сравнительно-исторические очерки // Вестник Европы. 1875. № 11. С. 104). В начале ХХ века связь нации и расы была настолько прочной, что словарь Гранат вместо статьи о нации помещал отсылку к статьям Раса и Ассимиляция, давая обширную статью Национальный вопрос (Энциклопедический словарь Гранат. 7-е изд. Т. 30. Пг., 1916. С. 69). О расовом мышлении, в том числе о связи расы и нации, см. статьи К. Холла и В. Тольц в настоящей книге.
[91] Южаков С. Н. (ред.) Большая Энциклопедия: Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. Т. 13. СПб., [1903]. С. 715. Примеры такой иерархии понятий можно встретить и в конце XIX века. Так, известный миссионер Н. И. Ильминский 21 апреля 1891 года писал К. П. Победоносцеву о народах Поволжья: «Я полагаю, что такие мелкие разрозненные народности не могут прочно существовать и, в конце концов, они сольются с русским народом самим историческим ходом жизни» (Письма Н. И. Ильминского к обер-прокурору Святейшего Синода К. П. Победоносцеву. Казань, 1895. С. 399).
[92] А. Д. Градовский писал о народности как о «совокупности лиц, связанных единством происхождения, языка, цивилизации и исторического прошлого», которая «имеет право образовать особую политическую единицу» (Градовский А. Д. Национальный вопрос в истории и литературе. М., 1873. С. 10). Ср.: «Нация — совокупность лиц, связанная сознанием своего единства, главными факторами которого являются: общность происхождения, общность языка, религии, быта, нрава, обычаев и исторического прошлого» [Сеславин Д. Н. (сост.) Карманная энциклопедия и словотолкователь по новейшим источникам. СПб.; Киев; Харьков, 1902. С. 246]. Ср. также: «…совокупность индивидов, связанная сознанием своего единства, общности происхождения, языка, верований, быта, нравов, обычаев, исторического прошлого и солидарностью социальных и политических интересов настоящего» (Нация // Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон (изд.) Малый энциклопедический словарь. 2?е изд. В 2 т., 4 вып. Т. 2, вып. 3. СПб., 1909. Стб. 693–694).
[93] См.: Рубакин Н. А. Национальный вопрос // Н. А. Рубакин. Среди книг. Т. 3, полутом 1. Пг., 1915. С. 100–198.
[94] Там же. С. 105. Итак, для Рубакина нация связана с племенными и расовыми различиями. В очерке также очевидно противопоставление больших наций малым народностям и национальностям.
[95] Примером такого подхода Рубакин, вслед за Н. А. Бердяевым, считает славянофильство (Там же. С. 103).
[96] Здесь в качестве образца приведен Э. Ренан (Там же).
[97] В качестве представителя этого направления упомянут П. Л. Лавров (Там же. С. 104).
[98] Здесь упоминаются К. Каутский, О. Бауер, из российских авторов — Х. Житловский.
[99] См., например: «‘Нет человечества, существуют лишь нации’, говорит националист. ‘Нет наций: существуют лишь народности’, — говорит сепаратист. ‘Народности, это — осужденные на исчезновение, случайные, несущественные видоизменения нации’, — возражает ‘сепаратисту’ паннационалист. ‘Нации и народности — это не больше, как осужденные на исчезновение, случайные, неестественные модификации человечества’, покрывает эти голоса своим голосом космополит» (Там же. С. 112). Подробнее о нации как ключевом символе, оспариваемом разными политическими силами, см.: Verdery K. Whither “Nation” and “Nationalism”? // Daedalus. 1993. Summer. P. 37.
[100] Рубакин Н. А. Национальный вопрос. С. 116.
[101] Ковалевский П. И. Национализм и национальное воспитание в России. СПб., 1912.
[102] Круг цитируемых Ковалевским современников достаточно широк — от М. О. Меньшикова до П. Б. Струве, а из текстов прошлого ему особенно нравится цитировать «Русскую Правду» П. И. Пестеля (Там же. С. 68–69, 253, 359).
[103] Ковалевский П. И. Национализм. С. 65–66.
[104] Там же. С. 68.
[105] Там же. С. 83–84.
[106] Там же. С. 66.
[107] Там же. С. 55.
[108] Формулируя свой политический идеал, Ковалевский переписывает триаду Уварова, в которой считает нужным заменить лишь народность: «В основе исповедания русской национальной партии лежат следующие три положения: самодержавие, православие и русское единодержавие» (Там же. С. 209).
[109] Там же. С. 58.
[110] Там же. С. 59.
[111] Там же. С. 67.
[112] Там же. С. 68.
[113] Роль цензуры в регулировании использования понятия нация нуждается в специальном исследовании. Помимо уже приведенных примеров вмешательства цензуры в творчество В. Г. Белинского можно упомянуть негласный запрет, наложенный властями на М. Н. Каткова, в результате которого ведущий националистический журналист того времени не мог публиковать статей по национальной проблематике с 1871 по 1882 год (см.: Чернуха В. Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. ХIХ в. Л., 1978. С. 181). Возможно, что это стало результатом специального заседания совета министров 20 ноября 1871 года, на котором по инициативе министра внутренних дел А.Е. Тимашева обсуждалась слишком независимая позиция «Московских ведомостей» (см.: Валуев П. А. Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. Т. 2. М., 1961. С. 275, 503; Никитенко А. В. Дневник. Т. 3. Л., 1955. С. 161).
[114] Некоторые авторы, как И. С. Аксаков, «переворачивали» иерархию, некоторые использовали понятие нация для обозначения всех без исключения этнических групп (П. И. Ковалевский).
[115] См. Миллер А. Дебаты о нации в современной России // Политическая наука, 2008, № 1, С. 7–30.