Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 1, 2012
…Я себе ото всех особняком, помаленьку живу, втихомолочку живу.
Ф. М. Достоевский. «Бедные люди»
В 1880 году Пермский окружной суд рассматривал дело отставного коллежского асессора И. С. Жидовцева, дело нешуточное — «Об оскорблении словами Сената». Скромный пермский чиновник оскорбил высшее учреждение империи, можно сказать, случайно. В ответ на очередной отказ в назначении пенсии он позволил себе не просто, как требовалось, расписаться в доставленной почтальоном бумаге, а в раздражении черкнул от себя еще пару слов о том, что господа сенаторы — бездушные формалисты. Никакой особой крамолы или нецензурщины приписка вовсе даже не содержала. Но осуждающие слова — от обиды, видать, — вырвались и запечатлелись на бумаге. А слова, написанные на бумаге, являются, как известно, документально подтвержденным фактом. Дело тянулось почти два года, и хотя закончилось для коллежского асессора более-менее благополучно — в узилище его не ввергли, сделав скидку на «болезненное состояние», в котором он пребывал, — можно предположить, что натерпелся чиновник бедный немало.
Фразой «чиновники бедные» 15-летний питерский гимназист в 1860 году в своем личном дневнике (опубликованном в конце ХХ века историком Натаном Эйдельманом) обозначил служилый люд, кормившийся за счет государевого жалования, противопоставив его роскошествующей аристократии. Недостаточность жалования чиновников являлась официально признанной проблемой. Российское правительство не могло решить ее на протяжении всего XIX века, а в дальнейшем ситуация только усугублялась.
Однако речь здесь не только о жаловании и материальном достатке. Бедные — это еще и «обделенные», «униженные», «забитые». Кажется странным, что люди, для большинства населения олицетворявшие власть, находившиеся внутри этой власти и эту власть по сути осуществлявшие, оценивались образованными современниками в лучшем случае как жертвы обстоятельств. В худшем — как кровопийцы, сидящие на народной шее. И сами чиновники пореформенного времени молча соглашались с приписанной им ролью. Терпели произвол начальства, иногда совершенно дикий с точки зрения современного человека. Ругательства, затрещины, требования посещать дом начальника в праздничные дни с «визитами» — все это в провинции сохранялось достаточно долго и в пореформенный период. Чиновники обычно терпели, молчали, не требовали и повышения жалования, предпочитая решать свои финансовые проблемы самостоятельно, зачастую весьма рискованными способами.
За парадным фасадом, состоящим из вицмундиров, чинов и орденов, а также из бесчисленного количества официальных документов, скрываются люди, о которых мы можем узнать только случайным образом. Обычно они вовсе не говорят о себе, а если говорят, то чужим, казенным языком, который предназначен больше для того, чтобы скрывать, чем показывать. В дальнейшем — к концу XIX века — некоторые из них попытаются перейти на язык интеллигентов. Своего языка у этих людей нет. По сути, они почти всегда молчат.
Тем не менее при должной настойчивости историк может обнаружить источники, где чиновники предстают людьми, а не безликими деталями государственной машины. Они связаны с разного рода конфликтами или с неожиданно прорывающимися в иррациональных поступках обидами, фрустрациями и фобиями. Когда последствия этих вспышек так или иначе зафиксированы на бумаге, у историка появляется материал для работы, позволяющий изучить обычно молчащую социальную группу. Конечно же, чиновники пореформенной России далеко не однородны, даже на низшем и среднем уровнях бюрократической иерархии можно видеть разных людей, находящихся в одинаковых чинах.
Чиновники-аристократы
Гражданская служба была традиционно непрестижной для дворян, хотя они занимали там все ключевые должности, создавая прослойку чиновников, обладавших особыми привилегиями. Несмотря на попытки рационализировать российскую государственную систему, средневековый взгляд на гражданскую службу как на кормление продолжало разделять значительное количество российских дворян даже в начале ХХ века.
Поскольку в пореформенный период уже сформировался новый эталон образованного и рационального чиновника-бюрократа современного типа, старые представления о службе-кормлении неизбежно сталкивались с новыми, в которых идеалом государственного служащего был человек-функция, образованный, компетентный, энергичный и честный. Подобные разрывы хорошо просматриваются в описаниях чиновников Пермской губернии, оставленных в своих мемуарах одним из последних пермских губернаторов царского времени — Иваном Францевичем Кошко. В этих мемуарах, написанных вскоре после «несправедливой» отставки, чувствуется большая и острая обида, которой февраль 1917 года позволил придать вполне бесцензурную и оттого особенно ценную для историка форму.
Описывая своих подчиненных, И. Ф. Кошко начинает с их внешности и особенностей характера, а затем обязательно останавливается на происхождении: «Его мать из хорошей дворянской семьи фамилии Анненковых осталась после мужа с кучей маленьких детей без всяких средств к существованию. Путем необыкновенной энергии, самопожертвования, унижения перед богатой родней ей удалось все-таки вывести детей на дорогу».
Описанию семьи губернских чиновников уделяется несравненно больше внимания, чем профессиональной характеристике их работы и деловым качествам. Учитывая, что сам Кошко был представителем новой генерации губернаторов «столыпинского призыва», человеком образованным, рациональным и деловым, мы должны прийти к выводу, что приводимые им факты и характеристики свидетельствуют о ценностях и представлениях, доминировавших в дворянско-чиновничьей верхушке провинциального общества.
Характерна фигура полицмейстера Н. Н. Церешкевича, благодаря своим огромным усам и подчеркнутым манерам «военного» представлявшая почти карикатурный тип «провинциального бравого полицейского». По прикидкам Кошко, полицмейстер вел настолько широкую жизнь, что должен был проживать не менее 15 тысяч в год, в то же время официально не имел никаких источников дохода кроме жалования: «Церешкевич всегда очень кичился своим происхождением из хорошей дворянской семьи и усиленно культивировал все то, что особенно характеризовало прежний дворянский уклад жизни: держал кучу собак, барышничал лошадьми, у него всегда стояли, Бог знает для чего, огромные клетки с племенными, по его словам, премированными на выставках курами. Дом его отличался небывалым гостеприимством, которым широко пользовались его приятели в Перми и из губернии. Жизнь он вел рассеянную, постоянно принимал участие в кутежах и принадлежал к особой компании, которая сама величала себя «компанией алкоголиков».
Такой традиционный образ барина на службе не казался странным для пермской элиты начала ХХ века. Н. Н. Церешкевич был в губернии человеком всеми уважаемым и авторитетным, и жизнь главы пермской полиции не воспринималась в качестве чего-то ненормального никем, кроме самого автора мемуаров: «Рассказы его о чем бы то ни было носили следы, как бы помягче сказать, такой, что ли, безудержной фантазии, которая далеко оставляла за собой всякие факты, а потому я ни слову не верил в этих рассказах, и невольно такое недоверие перешло, наконец, и на его служебные доклады».
Предпринятое губернатором по анонимно поступившему на Церешкевича доносу, в котором он обвинялся в покровительстве публичным домам, служебное расследование окончилось ничем. И, несмотря на то, что у читателя мемуаров складывается отчетливое представление о нечестности полицмейстера, формально мемуарист характеризует его как «милого услужливого человека, которого все любили и со всеми он был в отличных отношениях».
Дворянско-чиновничье общество начала ХХ века по-прежнему жило традициями дореформенной эпохи, если не периодов, еще более архаичных. Представление о государстве как об источнике доходов, которыми кормится дворянская корпорация, и о том, что сам факт принадлежности к ней дает право пользоваться этими доходами, было все еще достаточно распространено. В целом доминировали личные отношения и семейно-родственные связи. Ни образовательный ценз, ни полное отсутствие способностей и деловых качеств не являлись препятствием для получения хорошего места в губернских органах власти.
В мемуарах И. Ф. Кошко мы видим ряд примеров назначения на ответственные должности людей, совершенно бестолковых и просто непорядочных. Одним из них был князь Ратьев, назначенный по протекции вице-губернатора В. И. Европеуса. Ратьев, не имевший образования, был отстранен от должности земского начальника и остался без всякого источника доходов — это стало главной причиной, почему В. И. Европеус настойчиво в течение нескольких недель убеждал губернатора сделать его чиновником особых поручений.
Совершенно неудовлетворительно работал на посту непременного члена губернской землеустроительной комиссии И. И. Песоченский, которого назначил на эту должность предшественник И. Ф. Кошко на посту губернатора А. В. Болотов, в доме которого он когда-то состоял репетитором. Вынужденный в то время не по своей воле оставить работу податного инспектора, Песоченский обратился к своему бывшему ученику и получил от него хорошую должность, находясь на которой, по свидетельству И. Ф. Кошко, несколько лет совершенно ничего не делал. Кроме того, Песоченский, по словам мемуариста, отличался крайней неразборчивостью в добывании средств, которых постоянно недоставало при его широком образе жизни:
«Он отличался невиданной виртуозностью брать от казны деньги, на которые он не имел никакого права. Я нашел, например, начеты по всем тем должностям, которые он когда-либо занимал. И это, заметьте, получилось после того, как в последнее десятилетие ряд манифестов простил весьма многие начеты. Начальство настоятельно и многократно требовало уплаты этих начетов, ставило сроки для объяснений, но Песоченский стоически отмалчивался и ничего не платил. Так действовал он и в отношении моих требований, так что я должен был официально предложить губернской комиссии производить удержания из его жалования. Но распорядительной властью в комиссии был он сам, а потому бумагу мою он положил под сукно и продолжал ничего не платить».
Не лучше Песоченского выглядит в мемуарах И. Ф. Кошко и занимавший пост непременного члена Пермской уездной землеустроительной комиссии З. М. Благонравов — брат тогдашнего Пермского архиепископа Палладия. Также назначенный на должность по протекции, он предпочитал бездельничать и делать долги. Вместо того чтобы просто уволить его со службы, губернатор был вынужден назначить Благонравова на должность земского начальника в Верхотурский уезд. Там чиновник отнюдь не образумился, и в результате ревизии, которая «обнаружила такие невозможные вещи», что Благонравов был вынужден написать прошение об отставке, он был все-таки уволен, но вскоре взят вице-губернатором Ордовским-Танаевским в казенную палату чиновником особых поручений.
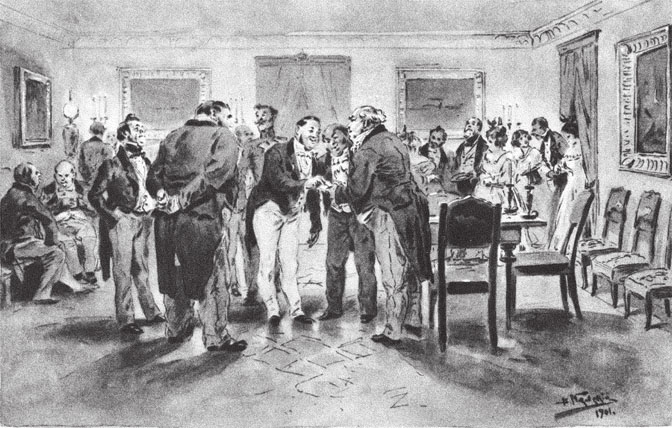
В качестве положительного примера губернского чиновника в мемуарах И. Ф. Кошко фигурирует начальник Пермского губернского управления земледелия и государственных имуществ А. А. Дубенский. Его достоинства как работника представляются следствием личного благородства и родовитого происхождения. А. А. Дубенский характеризуется как «благороднейший человек, рыцарь без страха и упрека», в котором «проявились все черты старинных дворянских традиций». При этом он человек «вполне образованный» — окончил университет, а главное — честный и добросовестный, «всегда отстаивавший интересы казны, хотя иногда в этом и перегибавший палку».
Подчеркивая негативную характеристику антипода А. А. Дубенского — управляющего казенной палатой Н. А. Ордовского-Танаевского, ставшего в дальнейшем его личным врагом и источником служебных неприятностей, И. Ф. Кошко прежде всего говорит о его происхождении, «судя по фамилии», из духовного звания. Мемуарист сообщает, что Ордовский-Танаевский «окончил курс окружного юнкерского училища, куда в те времена шли неудачники из кадетских корпусов и не одолевшие премудрости курса гимназисты и реалисты». На самом деле это не так — Н. А. Ордовский-Танаевский был дворянином, окончил Павловское военное училище. Вероятно, подобная биография выглядела слишком малоподходящей для столь низкого человека, каким И. Ф. Кошко изобразил Н. А. Ордовского-Танаевского. Его профессиональные достоинства описаны фразой: «работал он хорошо и усердно, но того священного огня, который помогает людям выдвинуться из толпы и оставить своей работой заметный след, у него совсем не было». Неприятный характер, странная манера себя вести с окружающими, нетривиальная семейная жизнь и тесные отношения с Распутиным, через посредство которого он делал карьеру, довершают образ отрицательного чиновника-карьериста.
Убрав эмоции, мы обнаружим значительное сходство между всеми этими персонажами, составлявшими верхушку чиновничьего мира губернии. Это потомственные дворяне, карьера которых определяется не столько образованием и деловыми качествами, сколько протекцией родственников и симпатизирующих им влиятельных лиц. И, конечно, все они — бедные люди, чье жалование несопоставимо с представлениями о «нормальном» уровне жизни в обществе, к которому они имеют честь принадлежать. «Честные» чиновники, такие как А. А. Дубенский, эту бедность стоически терпят, остальные пытаются дополнить жалование другими, уже не совсем приличными в пореформенный период, источниками доходов.
Маленькие чиновники
Такие чиновники, которые в силу благородного происхождения могли рассчитывать на поддержку влиятельных покровителей и расположение начальства, вне зависимости от собственных заслуг, ни в XIX веке, ни в начале ХХ не составляли большинства. Преобладали чиновники низкого происхождения, те, у кого в формулярном списке было записано: «сын дьякона», «сын потомственного почетного гражданина» или «из штаб-офицерских детей». Последнее обозначало, что родитель обладателя формуляра выслужил чин, дававший право только на личное дворянство.
Отношение этих служилых людей к власти определялось в первую очередь тем, что для большинства из них благосклонность начальства была главным условием существования. Зависимость от воли, а зачастую от произвола начальника была особенно сильна для основной массы чиновников и служащих, нередко не имевших даже среднего образования и не обладавших специальной квалификацией, делающей их незаменимыми сотрудниками. Несмотря на то, что получение первого классного чина давало возможность почти автоматически получать и следующие, определяющим в судьбе чиновника оставалось отношение начальника. Для человека благонамеренного и пользующегося расположением начальства возможность сделать карьеру была всегда, даже при отсутствии среднего образования.
Примером может послужить жизненный путь чиновника Пермской контрольной палаты Карла Германовича Штрека. Происходивший из семьи иностранцев, записавшихся в мещане города Перми, он смог окончить только четыре класса гимназии. На службу в Контрольную палату поступил в июне 1886 года в должность канцелярского служителя, в сентябре 1891 года был назначен счетным чиновником, а в феврале 1893 года — помощником ревизора. В первый чин коллежского регистратора произведен только в декабре 1900-го со старшинством с 1 мая 1899 года. Далее К. Г. Штрек стремительно делает карьеру, чему во многом способствовала русско-японская война, во время которой он находился при действующей армии и был награжден двумя орденами. По возвращении в Пермь Штрек за пару лет достигает чина надворного советника и, находясь в должности старшего ревизора Пермской контрольной палаты, получает уже жалование 2400 рублей в год (включая столовые и квартирные). Сумма достаточно внушительная, о таком годовом доходе в начале ХХ века могли только мечтать большинство состоявших на государственной службе провинциальных врачей и учителей, имевших высшее образование.
Вероятно, деловые качества этого чиновника сыграли определенную роль в его быстром карьерном росте, но несомненно, что такой стремительный взлет обеспечили ему, прежде всего, безусловная благонамеренность и каким-то образом завоеванное расположение начальства. В той же Контрольной палате в этот же период служили и счетоводы-ревизоры, чьи стартовые условия (насколько можно судить по их формулярным спискам) ничем принципиально не отличались от таковых у К. Г. Штрека. Некоторые из них за десятилетия службы выслужили и классные чины, но размер их жалования был в несколько раз меньше, чем у нашего старшего ревизора.
Неудивительно, что отношение чиновников к власти, прежде всего к собственному начальству, от которого они полностью зависели, было проникнуто смесью страха, ненависти и демонстративного уважения, доходящего до подобострастия. Особенно страшились мелкие чиновники какой-нибудь неприятности, грозящей испортить их послужной список и тем самым послужить препятствием к награждению орденом, производству в следующий чин и т. п. Ведь карьера государственного служащего, только лишь заподозренного в неблагонадежности, могла серьезно затормозиться, а то и вовсе закончиться увольнением со службы.
Пример подобного отношения к власти демонстрирует неизвестный автор частного письма, отправленного в ноябре 1904 года из Самары в Пермь на имя законоучителя Пермской гимназии П. Н. Черняева. Письмо подверглось перлюстрации, и копия с него хранится в настоящий момент в архивном фонде Пермского жандармского управления. Судя по стилю и содержанию письма, это чиновник невысокого ранга, случайно оказавшийся на заседании семейно-педагогического кружка, на котором, неожиданно для автора письма, присутствовавшие стали произносить очень «зажигательные» и либеральные речи, а закончившегося и вовсе криками с галерки: «Долой Романовых!» и «Долой чиновников-казнокрадов!» и разбрасыванием листовок. Автор письма не скрывает своего испуга:
«С хор полетели внизу в зал, где сидел и я, какие-то бумажные свертки и полулисты… Сразу я не понял в чем дело, думая, что бумага — это только оболочка, в которой какие-нибудь озорники пускают в публику какой-нибудь гадостью, подобно тому, как иногда в театре в несимпатичного артиста летят разные мерзости, и поэтому я только берегся, как бы какой-нибудь сверток не угодил мне в физиономию. Но скоро я увидел свою недогадливость: один из моих соседей, подняв сверток, вынимает из него полулист и передает мне… Полулист гектографированный… Читаю: “Граждане…” а далее те же: “долой”, “долой”… Сразу стало все понятно… Бросаю подлую бумагу и срываюсь с места… Насилу и отискался, насилу добрался до раздевальной, так как многие стали тоже уходить… Шапку в охапку и поскорей домой, и отлично сделал: вскоре, как я узнал потом, явилась и полиция и жандармы… Произведено много арестов, и среди арестованных встречаются люди совершенно непричастные к происшедшей манифестации. Конечно, они отделались только неприятностью ночевать в “кутузке”, а потом были выпущены, но и этого достаточно, чтобы быть скомпрометированным и заподозренным Бог знает в чем. Случись такая вещь со мной — беда. Я не говорю уже о том, что я перепугал бы всю свою семью, не явившись ночевать домой, ее страх еще бы усугубился, если бы донеслось до нее, что я “взят” по подозрению “в политическом преступлении”, но я должен сказать, что для меня теперь более, чем когда-нибудь нужна аттестация “благонамеренного” и “политически благонадежного” человека…»
Таким образом, типы «бедных чиновников», описанные Федором Достоевским в 1860-х годах, в начале ХХ века встречаются в российской провинции повсеместно и в большом количестве. Конечно, их облик частично изменился, прежде всего ушла религиозность, характерная для русских людей дореформенной эпохи. Широкое распространение среднего образования и печатной продукции привело к возникновению нового типа чиновников, имевших ряд общих черт с интеллигентами. Правда, интеллигентами им дозволялось быть только секретно, в свободное от службы время.
Чиновники-интеллигенты
Провинциальная интеллигенция в Российской империи к началу ХХ века представляла собой особую социокультурную группу, с которой отождествляла себя значительная часть образованного населения, в том числе и тех, кто носил мундир и существовал за счет жалования от казны. Рекрутировавшуюся из разных сословий, включавшую в себя людей разных профессий и разного уровня благосостояния, интеллигенцию объединял общий набор ценностей, норм и правил. Основным отличием интеллигента было противопоставление себя существующей власти, вытекавшее из общего для всех представителей этой социокультурной группы мировосприятия: власть угнетает и эксплуатирует невежественный и страдающий народ, а долг интеллигенции — этот несчастный народ спасать.
В то же время большинству интеллигентов, служивших на казенной службе — врачей, учителей, служащих, — приходилось зависеть от расположения непосредственного начальства и заботиться о своей репутации «благонамеренного» гражданина. Это было одним из необходимых условий нахождения на государственной или земской службе, не говоря уже о продвижении в чинах. Потеря этой репутации приводила к самым печальным последствиям — устроиться на хорошо оплачиваемую работу даже только заподозренному в «крамоле» интеллигенту в провинции было очень непросто. Следствием этого было то, что интеллигенция, пытавшаяся позиционировать себя как независимую силу, оппозиционную существующей власти, в действительности от этой власти и в материальном, и в правовом плане зависела.
В 1905 году, в период оживления общественной жизни, либеральные провинциальные интеллигенты впервые позволили себе публично выразить свои взгляды, не совершая, однако, явно противоправных действий и не переступая черты дозволенного, весьма неопределенной в этот момент в силу переживаемых исторических событий, —.
Почти сразу же многим из осмелившихся пришлось выпрашивать прощение у начальства Так, летом 1905 года это был вынужден сделать младший врач 232-го резервного батальона, лично ходивший на поклон к пермскому губернатору «с изъявлением раскаяния в своем легкомысленном поступке, и заявлением, что он на такой шаг решился в виду присутствия коллег-врачей, перед которыми он чувствовал ложный стыд не присоединиться к их заявлению». Врач всего-навсего подписал письмо с протестом против грубого разгона полицией разрешенного властями собрания учителей, не ставившего перед собой каких-либо политических целей. Однако такой поступок мог не только стоить ему карьеры, но и просто привести на край бедности: зарабатывать частной практикой для молодого врача в то время было практически нереально.
Такая двойственность в положении чиновников-интеллигентов приводила к возникновению различных фобий, носивших тем более выраженный характер, чем менее значительной была должность, занимаемая субъектом, и меньше его доход. Фрондирующий в кругу единомышленников-интеллигентов служащий, учитель или врач мог самым жестким образом критиковать власть, говорить об освободительном движении, роли и долге интеллигента и т. п. Но, приходя на службу, он зачастую был вынужден не просто демонстрировать лояльность, но даже смиренно просить либо угождать начальству, то есть использовать практики, не слишком соответствовавшие неписаному кодексу поведения интеллигента.
Бедность большинства провинциальных представителей «образованного класса», отсутствие реальной возможности, опираясь на свои собственные силы, знания и профессионализм, обеспечить устойчивое и безбедное существование для себя и своей семьи — основа разного рода фобий, чувства неудовлетворенности собственным положением «образованного класса» в России рубежа XIX–ХХ веков. Частично отрефлексированное, оно трансформировалось в устойчивый и почти всеобъемлющий социальный пессимизм, сочетавшийся со скептическим отношением к уже существовавшим, пусть и ограниченным институтам нарождавшегося гражданского общества. «Люди двадцатого числа», жившие за счет государственной службы, остались молчаливым сообществом, не решившимся вынести на публичное обсуждение свою реальную жизнь и собственные проблемы.