Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2005
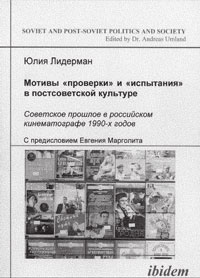 Юлия Лидерман. Мотивы «проверки» и «испытания» в постсоветской культуре: Советское прошлое в российском кинематографе 1990-х годов / С предисловием Евгения Марголита. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2005. 200 c. Серия “Soviet and Post-Soviet Politics and Society” / ed. By Dr. Andreas Umland.
Юлия Лидерман. Мотивы «проверки» и «испытания» в постсоветской культуре: Советское прошлое в российском кинематографе 1990-х годов / С предисловием Евгения Марголита. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2005. 200 c. Серия “Soviet and Post-Soviet Politics and Society” / ed. By Dr. Andreas Umland.
На обложке — коллаж из рекламы древнесоветских фильмов. Вот героиня Любови Орловой, в руках самовар, личико чумазое — «Светлый путь» еще впереди. «Волга-Волга»: бюрократ Бывалов позирует на фоне парохода «Севрюга». Муля из «Подкидыша» продолжает нервировать супругу. «Девушка с характером», «Чужая родня», «Сказание о земле сибирской», «Беспокойное хозяйство», «Свадьба в Малиновке»… Примечание на обороте титульного листа: «Киоск по продаже видеокассет с советскими фильмами на станции метро “Китай-город”, Москва. 2005». Читатель настраивается на веселый лад. Стиль иронического репортажа с барахолки, торгующей советскими раритетами, знаком ему еще по незабвенному журналу «Столица». Формулировки разделов книги тоже воспринимаются как часть игры, элемент которой — юмористическая ностальгия по советским временам: «“Трудовые будни” в советском кинематографе — время подвига советского человека», «Испытание любовью»… Но если читатель думает, что перед ним занятный комментарий к сеансам в «Иллюзионе» или сборник изящных дамских эссе, он ошибается. Слова «диссертационное исследование» обнаружишь не сразу, они спрятаны в глубине текста.
Соответственно, все чрезвычайно серьезно:
«В первой главе мы реконструировали нормативные представления коллективных ценностей, организованные вокруг трудовой тематики, во второй главе, сменив фокус рассмотрения, объектом нашего исследования станут метафоры, конфликты, сюжеты, репрезентирующие военное время и военный порядок… Анализируя риторику мобилизации, можно составить впечатление о предлагаемых зрителю, слушателю, читателю, принципах консолидации» (c. 107). Что поделать, тяжеловесность слога — непременный атрибут диссертационного жанра. А синтаксические завихрения заставляют вспомнить классическое: «Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа».
К чему еще можно придраться? Гриша Брускин упорно именуется «Брусскиным» (c. 45–46). И, конечно, не «В. Пригов» (c. 45), а исключительно Дмитрий Александрович Пригов. Всей Москве известно, что живой классик требует именовать себя только так, без сокращений. Качество некоторых иллюстраций совсем скверное. Вот побитая физиономия на размытой картинке, словно позаимствованной из раздела происшествий газеты «МК». Плачущего кровавыми слезами Никиту Михалкова в роли Комдива узнаешь не сразу.
Ближе к середине текста начинают попадаться совсем уж странные фразы, праздник синтаксического непослушания перерастает в бунт. Неторопливо-академичное вступление, усыпляющая череда внушительных терминов — и непредсказуемый хаотичный финал, увенчанный знаком вопроса: «Иконография творения используется в советском кинематографе для конструирования оптики, облегчающей нормативное восприятие и интерпретацию трудовых сюжетов советского кинематографа как картин уникального проекта «советский человек» по-подробнее ссылку на политика люди?» (c. 81). Или вот это: «Главным героем советского кино, с конца 1920-х годов стал рабочий класс (посмотреть Булгакову и Марголита. «Дом на трубной» «Любовь втроем» «Зависть») (c. 53). Может быть, произошла какая-то техническая неполадка, и в печать вместо выправленного текста угодил черновик? Тогда все объясняется просто: «посмотреть» — не команда читателю, а рабочая пометка самого автора. Но не спеши те с претензиями к штутгартскому издателю. Выясняется, что странность изложения — методологический принцип, составляющий авторское ноу-хау: «Для обеспечения остранения от объекта рассмотрения, необходимы несколько процедур защиты себя и собственной исследовательской позиции от опасностей “включенного наблюдения” или погружения в объект» (c. 51). Это ставит все на свои места. Теперь мы понимаем, что рассуждение о нормативности — тонкая аллюзия на сорокинскую «Норму». Юлия Лидерман пользуется любимым приемом Владимира Сорокина: занудным вступлением усыпить внимание читателя, чтобы усилить выразительность неожиданного финала. Псевдорациональность в начале и хаос в конце — такое строение фраз имитирует письма садовника к Мартину Алексеевичу. Неудобочитаемость текста, видимо, тоже является одним из стилистических приемов. Чтение, превращенное в испытание, помогает прочувствовать главную идею книги.
Юлия справедливо обвиняет старшее поколение отечественных ученых в неспособности преодолеть инерцию «советского мышления». У молодой исследовательницы неоспоримое преимущество: «советскость» для нее не скелет в шкафу, а экспонат в витрине антропологического музея. Будем считать книгу артефактом постмодерна. Эксперимент по преодолению инерции мышления вполне удался. Читатель, не осиливший текст, все же получает награду: ближе к концу книги обнаруживается отличная подборка кадров по бродячему (в буквальном смысле) мотиву — прогулкам влюбленных. Собственно, о постсоветской культуре, заявленной в названии, повествуется скороговоркой — зато больше внимания уделено довоенному периоду и временам хрущевской оттепели. Кадров из постсоветских фильмов немного, всего восемь, а из старых советских — целых тридцать восемь, и по качеству воспроизведения они несколько лучше. Фильмография содержит пятьдесят девять советских лент и всего восемнадцать постсоветских. «Строгий юноша», «Разные судьбы», «Добровольцы» с «Испытанием верности» — эти фильмы анализируются в третьей главе, посвященной любовным испытаниям. Игривостей ищите у других авторов. Если кто-нибудь осмелится обвинять современных барышень в легкомыслии, почитайте ему вслух сочинение Юлии Лидерман о любви: «Презентация любовного поведения в искусстве, культуре позволяет выяснить, как находится и сохраняется компромисс между разными типами ролевого поведения, как примиряются общественные, групповые, индивидуальные интересы…» (c. 139).
Как считает Юлия, в СССР имело место «вытеснение альтернативных эмоциональных шкал и норм выражения для легитимации единственного огосударствленного эмоционального и этического восхождения — восхождения в трудовом и военном подвиге» (c. 166). В этом ключе и трактуется ею советский метафорический лексикон:
«Значительную роль в ряду образов, эксплицирующих развернутую метафору “творение”, можно считать фонтаны, а также их кинематографические синонимы: салюты, с шумом открываемые бутылки шампанского (метонимическая фигура праздника), искры сварки, потоки стали и чугуна. Самыми излюбленными советским кинематографом воплощениями идеи стабильной, изливающейся вовне и все же не иссякающей энергии можно считать фонтаны» (c. 81). Автор тщательно избегает фрейдистской интерпретации животворного мотива фонтанов (салютов). Кадры из пырьевского «Испытания верности» (1954) комментируются так: «Брызги фонтанов, сварки, литья презентируют праздничность будней советского человека»; «Брызги становятся декоративным элементом в презентации трудового процесса. Этот мотив привносит в повествование смыслы, связанные с изобилием, праздничностью, приподнятостью» (c. 85; 86). Евгений Марголит в предисловии к монографии деликатно дополняет автора. Он указывает на иной подтекст изображения «трудового акта» у Пырьева и в «Весне на Заречной улице» Миронера и Хуциева (1956), на неоднозначность сталелитейной символики: «Эротика здесь… не исчезает из кинематографического пространства, но переводится в метафорический план» (c. 10). Кто из исследователей прав? Мне кажется, стоит поискать литературных параллелей. В эталонном романе «Как закалялась сталь» металлургическая образность соседствует с достаточно откровенной эротикой. Павка пробуждает в девушке Тае женщину, зажигает в ней «внутренний огонь» — и тем помогает ей преодолеть «узколичное, свое собственное, обособленное». Сексуальная инициация дает импульс социальной: вскоре Тая вступает в партию, активно работает в женсовете.
Юлия Лидерман справедливо указывает на сакрально-мифологический смысл нормативных текстов советской культуры. Во введении она рассматривает поэму «Смерть пионерки» Эдуарда Багрицкого, отмечая «глубоко мистический характер переживания социальной реальности» (c. 31). (Автор излагает основные положения статьи Ивана Есаулова «Соцреализм и религиозное сознание» из сборника «Соцреалистический канон».) Одна из манифестаций сакрального в советской культуре — обряд «благословения» на труд или на бой, которое младшие персонажи получают от старших. Благословение возвышает, романтизирует трудовые испытания, которые иначе выглядели бы как «бессмысленный труд полу-людей — полу-животных, что было совершенно недопустимым с точки зрения коммунистической ортодоксии» (c. 63).
Насколько жизненны эти авторские построения, на первый взгляд довольно экзотичные?
Неожиданное подтверждение находим в другом стихотворении Багрицкого, «Весна, ветеринар и я»:
О чем же ты думаешь, ветеринар?
На этих животных должно тебе
Теперь возложить ладони свои,
Благословляя покой, и бег,
И смерть, и мучительный вой любви.
Концентрация мотивов, выявленных автором на кинематографическом материале, в этом произведении удивительно высока. Подчиненному объекту (животному) предстоят суровые испытания. Субъект, наделенный властью, — в данном случае ветеринар — проводит проверку. Ее описание, исполненное натуралистических подробностей, мы опускаем. Любовные усилия колхозной коровы неизбежно подчинены общественному благу, план сдачи мяса государству обрекает ее на роль жертвы, но мистическое благословение возвышает биологический по природе объект. Мотив благословения опять возвращает нас к «Смерти пионерки» — «умные врачи», собственно, Валю не лечат, а только благословляют возложением рук («гладят бедный ежик»). В финале предсказуемо возникает метафора салюта:
В прозелень лужайки
Капли как польют!
Валя в синей майке
Отдает салют.
Больная девочка из последних сил отдает пионерский салют, а в небе полыхает гроза — визуальный синоним салюта праздничного. Пример наглядно демонстрирует доказанную Юлией Лидерман синонимичность мотивов салюта и ливня. Но что именно символизирует финальный салют? Случаен ли проникший в строфу каламбур, ведь в последней строке явно слышится шокирующее:
Отдается люто.
Увы, приходится признать, что поколения советских школьников поневоле зубрили нечто непристойное. Зловещая мистичность поэмы подмечена в монографии верно, пионерский слет у Багрицкого действительно напоминает шабаш ведьм. Возьмем на себя смелость проследить развитие действия до логического конца. Сбросив крестик, Валя присоединяется к нечистой силе, падает в объятия к сатане. В буквальном смысле: сценарий шабаша хорошо известен из фольклора, и он непременно предусматривает совокупление ведьмы с дьяволом. Подтверждается прозорливость Евгения Марголита, указавшего на эротический подтекст метафоры салюта (фонтана). Но права и Юлия Лидерман, подчеркивающая социальный аспект данного метафорического комплекса.
Третья часть трилогии Багрицкого «Последняя ночь», поэма «Февраль», содержит множество параллелей со второй частью (знакомой школьникам как «Смерть пионерки»). В прологе девочка играет в «дьяболо»; в финале героиня покорно отдается комиссару, который овладевает ею «не стянув сапог, не сняв кобуры». Кульминацию сопровождает все та же метафора:
Будут ливни, будет ветер с юга.
Отмеченный нами портрет комиссара дополняет собранную автором книги галерею «образов командиров, в которых осмысляется природа и характер власти» (c. 180). Отношения комиссара и девушки наглядно иллюстрируют модель социальной иерархии, «институционализацию принципа безальтернативности». В конечном счете — «превосходство коллективных ценностей над индивидуальными, риторику мобилизации для обеспечения успешной коммуникации между общественностью и властью» (c. 185).