Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2005
Предлагаемый читателю анализ аргентинского опыта не является ни сравнительным исследованием, ни case study в точном смысле этого слова. Это, скорее, попытка взглянуть на некоторые проблемы развития Аргентины с российской точки зрения. Важнейшая из этих проблем — поиск современных оснований для интеграции общества и, в более узком плане, проблема соотношения, сопряжения низовой самоорганизации и институтов представительной демократии, взаимодействия гражданского и политического общества. При всем глубочайшем различии путей, пройденных Россией и Аргентиной в ХХ веке, есть два общих сюжета, которые делают аргентинский опыт для нас особенно интересным. Вопервых, это центральная роль, которую в интеграции общества играло (или пыталось играть) государство. Во-вторых, это характерное для обеих стран ощущение утерянного величия, пропущенной судьбы, жизнь с головой, повернутой назад, в прошлое, где, собственно, и остались все реальные или мнимые национальные достижения.
История Аргентины в ХХ веке действительно поражает вопиющим несоответствием огромного потенциала — природного и человеческого — более чем скромным достижениям в социально-экономическом и, особенно, политическом развитии. Это страна с чрезвычайно (и, по-видимому, чрезмерно) благоприятными природными условиями, практически идеальными для выращивания зерна и разведения скота в зоне пампы. В Аргентине на момент прихода туда испанских колонизаторов не было сильных индейских цивилизаций и государств, как в Мексике, Центральной Америке или Перу. Поэтому туземное население, за исключением севера страны, было практически полностью истреблено к началу ХVIII века, и Аргентина заселялась как иммигрантская страна по типу, более сходному с США, чем с любой другой латиноамериканской страной. Если первоначально это были выходцы из Испании, то уже в ХIХ веке, особенно последней его трети, в иммигрантском потоке доминируют итальянцы (их потомки составляют не менее трети населения Буэнос-Айреса). В первой половине ХХ века в Аргентину приезжали ирландцы и англосаксы, украинцы и хорваты, евреи, армяне, немцы, левантийские и палестинские арабы. «Переплавленные» в аргентинском аналоге «плавильного тигля» («crisol de razas»), иммигранты составили костяк рабочей силы, не имевшей по своему качеству аналогов в Латинской Америке.
Сочетание этих двух факторов — уникальных природных условий и уникальной по динамизму и уровню квалификации рабочей силы — на рубеже ХIХ–ХХ веков превратило Аргентину в одну из самых богатых и процветающих стран мира. В основе этого процветания лежал экспорт высококачественного зерна и мяса в Европу. В начале ХХ века Аргентина обгоняла многие ныне развитые страны по уровню душевого дохода[1]. Другое дело, что распределение этого дохода было крайне неравномерным, его получателями были не более 20% населения страны: владельцы поместий, торговцы и банкиры, городской средний класс и городские рабочие, занятые в основном на мясохладобойнях, т. е. все те, кто, собственно, и составлял тогда аргентинское общество. Десятые-двадцатые годы прошлого века во многих отношениях остаются эталонными для аргентинцев до сих пор. В национальной памяти — как символ утерянного затем благополучия, в архитектуре — в торжествующем модерне Буэнос-Айреса и, наконец, в танго, отразившем предчувствие страны, которая «начиналась» в то время, «страны ностальгии, печали, страны фрустрации, недовольства, озлобления и всеобщих сомнений»[2]. Этот иммигрантский в своей основе психологический комплекс сочетался у аргентинцев с ощущением собственного превосходства над латиноамериканскими соседями, с восприятием себя как «европейцев в изгнании», по выражению Борхеса.
Последующая история настойчиво и безжалостно доказывала аргентинцам, что они — настоящие, стопроцентные латиноамериканцы. Процветание кончилось в 1930 году с наступлением Великой депрессии. Падение спроса на аргентинское зерно и говядину разрушило фундамент экспортной экономики, а вместе с ней — благосостояние общества и равновесие политической системы[3]. В 1930 году в стране происходит военный переворот, с которого, собственно, и начинается современная история Аргентины, история спиралевидного движения вниз — от хорошего к плохому и от плохого к худшему, из которого Аргентина, несмотря на все усилия, не могла вырваться до конца ХХ века. Если по экономическим (ВВП на душу населения) и целому ряду социальных показателей (уровень образования, ожидаемая продолжительность жизни, младенческая и детская смертность) Аргентина в середине ХХ века была вполне сопоставима со странами Европы и даже превосходила некоторые из них до 1970-х годов, то в политическом отношении это была типично латиноамериканская страна. С 1930 по 1983 год военные диктатуры чередовались здесь со слабыми гражданскими правительствами; в этот период почти все избранные на всеобщих выборах президенты Аргентины были свергнуты в результате военных переворотов. Кульминацией этого процесса политической деградации стал чудовищный военный режим 1976–1983 годов, когда было убито, замучено и бесследно исчезло около 30 тыс. аргентинцев. Экономический и политический крах диктатуры в 1983 году положил конец бесконечным колебаниям военно-гражданского маятника, и с 1983 года Аргентина развивается в рамках демократического режима.
Самая общая причина удручающе однообразного движения по кругу заключалась в ситуации социального и политического пата, равновесия сил, поддерживавших противостоящие проекты общественного развития[4]. Ни одна из разнородных социальных коалиций не могла навязать свой проект в качестве господствующего, но имела достаточно сил, чтобы блокировать осуществление проекта противной стороны. В результате «аргентинское общество выработало целую серию институциональных схем, функционировавших по принципу “нулевой суммы”, когда выигрыш одного социального сектора по определению был проигрышем другого. С этим были связаны непреодолимые трудности в создании эффективного демократического порядка и конкурентной капиталистической системы, способных удовлетворять растущие социальные требования на основе устойчивого экономического развития. Государство, подчиненное интересам отдельных секторов общества (предпринимателей, партий, профсоюзов), и неэффективный капитализм, основанный на протекционизме и привилегиях, были разными сторонами одной и той же монеты»[5].
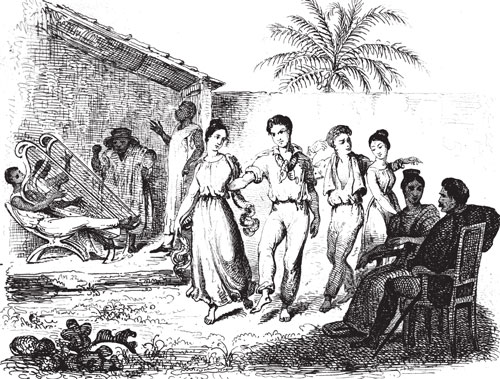
Проектом общественного развития, определившим судьбу Аргентины во второй половине ХХ века, был перонизм — государство, движение, партия, созданные генералом Хуаном Доминго Пероном, президентом страны в 1946–1955 годах. Это была наиболее последовательная попытка интегрировать общество «сверху» путем активного государственного вмешательства. В социальном плане это предполагало «включение», инкорпорирование городских трудящихся и сред них слоев в созданные сверху корпоративные структуры, охватывавшие наиболее активную часть народных масс сетью государственных и полугосударственных организаций. Тем самым социальное и политическое «исключение»[6], которое являлось важнейшим источником нестабильности и в демократической республике 1912–1930 годов, и в период консервативных правительств 1930–1943 годов, должно было быть устранено путем институционализации массового участия по каналам, полностью подконтрольным государственной власти, и лишено какоголибо самостоятельного импульса и потенциала[7]. Интеграция массового движения осуществлялась в первую очередь через созданные режимом профсоюзы — вертикальные, клиентелистские организации, в короткий срок объединившие большинство городских трудящихся и ставшие приводным ремнем от харизматического каудильо к массам. Для рабочих, входивших в эти профсоюзы, их строго вертикальный характер оказался гораздо менее важен, чем сама возможность организованного действия. Зависимость от политической власти, от режима, от лидера воспринималась как неизбежная плата за растущую роль профсоюзов в политической жизни, за неиспытанное ранее сознание политического протагониста[8].
Национал-популистский перонистский проект был экономически ориентирован на импортозамещающую индустриализацию и защиту национальной промышленности и внутреннего рынка от конкуренции иностранного капитала и товаров. В социальном отношении этот проект был перераспределительным, включавшим рост реальной заработной платы и потребления, повышение жизненных стандартов большей части городского населения и усиление его вертикальной мобильности, активную социальную политику государства — государственное пенсионное обеспечение, обязательные оплачиваемые отпуска, бесплатную систему медицинского обслуживания и дешевое государственное жилье. На этой основе возникла популистская социальная коалиция, которая объединила местных предпринимателей («национальную буржуазию»), «народный сектор» (организованных трудящихся и средние слои) и традиционных провинциальных каудильо под эгидой активистского, дирижистского государства, которое выступало как главный податель благ — субсидий предпринимателям, субвенций провинциям, социальной защиты трудящимся и должностей в быстро растущем государственном аппарате. Национализм и социальная справедливость стали главными идеологическими опорами возглавившей популистскую коалицию Хустисиалистской[9] партии Аргентины, призванной, по замыслам Перона, покончить со всеми старыми политическими партиями — носителями партикуляристских интересов — и «организовать нацию» на вертикальных, корпоративистских началах[10].
Перонизму противостоял не менее разнородный социальный блок, который объединял традиционные интересы экономически господствующих групп, отодвинутых в перонистское десятилетие от политической власти. Он включал в се бя экспортеров («буржуазию пампы», по выражению Г. О’Доннелла), крупных промышленников и финансовые круги, ориентированные на привлечение в страну иностранных капиталов, часть средних слоев, католическую церковь, армию. Это была также достаточно аморфная коалиция, политически гораздо менее организованная, не имевшая ни харизматического вождя, ни политической партии, ни сколько-нибудь артикулированной идеологии. Тем не менее политические и психологические границы между двумя блоками были определены достаточно четко. Раскол аргентинского общества оказался очень глубоким и на несколько десятилетий разделил Аргентину на два противостоящих лагеря. Этот раскол усугублялся слабостью представительных институтов, которые формально существовали, но не играли никакой роли в системе реальной власти, концентрировавшейся в исполнительных структурах. Противники Перона, в том числе те, кто не был согласен с государственным дирижизмом, с нараставшими авторитарными и автократическим тенденциями, с приоритетом порядка над ценностями свободы, были лишены политических каналов воздействия на принятие решений. С другой стороны, после свержения Перона в 1955 году военные на 18 лет наложили фактический запрет на возвращение перонистской партии к власти, свергая гражданские правительства и аннулируя результаты выборов каждый раз, когда перонисты одерживали на них победу.
Именно в этот период (1956–1973) складывается равновесие сил, породившее маятниковое движение между двумя противостоящими экономическими проектами и подчинение государства интересам отдельных групп и секторов, о которых говорилось выше. Удовлетворение требований профсоюзов и предпринимателей, ориентированных на внутренний рынок, вело к росту заработной платы, ограничению доступа иностранного капитала, принятию государственных программ промышленного развития и завышению курса национальной валюты, что ущемляло интересы экспортеров и неизбежно приводило к нарастанию инфляции. Следовавшая затем стабилизация, снижение валютного курса улучшали ситуацию с экспортом и платежным балансом, но столь же неизбежно приводили к росту цен на продукты питания (напрямую зависевшие в Аргентине от цен на экспортируемые зерно и мясо) и, следовательно, падению покупательной способности заработной платы. Цикл завершался, профсоюзы выдвигали новые требования, круг замыкался. Амплитуда колебаний маятника увеличивалась, «каждый его поворот, постоянное чередованием временных побед и поражений, обостряло конфликты, которые их порождали»[11]. В этих условиях инфляция переставала быть чисто экономическим явлением: она замещала собой отсутствующий механизм политического согласования интересов и отражала накапливаемые государством требования различных социальных секторов, стремившихся опередить своих противников[12]. Этот механизм блокировал и политические изменения, поскольку основные социальные акторы были ориентированы на завоевание позиций внутри государства, а не на создание институциональных механизмов согласования интересов.

Несмотря на политическое поражение и последовавший затем период проскрипций, перонизм оставался самым жизнеспособным политическим движением Аргентины, что было связано c рядом его специфических особенностей. Во-пер вых, ему впервые в истории Аргентины удалось интегрировать в созданные им институты те массовые слои населения, которые до этого были отстранены от любых каналов социального и политического представительства. Созданные сверху под эгидой государства корпоративные структуры после крушения перонистского режима не только сохранились как массовые организации, но и обрели самостоятельность, превратившись в ключевой элемент гражданского общества[13]. Перонистские профсоюзы смогли до 1976 года успешно отстаивать социальные завоевания и уровень жизни, достигнутые городскими трудящимися и средними слоями при Пероне. Во-вторых, перонизм оказался предельно широким, практически всеохватывающим политическим течением. В середине 1970-х годов он включал в себя весь политический спектр — от крайне правых, фашистских организаций типа Аргентинского антикоммунистического альянса (печально знаменитого «Triple A», созданного министром социального обеспечения второго перонистского правительства для осуществления убийств левых и профсоюзных активистов) до крайне левых, революционно социалистических молодежных организаций («Монтонерос»), которые вели вооруженную борьбу сначала с военным, а затем с перонистским режимом[14]. Во всеобъемлющем характере перонизма, сумевшего сохранить притягатель ность общего, хотя и все более расплывчатого «национального проекта капитализма», заключалась и сила, и слабость движения. Сила потому, что, как только был снят электоральный запрет, перонисты триумфально возвратились к власти на первых же свободных выборах в марте 1973 года. Слабость потому, что только фигура престарелого вождя, вернувшегося из эмиграции, скрепляла разваливавшуюся на глазах коалицию и удерживала противостоящие фракции внутри перонизма от открытого столкновения. Смерть Перона в июле 1974 года сняла последние ограничения: правительство вступило в прямой конфликт с профсоюзами, массовые организации, недовольные падением уровня жизни, начали захватывать предприятия, леворадикальные организации возобновили вооруженные действия против режима. Военные дождались, когда страна полностью погрузилась в хаос, и, не встретив никакого сопротивления, свергли перонистское правительство.
Таким образом, напряжение между гражданским и политическим обществом привело к коллизии такой силы, которая обрушила и без того хрупкие институты политической демократии. С одной стороны, они оказались слишком узкими для того, чтобы эффективно представлять интересы тех слоев населения, которые чувствовали себя ущемленными в социальном отношении. С другой стороны, степень организованности и силы этих слоев была столь высока, что блокировала любую попытку разрешения кризиса в рамках демократии без учета их интересов. В 1976–1982 годах военные попытались решить эту проблему радикально — путем разрушения популистской модели взаимодействия государства и общества. Они отказались не только от интегрирующих, но и всех этатистских элементов прежней стратегии социальных отношений. Они полностью ликвидировали институты политической демократии, распустили парламент, запретили политические партии, отменили выборы. В экономике они пытались осуществлять, хотя и без всякого успеха, ортодоксальный, неолиберальный курс, направленный на открытие рынка, отказ от протекционизма и приватизацию государственного сектора. Сочетание всех этих элементов с неприкрытым вооруженным насилием в отношении наиболее активной части народа, физическим уничтожением оппозиционеров и просто несогласных сделало социальное и политическое «исключение» важнейшим средством в установлении нового равновесия между государством и обществом.
Вместе с тем, военные были преисполнены решимости превратить репрессивное государство в орудие радикальной перестройки общества сверху вниз, восстановления иерархических структур и моделей поведения, которые отвечали бы их представлениям о правильной организации общества. Это был невиданный до тех пор в истории Аргентины мессианский режим, который намеревался произвести необратимые изменения в экономике, институциональной системе, образовании, культуре, социальной и партийной структуре, семейном и индивидуальном поведении[15]. Аргентинское общество, ослабленное и деморализован ное зрелищем пропасти, в которую оно заглянуло в 1974–1976-м, ничего не смогло противопоставить армейскому рвению и частично отнеслось к нему с пониманием и поддержкой. Большинство аргентинцев встретило переворот с облегчением и даже радостью, считая, что только военные могут положить конец той вакханалии насилия, в которую втягивалась Аргентина. Однако военные превратили физическое насилие в основное орудие своей политики, доведя его до такого уровня и размаха, по сравнению с которым прошлое показалось детской игрой. Лекарство оказалось настолько страшнее болезни, что большинство аргентинцев сознательно или подсознательно предпочло ничего «не знать» о ночных похищениях, чудовищных пытках и бессудных казнях десятков тысяч сограждан.
«Не знать» было тем более легко, что государственный террор в Аргентине осуществлялся «экстраофициально». Вооруженные люди без формы и знаков отличия уводили человека, и он исчезал навсегда, не оставив никакого следа, ни документов, ни могилы. Для тех, кто поддержал восстановление порядка, «знать» означало столкнуться с моральной дилеммой — оправдать применяемые средства его наведения, что было по-человечески очень трудно, или же осудить, что было опасно. Гораздо удобнее было обвинить жертвы террора и согласиться с формулой: «значит, было за что» («por algo sera»). Чем меньше человек знал и чем более противоречивой была информация, тем легче ему было считать, что репрессиям подвергаются только боевики леворадикальных организаций, что пытки не выходят за рамки тех, что обычно применялись военными режимами в Аргентине к своим противникам. Все, что происходило, происходило «не с нами» («no con nosotros»), до тех пор, правда, когда это вдруг не обрушивалось на нас[16]. Эта «моральная анестезия» означала фактическое сообщничество большинства аргентинцев с диктатурой. За исключением немногих правозащитных организаций, объединявших родственников исчезнувших и политзаключенных, общество практически не сопротивлялось государственному террору. Наиболее активной в период диктатуры была правозащитная организация «Матери Майской площади». С 1978 года они собирались раз в неделю на площади перед президентским дворцом, требуя от властей сведений о своих исчезнувших детях. Сейчас эта организация называется «Бабушки Майской площади» и активно пытается выяснить судьбу сотен детей, родившихся в застенках и переданных для усыновления в семьи военных. Поэтому выяснение правды о прошлом и расчет с ним оказались в Аргентине длительным и мучительным процессом: помимо наказания виновных в «грязной войне», необходимо было осознание того неприятного факта, что общество также не состояло исключительно из невинных жертв государственного терроризма.
«Процесс национальной реорганизации», как официально именовался военный режим, обернулся полным провалом с точки зрения тех целей, которые он перед собой ставил. Военным не удалось создать открытую экономику и радикально перестроить отношения государства и общества, заменив популистские механизмы социальной интеграции экономическими, рыночными. Программа либерализации экономики провалилась не в последнюю очередь потому, что экономические интересы военной корпорации были встроены в ту систему государственного интервенционизма и патернализма, которую они стремились разрушить. Подорвав серьезнейшим образом основы популистской модели, военные ничего не смогли создать на ее месте. В одном отношении, однако, они своих целей достигли: они радикально трансформировали общество, государство и политику в Аргентине, положив очевидный конец старой эпохе, но не заложив никаких оснований для новой[17]. Экономический кризис и проигранная Великобритании война за Мальвинские (Фолклендские) острова, в ходе которой военные продемонстрировали, что они абсолютно несостоятельны профессионально и воевать умеют только с собственным народом, поставили точку не только на семилетнем кошмаре, пережитом Аргентиной в 1976–1983 годах, но и на дальнейшем вмешательстве военных в политику.
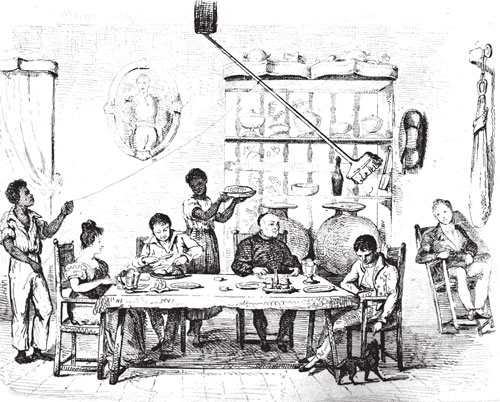
Разрушение популистской модели социальной интеграции в Аргентине было довершено в 1990-е годы, когда президентом страны стал лидер перонистской партии Карлос Менем. В том, что именно перонистам удалось демонтировать модель, созданную их историческим лидером, заключается не только злая ирония истории, но и та очевидная закономерность, согласно которой это могли сделать только «свои» — партия, по-прежнему пользовавшаяся поддержкой большинства трудящихся и низов общества. Придя к власти как классический популист и борец за интересы «исключенных», Менем буквально на следующий же день совершает разворот на 180╟ и начинает осуществлять самую радикальную в Латинской Америке программу стабилизации и либерализации экономики. Надо сказать, что аргентинское общество было готово к такому повороту. Старая система явно кончилась, ее агония затянулась на два десятилетия и оказалась кро вавой и унизительной. Целое поколение аргентинцев приучилось жить в условиях высокой и очень высокой инфляции. Латиноамериканские соседи начали не без злорадства воспринимать Аргентину как «больного человека континента». Аргентинцам нужно было доказать самим себе, что они состоятельны, жизнеспособны как страна.
Это стало психологической основой первоначального успеха экономической программы правительства Менема. Центральным звеном экономической стабилизации в Аргентине был так называемый «валютный совет» («currency board») — законодательно установленный паритет национальной валюты к доллару США[18]. Это означало фактический отказ Аргентины от проведения собственной валютной и в значительной мере финансовой политики, поскольку важнейший финансовый инструмент — регулирование учетной ставки — таким решением сознательно передавался Федеральной резервной системе США. Ни правительство, ни Центральный банк Аргентины не имели права изменить эту политику, это можно было сделать только законодательным решением аргентинского конгресса. Такая денежная политика в сочетании с последовательной либерализацией экономики (в Аргентине в начале 1990-х годов были снижены до минимума практически все таможенные тарифы, за исключением пошлин на автомобили) и приватизацией (также наиболее радикальной в Латинской Америке) была основой стабилизации и экономического роста в первой половине 1990-х годов. Решительно сократив роль государства в экономике, правительство Менема и его министра экономики Доминго Кавалло смогло оздоровить финансовую систему и восстановить фискальные рычаги государства: люди стали платить налоги.
Условием и результатом успеха этой экономической политики стало разрушение или ослабление тех форм социальной самоорганизации, гражданского общества, которые сложились в эпоху классического перонизма. Менему удалось расколоть профсоюзы и окончательно подорвать их политические и экономические позиции, чего не смогли сделать ни военный режим, ни правительство радикала Рауля Альфонсина в 1980-е годы. Та же судьба постигла ассоциации профессионалов среднего класса, которые, как правило, были связаны с государством, с его финансовой подпиткой и оказались мало приспособленными к условиям рынка. Иначе говоря, были ослаблены или исчезли совсем те формы социальной самоорганизации, которые заставляли политическую власть принимать в расчет интересы низов, трудящихся и «исключенных». В то же время Менем сохранил и активно использовал, в особенности во второй срок своего президентства (1995–1999), традиционные популистские рычаги инкорпорирования нижних слоев населения за счет увеличения государственных расходов, программ занятости и субсидий. Но это не было уже проектом интеграции общества, скорее — его адаптации к радикально изменившимся экономическим условиям существования. Менем внес существенные изменения в политическую систему Аргентины, резко сместив баланс властей в пользу исполнительных органов и подчинив своему контролю Верховный суд. В 1994 году была принята новая конституция, в которой снимался запрет на переизбрание президента на второй срок подряд. Все это резко ослабило институты представительной демократии и возможности контроля со стороны об щества за деятельностью правительства и, в частности, за процессом приватизации, который стал одним из самых коррумпированных на континенте. Таким образом, окончательно разрушив популистскую модель интеграции общества, Менем, тем не менее, сохранил и эффективно использовал те особенности государственной власти, которые отличали именно популистское государство: непрозрачность и неподконтрольность его институтов, их вертикальный, клиентелистский характер.
В первой половине 1990-х годов Аргентина была витринной страной ортодоксальной экономической либерализации, одной из самых шумных «success stories » в Латинской Америке, в особенности ценной потому, что это был первый успех демократического правительства на этом пути, в отличие от Чили, где успешная стабилизация и либерализация экономики была осуществлена военной диктатурой. Между тем экономические изъяны этой политики, то, что она разрушительна для внутреннего производства и крайне неблагоприятна для экспорта, были очевидны, лежали на поверхности уже в 1993–1995 годах, когда аргентинская экономика была на подъеме. С 1996 года начинается спад. После мексиканского (1995), восточно-азиатского (1997) и особенно российского (1998) кризисов бегство капиталов с аргентинского рынка приобрело необратимый характер. Социальной ценой экономической стабилизации стал невиданный до того времени в Аргентине уровень открытой безработицы, превысившей в 1995–1996 годах 17%. Она была результатом массовых увольнений государственных служащих, сокращения рабочей силы в процессе приватизации и закрытия неконкурентоспособных аргентинских предприятий, работавших на внутренний рынок. И это была лишь надводная часть айсберга, поскольку маргинальная часть аргентинцев, так называемая «Аргентина-II», включающая около 20% экономически активного населения и проживающая в поселках нищеты вокруг и внутри крупных городов, в качестве безработных нигде не регистрируется. Эти люди не только никогда сами не имели работы, но и никогда не видели, чтобы работали их родители.
Несмотря на все это, не только правительство Менема во второй срок его пребывания у власти, но и сменившее его в 1999 году правительство союза радикальной партии и левоцентристского «Фронта за справедливую страну» (FREPASO) президента Фернандо де ла Руа не ставили под сомнение принципы экономического курса и, главное, валютный паритет. Главная причина столь загадочной и совершенно иррациональной устойчивости очевидно губительной экономической политики заключались, на мой взгляд, в том, что она была выгодна экономически и психологически самой влиятельной в политическом отношении силе в Аргентине — средним слоям. Именно они стали владельцами банковских вкладов на скромные суммы в 30–50 тыс. долларов, в которых заключалась их надежда на более достойную старость, чем у их родителей. Система, построенная Менемом и Кавалло в 1990-е годы, давала средним слоям долю в не заработанных страной богатствах. Аргентинский экспорт не превышал в этот период 8–10% ВВП; после 1996 года паритет песо к доллару удерживался при помощи внешних заимствований[19]. Эта экономическая политика позволяла представителям среднего класса проводить отпуск в Европе, не обращая внимания на социальную цену такой экономической системы — на бедность и безработицу, до тех пор, пока это не коснулось их самих. Для того чтобы изменить эту систему, ввести плавающий курс, возродив тем самым призрак инфляции, нужна была колоссальная политическая воля, которой в тот момент не оказалось. Более того, память о десятилетиях высокой и очень высокой инфляции стала важнейшим психологическим фактором инерции этого курса даже тогда, когда он стал экономически контрпродуктивным.
Неминуемый крах этой системы (это был предсказанный кризис, «хроника заранее объявленной смерти») оказался оглушительным по своим социальным и политическим последствиям. Когда в декабре 2001 года правительство, тщетно пытавшееся остановить бегство капиталов из страны, объявило о замораживании банковских вкладов, аргентинский средний класс вышел на улицу, объединив свой протест с движением бедных и безработных, которое нарастало в стране уже с 1998–1999 годов. Массовый протест народа, столкновения с полицией, в ходе которых в Буэнос-Айресе погибло 19 человек, фактически опрокинули политическую систему страны: президент де ла Руа после неудачных попыток привлечь армию к подавлению беспорядков подал в отставку и вынужден был бежать из страны.

Совершенно неожиданно для самого себя аргентинское общество оказалось способным к сопротивлению, причем не только к спонтанному выбросу гнева, выразившемуся в погромах магазинов и банков, но и к организованному отстаиванию своих интересов. В условиях экономического и политического кризиса действовали три вида массовых гражданских организаций: «пикетчики» («piqueteros») — объединения бедных и безработных, которые организовывали марши протеста и перегораживали крупнейшие магистрали Буэнос-Айреса; комитеты вкладчиков, требовавшие возвращения банковских вкладов, и квартальные ассамблеи, которые возникли как низовые органы местного самоуправления, а иногда и самообороны в ситуации нараставшего хаоса и безвластия. В течение нескольких месяцев эти организации выводили на улицы тысячи людей, при этом представители разных групп общества и разных социальных слоев в кризисный период смогли действовать координированно и солидарно. По сути дела кризис стимулировал процессы усиления и диверсификации гражданского общества в Аргентине, что не замедлило сказаться на его психологическом состоянии. Вместо естественного в таких случаях спада, всеобщей деморализации и ощущения бессилия, люди вдруг почувствовали себя гражданами, поняли, что они не одни, что организованное сопротивление возможно, что они не «население», а общество. Конечно, это произошло не сразу и не везде: первоначальная реакция аргентинского среднего класса на обрушение экономики, на социальную катастрофу (в начале 2002 года 50% населения оказались за чертой бедности, безработица достигла 25%), на политический хаос была вполне нормальной — перед иностранными консульствами выстроились огромные очереди. Ощущение того, что страна (в который уже раз!) «коснулась дна» («toco el fondo»), первоначально было всеобщим, однако довольно быстро оно трансформировалось в близкое, но противоположное по тональности чувство, что худшее уже позади. Этому в решающей мере способствовала проявленная обществом способность к самоорганизации.
Это повлияло и на развитие политической ситуации. В конце 2001 — начале 2002 года меньше чем за месяц в Аргентине сменилось пять президентов. В этот момент казалось, что произошла полная и необратимая дискредитация всей политической системы, разрушение доверия общества ко всем политическим институтам включая президента, парламент и все политические партии. Главным лозунгом массового движения протеста стал «.Que se vayan todos!» («Пусть уходят все!»)[20]. Дальнейшее развитие событий показало, что политические сдвиги не были столь радикальными, поскольку устояла главная несущая конструкция аргентинской политической системы — перонистская партия и ее аппарат. В январе 2002 года лидер перонистов Эдуардо Дуальде становится временным президентом Аргентины и осуществляет ряд социально-экономических мер, позволивших смягчить последствия кризиса для средних слоев. Дуальде отменяет долларовый паритет и проводит девальвацию национальной денежной единицы, при этом осуществляется пересчет в песо как замороженных банковских вкладов, так и кредитов (частных долгов банкам), номинированных в долларах по коэффициенту 1,4, хотя реальное обесценение национальной валюты по отношению к доллару составило 200%. В итоге этой операции и последующей постепенной отмены замораживания вкладов те, чьи долги банкам превосходили вклады («неттодолжники»), выиграли абсолютно, поскольку их долги обесценились в реальном выражении. Те же, чьи вклады превосходили долги («нетто-кредиторы»), хотя и проиграли в номинальной стоимости своих сбережений, но колоссально выиграли в их покупательной способности, поскольку девальвация привела к очень значительному падению цен в Аргентине. Эти меры правительства Дуальде были приняты в результате ожесточенной политической борьбы, поскольку они совершенно очевидно нарушали интересы банков (в том числе иностранных) и других кредитных организаций в пользу частных вкладчиков. Такое решение стало прямым результатом давления протестного движения и, в частности, комитетов вкладчиков. Одновременно правительство Аргентины объявило дефолт по внешнему и внутреннему долгу, получив возможность перераспределить скудные государственные ресурсы на решение внутренних проблем[21].
Все это позволило стабилизировать политическую ситуацию и вернуть энергию социального движения и протеста в политическое русло. За полтора года, прошедшие от отставки де ла Руа в декабре 2001 года до избрания президентом Нестора Киршнера в апреле 2003 года, аргентинское общество прошло путь от всеобщего отчаяния и недоверия, выразившегося в лозунге «Пусть уходят все!», к переоценке значимости политической системы как канала представительства и значимого инструмента воздействия на процесс принятия решений. За этим стояли очень важные сдвиги в политической культуре Аргентины, подспудно происходившие в течение двадцатилетнего периода демократического развития и связанные с изменением типа взаимоотношений между гражданским и политическим обществом.
Популистский тип взаимоотношений основывался на том, что лидер получает на выборах право действовать как доверенное лицо народа. Эта модель предполагала в основном пассивных граждан: сам акт делегирования власти воплощал их веру в личные качества лидера и подчинение электората его политическим решениям. Речь идет о демократической системе, в которой доверие распространяется на личность лидера, а не на институты. Этот тип взаимоотношений доминировал в Аргентине в ХХ веке и сохранился после возвращения Аргентины к демократии. Его активно использовал Менем для разрушения экономической основы популистской модели. Однако рядом с этим, традиционным для Аргентины типом политической культуры в 1980–1990-е годы начал возникать иной, подразумевающий подотчетность избранных должностных лиц в течение всего периода их нахождения у власти. Эта подотчетность обеспечивается политическими институтами, через механизмы выборов и разделения властей, и институтами гражданского общества, действующими в публичной сфере, которые позволяют гражданам и ассоциациям ставить под вопрос решения государственных органов, если они носят противоправный характер. Как политические, так и гражданские институты необходимы для того, чтобы создать механизмы институционализации политического недоверия, которые должны снижать неизбежные риски, присущие самому акту делегирования власти. Доверие, таким образом, смещается с личных качеств тех, кто находится у власти, на систему безличных гарантий, которые защищают граждан от возможных нарушений со стороны властей[22].
Этот сдвиг в политической культуре начался с появлением правозащитного движения в Аргентине уже в период военной диктатуры 1976–1982 годов. Объединения родственников исчезнувших и политзаключенных по сути дела стали первыми в истории Аргентины ассоциациями современного гражданского общества, которые отстаивали фундаментальные права человека в противостоянии произволу авторитарной власти. Они стали первыми из возникшего затем множества неправительственных организаций, которые добивались большей прозрачности и подотчетности в действиях государственных органов. Это касалось всех болевых точек аргентинского общества — от полицейского произвола до экологических проблем и коррупции в органах власти. Наиболее вопиющие случаи, такие как убийства школьницы Марии Соледад Моралес в провинции Катамарка, рядового Омара Карраско в отдаленном гарнизоне провинции Неукен и, в особенности, фотографа Хосе Луиса Кабесаса, который занимался проблемами коррупции, породили мощные гражданские движения, требовавшие справедливого и независимого расследования, поскольку во всех этих случаях были замешаны или полиция, или близкие к власти фигуры. Ключевую роль в гражданской мобилизации играли независимые журналисты, которые сделали гласными бесконечные факты самых бессовестных махинаций в администрации Менема, а затем и де ла Руа. Главным содержанием гражданского движения 1990-х годов стало преодоление разрыва между демократией и верховенством закона, характерного для популистской политической традиции[23].

Поэтому кризис представительной системы в Аргентине в конце 2001-го — начале 2002 года не был изолированным или случайным эпизодом, исключительно результатом провала социально-экономической политики. Он отражал важнейший сдвиг в отношениях между гражданским и политическим обществом по поводу того, чем должна быть представительная демократия. Новые ассоциации гражданского общества, возникшие на волне кризиса, не только не обрушили институты политической демократии, как это было в 1973–1976 годах, но и в решающей мере способствовали усилению их представительного характера. Иначе говоря, демократия в Аргентине не просто устояла, но получила мощный импульс развития и трансформации, интегрировав энергию усилившегося в результате кризиса гражданского общества. В стране, где гораздо менее сложные ситуации в прошлом неизменно кончались выводом танков на улицы, это само по себе внушает оптимизм.
Сказанное вовсе не означает, что между гражданским и политическим обществом в Аргентине существует полная гармония или хотя бы взаимодополнительность. Во-первых, до сих пор не найдено решения главной проблемы — проблемы социальной и политической интеграции «исключенных», вокруг которой, собственно, и разворачивались самые драматические коллизии аргентинской истории ХХ века. Сейчас это проблема «пикетчиков», организаций бедных и безработных, число которых остается высоким, несмотря на начавшийся в 2003 году и продолжающийся до сих пор экономический подъем. Эти организации созданы для того, чтобы добиться от государства улучшения своего действительно отчаянного положения, они адресуют свои требования государству, подобно тому, как это делали перонистские профсоюзы в 1950–1970-е годы. Речь идет в первую очередь о пособиях в размере минимального дохода на семью, которые государство распределяет с 2002 года. Без этих пособий до трети населения Аргентины оказалось бы на грани голода. Вместе с тем эта практика неизбежно воспроизводит традиционные отношения патронажа и клиентелы, которые аппарат перонистской партии всегда использовал для привлечения сторонников и которые особенно укоренены на провинциальном уровне, где, собственно, пособия и распределяются. Небольшая часть «пикетчиков» пытается направить свою деятельность на создание мелких производственных ассоциаций, таких как хлебопекарня или коллективный огород, которые позволяли бы выживать их семьям. Уволенные рабочие некоторых обанкротившихся и остановленных предприятий создают кооперативы и возобновляют производство, что представляет собой чрезвычайно важный опыт не только коллективного действия, но демократического самоуправления[24]. Несмотря на то что государство фактически признало эти организации как партнеров в решении проблем бедности (и президент Нестор Киршнер, и Фелипе Сола, губернатор провинции Буэнос-Айрес, где проживает 40% населения страны, регулярно встречаются с руководителями «пикетчиков»), проблема сохраняется. Стратегия «пикетчиков» заключается в том, чтобы и более благополучная часть общества не могла абстрагироваться от их проблем, как это было в 1990-е годы[25].
Вторая проблема также касается сопряжения низовой самоорганизации и институтов представительной демократии. Ассоциации среднего класса, квартальные ассамблеи в первую очередь, возникли на волне кризиса как организации самоуправления, с ударением на прямую демократию и горизонтальные связи, противопоставленные обанкротившимся институтам представительной демократии. Возникла иллюзия, что таким образом можно решать не только проблемы данного квартала, но и шире — попытаться обойти те ловушки, которые свя заны с самим делегированием власти. Эта иллюзия быстро развеялась, поскольку вне ситуации кризиса (без соответствующего эмоционального подъема) подавляющее большинство граждан не может регулярно участвовать в процессе обсуждения и принятия решений даже на местном уровне, для принятия решений на более высоком уровне эти механизмы не приспособлены. Число ассамблей и в особенности число их членов быстро сократилось, хотя часть из них продолжают действовать как соседские ассоциации, ориентированные на проблемы своего квартала. Вопрос о том, как не растерять активистский потенциал этих ассоциаций и направить на демократическую трансформацию представительной системы, также остается открытым. Элиза Каррио, лидер левоцентристской коалиции, получившая 14% голосов на президентских выборах 2003 года, считает, что новая оппозиционная партия должна возникнуть на основе гражданских ассоциаций, соседских движений и ее собственной зарождающейся партии[26].
Последняя и, без сомнения, главная проблема взаимодействия гражданского общества и представительной демократии в Аргентине заключается в фантастической живучести перонизма. В 2002–2003 годах перонистская партия не только сохранилась, но, пережив политическую смерть своего исторического соперника — радикальной партии, смогла формально монополизировать политическую сцену в Аргентине. На перонистов работала мощнейшая сила исторической инерции, традиции, политической мифологии и в то же время всеохватывающий характер партии-движения, который позволял сосуществовать в ней течениям с прямо противоположными политическими и экономическими программами. На президентских выборах 2003 года конкурировало три перонистских кандидата, два из которых — бывший президент Менем и бывший губернатор южной провинции Санта-Крус Киршнер — были главными претендентами на победу. Киршнер, занявший в первом туре второе место с 22% голосов, выиграл за неявкой соперника во втором туре[27].
Важную роль в победе Киршнера сыграло то, что именно на нем остановил свой выбор Эдуардо Дуальде, временный президент, бывший губернатор провинции Буэнос-Айрес и подлинный руководитель и хозяин аппарата перонистской партии, олицетворение традиционной клиентелистской политики в Аргентине. Однако в центре политической программы Киршнера было восстановление эффективности публичных демократических институтов в Аргентине, что привлекло на его сторону симпатии и надежды тех, кто устал от повсеместной коррупции и закулисных сделок, на которых десятилетиями держался перонистский аппарат[28]. Придя к власти, Киршнер сделал один из самых смелых шагов в этом направлении, вновь подняв крайне болезненный и, казалось, уже окончательно закрытый Менемом вопрос об ответственности военных за преступления, совершенные против граждан в период военной диктатуры. В августе 2003 года сенат аргентинского конгресса объявил ничтожными законы об «окончательной точке» («punto final») и «необходимом подчинении» («obediencia debida»), факти чески освобождавшие от ответственности за массовое применение пыток, внесудебные казни и исчезновения людей[29]. В социально-экономической сфере Киршнер поставил своей целью уменьшение безработицы, бедности, социального исключения.
Провозгласив основой своей политики непартийные союзы («politica transversal »), Киршнер попытался найти союзников за пределами перонизма, чем противопоставил себя Дуальде. В 2005 году их отношения вылились в открытую борьбу за преобладание в перонистской партии и контроль над ее аппаратом. На промежуточных парламентских выборах в октябре 2005 года кандидаты, поддержанные Киршнером, одержали убедительную победу над сторонниками Дуальде[30]. По общему мнению, это позволило Киршнеру наконец освободиться от комплекса нелегитимного, неизбранного президента. Однако победа эта может оказаться пирровой для провозглашенного Киршнером проекта политического и институционального обновления. Сосредоточив свои усилия в борьбе за контроль над аппаратом перонистской партии, президент проявил себя не столько сторонником «новой политики», о необходимости которой он все время говорит, сколько блестящим мастером политики старого популистского образца — закулисного компромисса, патронажа, «покупки» сторонников и голосов в провинциях путем раздачи федеральных субсидий[31].
Кроме того, у Киршнера слишком много от традиционного перонистского политика: автократический стиль, замешанный на недоверии; жена, которая является главным проводником влияния и возможным кандидатом на президентский пост; правительство, которое включает значительнее число его личных друзей, выходцев из Патагонии, так называемых «пингвинов»[32]. Его предыстория, background авторитарного провинциального каудильо, в течение 12 лет державшего провинцию Санта-Крус под жестким личным контролем и не допускавшего никакой оппозиции со стороны законодательной или судебной власти, по меньшей мере, противоречит целям радикальной политической трансформации, в которой нуждается Аргентина. Кроме того, институциональная реформа в Аргентине должна сочетаться с другими аспектами правительственного курса и, прежде всего, с левоцентристской экономической политикой. Праволиберальная экономическая трансформация 1990-х годов осуществлялась при помощи традиционных популистских политических механизмов, что усугубило непубличный, непредставительный характер политической системы. Сегодня избиратели, которые поддерживают Киршнера в надежде на осуществление политической реформы, в значительной мере совпадают с теми, кто ждет от него в первую очередь снижения уровней неравенства и социального исключения. С одной стороны, это создает благоприятные условия для деятельности правительства, обеспечивая ему поддержку большинства общества. С другой стороны, существует очевидная опасность того, что левоцентристский проект может принять в Аргентине привычную популистскую форму, и тогда задачи институциональной трансформации вновь будут отодвинуты. В этом направлении воздействует прошлое — и Аргентины, и лично Киршнера. В этом же направлении действует и логика экономической целесообразности, которая заставляет решать насущные проблемы с помощью испытанных средств[33]. Не исключен, однако, и прямо противоположный вариант развития ситуации, того, что именно Киршнер, обладающий навыками традиционного популистского политика, сможет разрушить изнутри перонистский аппарат и, радикально перестроив его, оттеснив от привычных кормушек, создать новую левоцентристскую партию, которая не была бы обременена худшим наследием перонизма. Можно предположить, иначе говоря, что могильщиком популистской политической системы станет популистский лидер, так же как в свое время другой популистский лидер, Менем, покончил с популистской экономической системой.
Зависимость от траектории предшествующего развития (path dependency) в Аргентине оказалась в ХХ веке выше, чем в любой относительно развитой стране Латинской Америки. Аргентина до сих пор не решила центральной проблемы своего развития — создания современных оснований интеграции общества, взаимоусиливающего сочетания институтов низовой самоорганизации и представительной демократии. За последние 20 лет Аргентина, несомненно, сделала колоссальный шаг вперед в укреплении гражданского общества, той его части, которая связана со средними слоями. Нерешенной остается проблема включения «исключенных». Если их ассоциации удается встроить на равных в общую плюралистическую систему гражданского и политического представительства, в которой они чувствовали бы, что могут эффективно отстаивать свои интересы, общество обретает стабильность, сочетающуюся с расширением представительного характера политических институтов. Примерами такого развития в современной Латинской Америке являются Чили и Бразилия. Если же этого не удается, недемократические, патерналистские тенденции социальных «низов» смыкаются с авторитарными, автократическими течениям в политической системе, что приводит к разрушению институционального опосредования между гражданским и политическим обществом. Венесуэла и, по-видимому, Боливия являются выразительным примером того, как обрушение старой, непроницаемой для «исключенных» политической системы приводит к становлению — демократическим путем! — авторитарных режимов, которые сводят на нет, выхолащивают представительный характер институтов, их способность транслировать интересы общества (в том числе протест) в политическую сферу.
Современное развитие Латинской Америки показывает, что от проблемы самоорганизации и включения «исключенных» уйти нельзя. Нельзя назвать их ассоциации и движения негражданскими и на этом поставить точку. Потому что смысл гражданского общества заключается в создании механизмов интеграции, гражданского взаимодействия людей, проживающих в одной стране. Гражданское общество, за пределами которого остается значительная часть, а иногда и большинство населения, оказывается ущербным, не только неспособным воздействовать позитивно на демократическую систему, но и опасным для существования такой системы.
Думается, что все это имеет отношение и к настоящему, и к будущему России.
[1] «…В 1913 г. валовой продукт на душу населения в Аргентине был сопоставим со швейцарским, вдвое превышал итальянский и составлял половину от канадского. В 1978 г. ВВП на душу населения в Аргентине был в шесть раз меньше, чем вШвейцарии, в два раза меньше, чем в Италии, и в пять раз меньше, чем в Канаде. Особенно драматично сравнение с Японией: в годы Первой мировой войны душевой продукт в Аргентине в пять раз превышал японский, в конце 1950-х гг. Аргентина производила на душу населения в три раза больше, чем Япония, в то время как к началу 1980-х аргентинский душевой ВВП составлял только четверть от японского» (Carlos Nino, Un pais al margen de la ley. Estudio de la anomia como componente de un subdesarrollo argentino. Buenos Aires, Emece, 1992. Cit. en Antonio Camou, En busca de la gobernabilidad perdida. // Textos, Ano 1, N.1, 2002, p. 7).
[2] Ernesto Sabato. Tango. Difusion y clave. Buenos Aires, 1968.
[3] В 1912 году под давлением массового движения за всеобщее избирательное право была проведена политическая реформа, в результате которой право голоса получили все мужчины старше 18 лет. По стандартам того времени Аргентина стала самой демократической страной Латинской Америки.
[4] Guillermo O’Donnell. State and Alliances in Argentina, 1956–1976. In: Guillermo O’Donnell. Counterpoints. Selected Essays on Authoritarianism and Democratization. Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1999.
[5] Antonio Camou, op. cit., p. 5.
[6] Термин «исключение» («исключенные») характеризует те слои населения, на которые не распространяются доходы и выгоды от доминирующей на данном историческом отрезке модели социально-экономического развития и которые не имеют доступа к социальным и политическим механизмам воздействия на процесс принятия решений.
[7] Ворожейкина Т. Государство и общество в России и Латинской Америке // Общественные науки и современность. 2001. № 6. С. 8–9.
[8] Подробнее см.: Ворожейкина Т. Специфика гражданского общества в Аргентине // Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 6.
[9] От испанского слова «justicia» («справедливость»).
[10] Здесь очевидно не только влияние идей итальянского фашизма, но и католической концепции «органического государства», объединяющего различные общественные интересы и силы в создаваемые государством корпорации.
[11] Guillermo O’Donnell, оp. cit, p. 21.
[12] Marcelo Cavarozzi. Mexico’s Political Formula. // Maria Lorena Cook, Kevin. J. Middlebrook and Juan Molinar Horcasitas (eds.) The Politics of Economic Restructuring of State — Society Relations and Regime Change in Mexico. Center for U.S. — Mexican Studies, Univ. of California, San-Diego, 1994, p. 314.
[13] В Аргентине, как и в ряде других стран Латинской Америки, имела место инверсия классической западной модели становления гражданского общества. Его важнейшие современные элементы — профсоюзы, университеты, ассоциации лиц свободных профессий — «генетически» восходят к организациям, изначально созданным и длительное время поддерживавшимся — финансово и организационно — государством. Их автономия по отношению к государству вторична, производна, что позволяет (при определенных условиях) говорить об участии государства в формировании институтов гражданского общества (см.: Ворожейкина Т. Государство и общество в России и Латинской Америке).
[14] «Возникшее в ядре среднего класса, движение вооруженного сопротивления представляло собой очень серьезный вызов военным и политикам. <…> С течением времени это движение смогло создать подлинные массовые организации, члены которых в разной степени участвовали в вооруженном насилии. Уровень приятия партизанского движения среди молодежи среднего класса был очень высоким. Наиболее сильные партизанские группы были объединены в Революционную армию народа (ERP), троцкистского происхождения, и перонистское движение «Монтонерос», названное так в честь нерегулярных армий пастухов- гаучо, воевавших на севере страны против испанских войск во время войны за независимость» (John Lynch, Roberto Cortes et al. Historia de la Argentina. Barcelona, Critica, 2002, p. 273).
[15] В официально утвержденном учебнике для средней школы по моральной и гражданской подготовке говорилось, что «мужчина является главой семьи и носителем власти в домашнем очаге, его установлениям должны подчиняться жена и дети», поскольку «очевидно его превосходство в разуме и способности управлять, в то время как для женщины по природе характерны нежность и любовь» (Marcos Novarro, Vicente Palermo. La dictadura militar (1976–1983). Del golpe de Estado a la restauracion democratica. Buenos Aires, Paidos, 2003, p. 141–142).
[16] «В нашей семье было ощущение, что происходящее не имеет к нам никакого отношения, я не чувствовала, что это может затронуть меня непосредственно», — вспоминает мать одного из пропавших без вести. «Многое из того, что мне нравилось [в политике военного правительства], сегодня мне кажется ужасным. Но ужасным мне это кажется потому, что у меня исчезла сестра», — вспоминает другая женщина (Ibid., p. 133–134).
[17] Ibid., p. 19.
[18] В начале 1991 года аргентинский конгресс принял закон (Acta de convertibilidad), согласно которому курс песо приравнивался к курсу доллара, а Центральный банк обязывался регулировать количество денег в обращении в строгом соответствии с наличными валютными резервами. При увеличении валютных резервов Центробанка на определенную сумму он обязан был выпускать в обращение такое же количество песо, а при сокращении резервов — соответственно изымать их из обращения.
[19] Внешний долг Аргентины составил 155 млрд долл. в 2001 году.
[20] Одна из ведущих аргентинских газет «Ла Насьон» писала в феврале 2002 года, что в Аргентине окончательно умерла старая паразитическая, своекорыстная политика, которая разрушала страну в последние десятилетия. Ее смерть была связана с полной утратой легитимности аргентинским политическим классом и означала в то же время смерть представительной системы. Одновременно с ней умерло и безразличие граждан, которые закрывали глаза на извращения демократических институтов, на рост долгов и государственных расходов в обмен на относительное, но непосредственное благополучие. Не только старый политический класс использовал «старых» граждан в своих целях, но и граждане использовали политиков с тайной целью снять с себя всякую политическую ответственность за собственное будущее, а также ответственность за собственные провалы (Enrique Valente Noailles, «Un pais convertido en illusion», La Nacion, 19.02.2002).
[21] По своим социальным последствиям меры, принятые правительством Аргентины в 2002 году, оказались прямо противоположными тем, которые были приняты в России в 1998 году. Российское правительство с гораздо бoльшим уважением отнеслось к иностранным кредиторам, чем к собственным гражданам. В результате первые отделались минимальными потерями, в то время как абсолютное большинство российских частных вкладчиков потеряли свои сбережения. Российское правительство могло позволить себе роскошь не обращать внимания на собственных граждан, поскольку, в отличие от аргентинского, не столкнулось хоть с мало-мальски организованной защитой вкладчиками своих интересов.
[22] Enrique Peruzzotti. Reshaping Representation: Argentine Civil and political society in the 1990s. Paper prepared for the conference «Rethinking Dual Transitions: Argentine Politics in the 1990s in Comparative Perspective», March 20–22, 2003, Harvard University, p. 3–4.
[23] Ibid., p. 10–11.
[24] Cecile Raimbeau. En Argentine, occuper, resister, produire. // Le Monde diplomatique, septembre 2005, p. 10.
[25] В октябре 2003 года мне довелось лично наблюдать удивительно сдержанную реакцию водителей, стоявших в пробках на перегороженных пикетчиками автомагистралях, и на собственном опыте ощутить, что чувствуют люди, когда они не могут пройти в метро через заблокированные пикетчиками турникеты.
[26] «The Economist», June 5th 2004, The Long Road Back, a Survey of Argentina, p. 8.
[27] Те 24% голосов, которые К. Менем собрал в первом туре, были максимальным количеством, на которое он мог реально рассчитывать. Поняв это, К. Менем отказался от участия во втором туре и решил на прощание поставить под вопрос легитимность избрания Н. Киршнера, который в таком случае по конституции Аргентины автоматически становился ее президентом.
[28] В 2003 году за Н. Киршнера проголосовало меньше перонистов, чем за К. Менема, но одновременно его поддержало большинство левоцентристски настроенных избирателей за пределами перонистского спектра.
[29] В июле 2005 года эти законы были признаны Верховным судом Аргентины изначально противоречившими конституции.
[30] Главная дуэль «по доверенности» произошла между их женами, Кристиной Альварес де Киршнер и Ильдой Гонсалес де Дуальде, за место в сенате от провинции Буэнос-Айрес, «вотчины» семейства Дуальде. Альварес выиграла, и это стало главной символической победой Киршнера.
[31] «The Economist», October 22nd, 2005.
[32] «The Economist», June 5th 2004, The Long Road Back, a Survey of Argentina, p. 8.
[33] После трех лет быстрого экономического роста (на уровне 9% ВВП в год) в Аргентине вновь начала расти инфляция, превысившая в 2005 году 12%. Правительство ответило на это введением контроля за ценами в супермаркетах.