Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 2, 2005
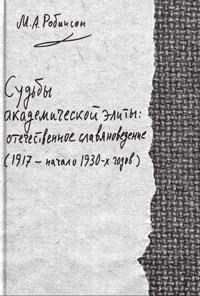 М. А. Робинсон. Судьбы академической элиты: Отечественное славяноведение (1917 — начало 1930-х годов). М.: Индрик, 2004. 430 с.
М. А. Робинсон. Судьбы академической элиты: Отечественное славяноведение (1917 — начало 1930-х годов). М.: Индрик, 2004. 430 с.
Книга М. А. Робинсона посвящена недостаточно изученному периоду истории отечественной науки — первым полутора десятилетиям после революции, когда все в стране коренным образом менялось и перестраивалось, в том числе научная жизнь. Об этом периоде, конечно, писали, но главным образом — о процессе становления новых научных учреждений и направлений. То, что происходило в это время со старой наукой и с учеными старых взглядов и привычек, по понятным причинам, отодвигалось в тень. Сейчас, напротив, именно эта сторона вопроса особенно привлекает многих историков и публицистов. В центре внимания автора рассматриваемой книги — судьбы старой русской славяноведческой элиты, главным образом академиков и членов-корреспондентов Императорской академии наук (Российской академии наук, Академии наук СССР).
Безусловно, славистика и важнейшая для русских ученых ее составная часть, русистика, занимали видное место и в дореволюционной науке вообще и в Императорской академии наук в частности. М. А. Робинсон справедливо отмечает, что «славянская филология как до революции, так и в 1920-е годы являлась основой славяноведения, ее представители и по научному уровню, и по своей численности превосходили остальных славяноведов» (с. 10; здесь и далее в ссылках на книгу М. А. Робинсона указываются лишь номера страниц). Ученые старой школы придерживались убеждения, что филологический, текстологический подход к славянской истории обязателен для любого серьезного исследователя, а изучение современности в отрыве от прошлого полностью лишено научной основы.
Привилегированное положение славистики в Императорской академии наук усиливалось двумя факторами. Славистика, при всей ее тогдашней нацеленности на прошлое, была актуальна в политическом отношении: и власть, и представители некоторых направлений общественной мысли, прежде всего славянофилы, пытались использовать ее для обоснования идеи славянского единства, возглавляемого Россией. К тому же в 1841 году после включения Российской академии в состав Академии наук русская и славянская филология стали предметом исследований целого отделения — Второго. К началу революции в Академии было всего три отделения (в Первом занимались естественными науками, а в Третьем — гуманитарными за исключением славяноведения).
Положение резко изменилось после революции, и этот процесс изменения составляет предмет книги М. А. Робинсона. Ее сильная сторона — детальный анализ архивных источников. Автор досконально изучил 37 фондов российских архивных хранилищ (их список приведен на с. 414–415). Им введены в научный оборот материалы, хранящиеся в научных (в основном академических) организациях и в личных фондах ученых. Среди публикуемых документов большую часть составляет переписка ученых. По этим письмам можно составить представление о научных взглядах и замыслах их авторов, но в основном они посвящены личной жизни, быту, окружающим людям, т. е. воссоздают обстановку, в которой пришлось жить и работать отечественным филологам.
В целом картина предстает невеселая. Преобладающий тон переписки — пессимистический. Хотя, как сейчас принято, в книге делается упор на «шок после революции Октябрьской» (с. 375) — в противоположность Февральской революции, которую слависты в большинстве своем приветствовали, цитаты из писем, приводимые на с. 20–22, показывают ухудшение настроения ученых уже с апреля-мая 1917-го. «Руки опускаются», «перспективы грозные», «Россия пропала» — все это написано еще до Октября. Но, разумеется, дальнейшие события лишь усугубили это мрачное расположение духа.
М. А. Робинсон подчеркивает, что эмигрантов среди видных славистов оказалось сравнительно мало, «основные силы русского славяноведения остались на родине» (с. 378). Пожалуй, особенно тяжело переносили разруху, голод и материальные трудности академики и профессора. Людям, завоевавшим высокое положение в науке, привыкшим к обеспеченной жизни, пришлось трудно: быт отвлекал их от любимого дела. За редким исключением они не принимали революционные идеи и не могли разделить энтузиазм молодежи, которая в обстановке эмоционального подъема забывала о «повседневной» стороне жизни. Кроме того, эти люди привыкли ощущать значимость и престижность своего дела. Но теперь они «превратились в новой для них политической обстановке в элементы чуждые и потому подозрительные. С точки зрения новой власти, они в лучшем случае занимались делом, для общества бесполезным, а в худшем — вредным и даже опасным» (с. 375). Это, разумеется, относилось не ко всем ученым. Многие естественники, например, с начала 20-х годов почувствовали, что нужны новой власти. Но этой власти не было в то время никакого дела до славянских древностей.
К этим обстоятельствам, общим для многих представителей прежде привилегированных слоев общества, добавлялись, если говорить о славистах, и другие. Тесная связь старой славистики с царской политикой не могла быть забыта; «в обращении ученых к проблемам славистики властям виделся призрак “реакционного славянофильства” и, хуже того, “панславизма”» (с. 9). Более того, после окончания Гражданской войны и образования «санитарного кордона» вдоль западных границ СССР славистика могла казаться «возможным обоснованием единения новых славянских государств, занявших антисоветскую позицию» (с. 378). Сказывалось и то, что большинство славистов и до революции были людьми правых взглядов.
Тяжесть положения языковедов усугубилась во второй половине 20-х годов, когда началось наступление «нового учения о языке» академика Н. Я. Марра. В книге (с. 145–178) подробно показано, насколько бескомпромиссно ученые Второго отделения АН СССР выступали против этого учения (в отличие от большинства сотрудников двух других отделений, признававших Марра крупным ученым), которое, по их мнению, противоречило основным принципам науки о языке и вообще лишало их возможности нормально работать. Марр отрицал не только общее происхождение, но даже очевидное сходство славянских языков: «Русский оказался по пластам некоторых стадий более близким к грузинскому, чем русский к любому индоевропейскому, хотя бы славянскому»[1]. Оценки Марра и его учения в письмах славистов беспощадны. Особо надо отметить мнение языковеда А. И. Томсона, занимавшегося не только славянскими, но и армянским языком (о котором, в частности, писал Марр). Томсон облекает квалифицированные суждения о работах академика в язвительную насмешку. Даже ранние лингвистические работы Марра, которые до сих пор принято ставить выше поздних его сочинений, он оценивал пренебрежительно: по его словам, «большинство сопоставлений Марра» заставляют «только жалеть об исписанной бумаге» (с. 169–170). Томсон называл Марра «практиком-фантазером» (с. 153) «без научной подготовки и школы» (с. 175). Однако учение Мара было признано «марксизмом в языкознании», и Марр, человек крайне властный, беспощадно боровшийся с «индоевропеизмом», не давал спокойно работать ученым, придерживавшимся иных взглядов.
В книге описано, как он помешал публикации второго издания «Праславянской грамматики» Г. А. Ильинского, которая была уже частично набрана; в конце концов, после ареста автора, рукопись вообще пропала. В книге отражено, как менялись со временем настроения «неактуальных» ученых, т. е. немарксистов. Грустны письма первых послереволюционных лет с жалобами на холод и необходимость самим таскать дрова, с перечислениями умерших и тяжело больных коллег. Особенно тяжело было жить в Петрограде, но немногим легче и в Москве, и в провинции, куда люди уезжали, надеясь спастись от трудностей. Даже введение нэпа не сразу привело к нормализации быта, только в 1922 году впервые отмечается «отсутствие угрозы голода» (с. 113), и лишь «начиная с 1925 года тема материальных трудностей постепенно начинает уходить из переписки» (с. 121). Но не уменьшается поток жалоб на снижение престижности профессии: в 1925 году В. Н. Перетц писал А. И. Соболевскому: «А вот насчет сотрудников — у меня надежд нет, все молодые люди, сколько-нибудь квалифицированные, — в погоне за куском хлеба» (с. 44). С конца 20-х годов, когда власть стала уделять все более пристальное внимание идейному содержанию науки, тон писем сделался совсем минорным. Особенно тяжелое впечатление произвела, наряду с воцарением марризма, ликвидация в Академии Второго отделения (точнее, присоединение его к Третьему отделению) в 1927 году и избрание в АН первых академиков — коммунистов и марксистов в 1929 году.
Впрочем, как показано в книге, отношение ученых старой школы к новой власти, более или менее одинаково отрицательное вначале, впоследствии стало различаться. Одни, как например, Н. М. Каринский, приспосабливались. В начальной части книги цитируются его жалобы на трудности быта и «тупое равнодушие» (с. 41) властей во время Гражданской войны, но к концу 20-х годов он предстает уже в качестве человека, вполне причастного власти — как участник съезда лингвистовмарксистов. Это тип поведения, который Г. А. Ильинский называл «проституированием лингвистики» (с. 161). Другие оставались на прежних нравственных позициях, хотя и не помышляя об активной борьбе, но относясь к новой власти как к враждебной силе; судя по письмам, наиболее последовательно этой линии придерживались в 20-е и в 30-е годы Г. А. Ильинский и А. И. Томсон. Третьи претерпевали сложную эволюцию, искренне пересматривая свои взгляды. В книге впервые публикуется интересный человеческий документ — записка (1930 год) старейшего слависта, члена-корреспондента АН СССР К. Я. Грота (1853–1934) «Мой взгляд на переживаемую эпоху» (с. 389–397). В этой записке старый ученый кратко высказал «свое отношение к происшедшему великому перевороту в нашей истории, к пролетарской диктатуре, новому политическому и социальному строю» (с. 389). Во многом Грот сохранил свои славянофильские взгляды, которых придерживался до революции. Так, он пишет: «Для всякого сознательного человека ясно, никакого возврата к прежнему, к старому не может быть, и притом мечтать об этом не только непатриотически, но и предательски для своей родины, — обращая взоры на запад» (с. 391). Одобрив новый строй и во многом разделяя его идеологию, Грот не мог согласиться лишь с одним: с государственным атеизмом. Он остался христианином и старался найти общие черты в социализме и христианстве.
Наиболее зловещим эпизодом во взаимоотношениях между славистами старой школы и властью оказалось так называемое «дело славистов» (1933–1934 годы), по которому ряд ученых был репрессирован[2]. Некоторые из пострадавших по этому делу погибли (Н. Н. Дурново, Г. А. Ильинский и др.). Другие, однако, не только смогли вернуться к работе уже к концу 30-х годов, но и достигли еще при Сталине высокого положения в науке (особенно В. В. Виноградов). М. А. Робинсон верно подчеркивает изменение отношения власти к славистике с конца 30-х годов, указывая на возникновение «совершенно новой политической конъюнктуры, при которой все “славянское” уже не отвергалось» (с. 184), что было связано с «тогдашней международной ситуацией, надвигающимся столкновением СССР и Германии, с тем, что на арену общественной и политической жизни вновь выходит идея славянской взаимности» (с. 385). Еще более отчетливо это проявилось во время войны и после нее, когда стал формироваться так называемый социалистический лагерь. М. А. Робинсон справедливо отмечает, что после смерти Мара в 1934 году началось «постепенное ослабление марризма, уже не подкрепленного во властных и академических структурах огромным личным влиянием его создателя» (с. 385). К сказанному можно добавить и следующее: Сталин к этому времени, отказав в доверии старым коммунистам, во многих областях, особенно в науке, делал ставку на патриотически настроенную старую русскую интеллигенцию (что особенно очевидно сказалось позднее — на ходе дискуссии по языкознанию в 1950 году). Но из героев книги М. А. Робинсона к этому времени мало кто оставался в живых.
Тем не менее материалы, приведенные в книге, ярко свидетельствуют о трагизме положения славистов старой школы, людей, многие из которых еще не вошли в преклонный возраст, но в определенном смысле пережили свое время. Многие не могли и не хотели приспосабливаться ни к новой общественной, но и к новой научной ситуации.
И дело здесь было не только в Марре. В своих оценках его учения слависты старшего поколения были в целом правы, хотя зачастую впадали в крайность, распространяя свои чувства на все, что связывалось с именем академика и его школой. Так, В. Н. Перетц резко отзывался о возглавлявшемся Марром Яфетическом институте, «высасывающем много казенных денег», и не признавал за ученого И. А. Орбели, ученика Марра (с. 147). Он же называл в письмах другое учреждение, основанное и возглавленное Марром, — Государственную академию истории материальной культуры (ГАИМК) — «академией матерной культуры» (с. 148). Между тем в обоих учреждениях работали многие видные ученые тех лет, внешне лояльные к Марру, но по сути вовсе не следовавшие его идеям. ГАИМК была прежде всего главным археологическим центром страны, а Марр, каким бы ложным ни было его учение, благодаря своему автори тету и выдающемуся организаторскому таланту все же сумел спасти русскую археологию от гибели. Что же касается будущего академика И. А. Орбели, то он к тому времени давно уже стал независим от учителя. А вот слова Г. А. Ильинского: «один из здешних марровских “молодцов” “кавказовед” Н. Ф. Яковлев… напечатал в газете “За коммунистическое просвещение” возмутительную статью, призывая сторонников марксизма и яфетизма сплотиться против индоевропеистов и начать персональную атаку на них как на “подкулачников” (!!!)» (с. 366). Автор книги больше нигде не упоминает это имя. И напрасно, ведь Яковлев, действительно в той статье сделавший непристойный выпад против Ильинского, был одним из крупнейших лингвистов своего времени. Наряду с Н. С. Трубецким и Р. О. Якобсоном он является создателем структурной фонологии, а кавказоведом был отнюдь не в кавычках: в те годы это был самый крупный исследователь кавказских языков в стране. И хотя иногда он делал уступки марризму, его вклад в науку неоспорим.
Приведем еще одно высказывание, на этот раз Б. М. Ляпунова: «В Петрограде назначают на кафедру языковедения малоизвестного Якубинского и увольняют старых заслуженных профессоров» (с. 49). И эта фамилия также нигде в книге больше не упомянута. Между тем Якубинский — ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ, видный теоретик языка и русист, автор опередившего свое время исследования структуры диалога. Сейчас он — один из немногих наших лингвистов той эпохи, активно изучаемых и переводимых за рубежом.
Да и у самого Марра есть немало подлинных достижений в науке. Каким бы «практиком-фантазером» он ни был, им создана, например, грамматика лазского языка (1910 год), которую высоко оценили и постоянный оппонент Марра Е. Д. Поливанов, и современный германский исследователь данного языка В. Ферштайн.
Но вернемся к разговору о моральном и социальном положении ученых-славистов старшей школы в рассматриваемую эпоху. В их резких оценках отразились глубинные сдвиги, происходившие в науке. Двадцатые годы оказались временем, когда совпали два лишь отчасти взаимосвязанных процесса: социальные изменения в СССР и смена научной парадигмы во многих дисциплинах. От прежней, чисто исторической и позитивистской парадигмы, основанной на индуктивном анализе отдельных фактов, наука о языке и литературе переходила к новой парадигме, для которой характерны дедуктивный метод и синхронический подход. В литературоведении сформировались социологический и формальный методы, а в лингвистике — структурализм. Все это обусловило и процесс дифференциации прежде комплексных наук. Из нерасчлененной филологии окончательно выделились лингвистика и литературоведение (история стала выделяться раньше, но в некоторых областях, включая славистику, ее вычленение из филологии еще продолжалось). Непосредственная работа лингвиста или историка над рукописными текстами перестала быть главным и даже обязательным элементом научной деятельности.
Герои книги Робинсона в большинстве своем были консерваторами и в политике, и в науке, хотя, конечно, позиции в двух этих областях совпадали не у всех. Г. А. Ильинский и Н. Н. Дурново, оба — люди трагической судьбы, примерно одинаково оценивали ситуацию в стране, но их научные взгляды сильно расходились: первому новая парадигма осталась абсолютно чужда, второй благодаря общению с Н. С. Трубецким и Р. О. Якобсоном во многом сумел ее освоить.
Некоторые впервые публикуемые письма показывают неприятие рядом ученых не только марризма и марксистской науки, но и всей новой парадигмы. Поэтому эти ученые не причисляли к научному цеху Н. Ф. Яковлева и Л. П. Якубинского. Еще один крупнейший лингвист-новатор тех лет Е. Д. Поливанов («некий Поливанов», по выражению А. И. Томсона) воспринимался ими лишь как оппонент Марра. Г. А. Ильинский отвергал как слишком нетрадиционные даже идеи основателя Московской школы Ф. Ф. Фортунатова и идеи А. А. Шахматова: «мне глубоко антипатично их ультрафонетическое направление» (с. 157), — писал он Б. М. Ляпунову. А ученик Фортунатова А. И. Томсон, по-человечески верный памяти учителя, отрицательно отнесся к дальнейшему развитию его школы (из которой к тому времени вышли Н. С. Трубецкой, Н. Ф. Яковлев, Р. О. Якобсон и др.), усматривая в новом поколении языковедов, включая Трубецкого, «легковесность», «слабосилие», «игру — рассуждения без истории, классификации», а главное, отсутствие «изучения реальных фактов» (с. 175). Нельзя, однако, не отметить, что уже в предреволюционные годы молодые ученые, такие как Ю. Н. Тынянов или Е. Д. Поливанов, при поддержке И. А. Бодуэна де Куртенэ и других левых профессоров, стремились строить новые теории, изучать современность и, в целом, уйти от принципов, которые А. И. Томсон или Г. А. Ильинский считали сутью своей науки. Последовавшая затем смена социальных приоритетов повлекла за собой ускорен ную смену научных приоритетов, однако новую парадигму в науке не надо отождествлять ни с установлением господства марризма, ни с внедрением марксизма.
В переписке отражено представление ученых старой школы о том, что марксизм и марризм органически связаны. В действительности это не совсем так. Хотя Марр в значительной мере был политическим конъюнктурщиком, все же его «новое учение» во многом не согласовывалось с теориями Маркса и Энгельса (что впоследствии нетрудно было показать Сталину)[3].
Как бы ни было абсурдно и фантастично «учение» Марра, оно было одной из попыток найти альтернативу старой научной парадигме. И многие ученые, пройдя через увлечение марризмом, смогли развиваться дальше. Но некоторые слависты старшего поколения не хотели знать ни о какой альтернативе: то, что они называли «рассуждениями без истории, классификации», было им столь же чуждо, как и теория борьбы классов. Они держались за старую систему ценностей и в науке, и за ее пределами. Но время нельзя было повернуть назад.
Автор книги уделяет большое внимание процессам, происходившим в Академии наук во второй половине 20-х годов. После революции Академия еще долго сохраняла свой прежний состав, структуру и тематику исследований. До 1929 года в ней не было ни одного члена партии. Лишь в конце 20-х годов началась «советизация», которая в основном была закончена к 1930–1931 годам.
По воспоминаниям жены академика С. Ф. Ольденбурга, академики первого советского десятилетия делились на три категории: «циников», «общественников» и «индивидуалистов». «Циники» ради возможности работать соглашались на все, что требовала власть. «Общественники» вели переговоры с властью, торговались, шли на компромиссы ради сохранения Академии. «Индивидуалисты» стремились к максимально возможному сохранению традиций и противились любому вмешательству власти в их жизнь. «Циники» встречались в основном среди естественников. «Общественниками» были формальные и неформальные лидеры Академии, ученые разных специальностей: С. Ф. Ольденбург, В. А. Стеклов, А. Е. Ферсман, В. И. Вернадский, С. Ф. Платонов и др. К «индивидуалистам» относилось все Второе отделение (Третье отделение было менее однородно). Робинсон приводит характерное высказывание В. Н. Перетца: «Мы ведь большие индивидуалисты!» (с. 350). По характеру деятельности ученые этого отделения были одиночками, не нуждавшимися в больших научных коллективах. Интересы своей научной школы и своей славистической корпорации для них были важнее интересов Академии наук в целом. Это даже в более спокойные периоды отличало их от «общественников» и приводило к взаимному непониманию.
Позиция одной из сторон, противящейся любым изменениям, подробно представлена у М. А. Робинсона. Для этих людей не было, пожалуй, более ненавистной фигуры во всей Академии, чем ее непременный секретарь академик-востоковед С. Ф. Ольденбург («Ольденград», как его называли между собой члены Второго отделения). Его позиция казалось им «большевистской», в книге собрано множество неприязненных высказываний славистов о нем (с. 55, 119, 123, 159, 272, 274, 326, 327, 329). А. И. Томсон даже приравнивал Ольденбурга к Марру в научном отношении. Вряд ли, однако, можно согласиться с М. А. Робинсоном, когда он говорит о нелюбви к Ольденбургу всех «академиковгуманитариев» (с. 119): в Третьем отделении, куда он сам входил, отношение к нему все же было не столь однородным.
Однако надо выслушать и другую сторону. В этом отношении многое дает дневник Е. Г. Ольденбург, второй жены академика, к сожалению, до сих пор полностью не опубликованный[4]. Вот один характерный эпизод, записанный в дневнике (1925): «А. Е. Ферсман передал ему [С. Ф. Ольденбургу. — В. А.] целую массу статей из Отделения русского языка и словесности, и С. [Сергей. — В. А.] должен решить, печатать их или нет. Статьи сплошь о старых русских духовных писателях, сплошь церковно-религиозного содержания. Много раз Сергей доказывал своим академикам с Истриным во главе, что, отдавая должную дань уважения старой русской духовно-религиозной литературе, теперь не время печатать только одно это, что иначе на академические издания прекратится отпуск кредитов. Его слова не дают желаемых результатов, наоборот, только восстанавливают против него всех — Перетца, Истрина и т. д. Сегодня С. сказал мне: “Ведь в старое время они, бывало, слушались приказаний царя, правительства и не печатали о декабристах”»[5].
Мы видим две несовместимые позиции, и каждая из сторон была по-своему права. Ольденбург мыслил категориями Академии наук в целом, он лучше своих оппонентов понимал, что такое «прекращение отпуска кредитов»: за неуступчивость славистов-филологов пострадают ученые других специальностей. Но многие ученые из Второго отделения всю жизнь занимались исключительно «старой русской (или славянской) духовнорелигиозной литературой» и не хотели, да и не могли по приказу нелюбимой ими власти менять специальность. Ольденбург, спасая целое (Академию), жертвовал частью (изучением славянских древностей), что, разумеется, вызывало обиды тех, чьи интересы задевались. По той же причине Ольденбург при ухудшении общей политической обстановки счел меньшим злом объединение двух гуманитарных отделений. Но слависты, привыкшие к особому положению, восприняли это с тяжелым чувством.
Приведенная цитата из дневника Е. Г. Ольденбург любопытна и в другом отношении. Как видим, С. Ф. Ольденбург усматривал сходство между ситуацией 20-х годов XIX века и современностью: тогда под запретом была тема декабристов, теперь власть запрещает «духовно-религиозную литературу». Будучи одним из руководителей Академии с 1904 года, Ольденбург считал себя обязанным вступать в диалог с любой властью ради интересов развития российской науки. В первые годы после революции он, как и многие другие академики, видел в происходящем «великое бедствие», но постепенно обстановка стала спокойнее, и он пришел к выводу, что с новой властью нужно сотрудничать так же, как и с дореволюционной, которая тоже, бывало, выдвигала политические требования. Но, как убеждаешься, читая книгу М. А. Робинсона, большинство оппонентов академика считали иначе. Они могли в чем-то не соглашаться с прежней властью, но это была для них «своя» власть, теперь же страной правили «большевики», с которыми они просто не хотели иметь ничего общего.
Большое место в книге отведено истории подготовки и проведения выборов в Академию 1929 года, когда ее состав был значительно расширен и в него впервые были избраны коммунисты и марксисты. Шла ожесточенная борьба с участием нескольких сторон: власти, впервые прямо вмешавшейся во внутриакадемические дела, академиков-«общественников» как сторонников компромисса и академиков-«индивидуалистов», выше всего ставивших научную свободу. М. А. Робинсон описывает эту борьбу почти исключительно на основе переписки ученых старой школы. Лишь вскользь, например, упоминается секретная инструкция Политбюро ЦК, где предлагалось поддерживать одних кандидатов, не пропускать других и занять нейтральную позицию по отношению к третьим. Хотя эта инструкция довольно давно опубликована[6], многое в ней до сих пор остается невыясненным, в том числе и в отношении славистики. Почему, например, при поддержке ЦК был избран академиком М. С. Грушевский?
Слависты старой школы встретили в штыки изменения в составе Академии. Соответствующий раздел книги назван словами Ильинского: Finis Akademiae! Однако на эту ситуацию можно взглянуть и по-другому. Вот фамилии ученых, избранных тогда в академики при поддержке Политбюро: Н. И. Вавилов, Н. Д. Зелинский, Л. И. Мандельштам, В. А. Обручев, Д. Н. Прянишников, А. Е. Фаворский, С. А. Чаплыгин. Среди «нейтральных» для Политбюро — И. М. Виноградов, Н. Н. Лузин, М. А. Мензбир. Состав академиков пополнился не столько «большевиками», сколько естественниками и представителями технических наук. Да и среди гуманитариев были избраны некоторые выдающиеся востоковеды, такие как Б. Я. Владимирцов и В. М. Алексеев (последний — вопреки решению Политбюро: здесь С. Ф. Ольденбург, ценивший Алексеева, пошел на нарушение директивы). Безусловно, «новые» академики в целом лояльнее относились к власти, чем «старые», но среди них было много по-настоящему крупных ученых. Академия, сделавшись менее самостоятельной, осталась главным научным центром страны. Кстати, «красные» академики в большинстве своем вовсе не были такими уж послушными проводниками партийной линии. Достаточно вспомнить трагическую судьбу Н. И. Бухарина и Д. Б. Рязанова.
Книга М. А. Робинсона основана на архивных источниках и весьма информативна. Автор вживается в изучаемую эпоху и старается тщательно передавать и анализировать факты, нередко обоснованно опровергает встречающиеся в литературе неточности. Мы можем только поблагодарить его за исправление некоторых погрешностей в наших публикациях (с. 162, 171).
В то же время кое с чем из написанного хотелось бы поспорить. Вполне оправданно сочувствуя своим героям с их нелегкой судь бой, автор часто смотрит на описываемые события их глазами, фактически присоединяется к их мнениям — даже в тех случаях, когда эти мнения, по понятным причинам, далеки от объективности. Многие оценки, содержащиеся в переписке, никак не комментируются, и это может неверно ориентировать несведущего читателя. Такие ученые, как И. А. Орбели, Н. Ф. Яковлев, Л. П. Якубинский, удостаиваются в письмах лишь негативных оценок, хотя их научные заслуги общепризнанны, однако автор книги нигде об этом не упоминает.
Нельзя сказать, что М. А. Робинсон сознательно выступает против новых подходов того времени. Он отдает должное и ученым нового склада (с. 179, 182) — но это относится, скорее, к литературоведению, чем к лингвистике. Признает он и возможность использования в науке идей марксизма, ссылаясь на пример А. И. Яцимирского (с. 53). Но когда речь заходит о языкознании, новые теоретические подходы описываются им с точки зрения ученых дореволюционной школы, которые в основном их отвергали. М. А. Робинсон, например, пишет: «Только приверженец традиционной славянской филологии мог пропустить в печать труд, отвергавший методологические приемы марризма» (с. 184). Но почему? Марризм отвергали и многие новаторы (сам М. А. Робинсон упоминает позицию Е. Д. Поливанова).
Правда, для действий Ольденбурга, в 1919 году три недели просидевшего под арестом, Робинсон — в отличие от противников академика — находит извинение: причиной его «сверхлояльного отношения к властям» могло стать «пребывание в тюрьме, сопряженное с проводами сокамерников на расстрел» (с. 32, 58). Мы не думаем, что здесь все можно сводить к страху. Почему М. А. Робинсон, признавая искренность К. Я. Грота, произведшего серьезную переоценку ценностей, по сути отказывает в этом С. Ф. Ольденбургу?
М. А. Робинсон косвенно противопоставляет двух выдающихся «общественников» Академии: С. Ф. Ольденбурга и А. А. Шахматова, о котором справедливо говорится много хорошего. В книге подробно рассказано об усилиях, предпринимавшихся Шахматовым, чтобы сохранить Академию. Ради этого он вступал в отношения с властью, шел на компромиссы, чтобы спасти людей, проявляя умение «гасить внутриакадемические конфликты» (с. 23–24, 135, 379 и др.). Но такова же была и позиция С. Ф. Ольденбурга, с которым Шахматов был близок и по политическим взглядам (оба были видными членами кадетской партии, тогда как большинство академиков-славистов стояли правее). Шахматов умер в 1920 году, и мы не вправе гадать, насколько бы он разошелся с Ольденбургом, проживи он дольше. Последнего некоторые коллеги считали предателем научной корпорации, однако с современной точки зрения их позиция выглядит слишком жесткой. Ольденбург сыграл большую роль в том, что отечественная академическая наука не только выжила, но и продолжала развиваться, но это никак не отмечено у М. А. Робинсона.
Академические выборы 1929 года М.А.Робинсон также описывает с позиции филологов старой школы. Так, вслед за В.Н.Перетцем он расценивает задачу увеличения числа академиков почти вдвое как стремление власти «полностью ликвидировать даже жалкие остатки самостоятельности» Академии (с. 351). Г. А. Ильинский, по его мнению, «очень точно охарактеризовал итоги выборов как конец Академии» (с. 357). Представляется, однако, что можно говорить лишь о временном прекращении славяноведческих исследований в Академии, но никак не о гибели самой Академии наук. Кстати, М. А. Робинсон и сам отмечает, что советская власть не раз помогала ученым (с. 79, 103, 109, 112 и др.). Упоминает он и о том, что даже в самый тяжелый период Гражданской войны руководство страны не согласилось с предложениями о ликвидации Академии наук (с. 313). Академия — прежде всего ее естественно-научная часть — была очень нужна власти; другое дело, что представления власти о полезности или вредности той или иной области науки могли сильно отличаться от мнений самих ученых.
Какие бы печальные результаты ни имело господство марризма, преувеличенными выглядят мнения М. А. Робинсона о том, что «новое учение» Марра превратилось в «методологический фундамент всей филологической науки» (с. 378) или что «”яфетидология” действительно стала превращаться в единственное направление в лингвистике» (с. 150). Во-первых, языкознание — не вся филология, во-вторых, и среди языковедов всегда были специалисты, независимые от марризма. Очень сильно пострадали от марризма компаративистика и история языка. Но в сфере современного языкознания полной победы «нового учения» не состоялось.
Книга, к сожалению, содержит ряд мелких неточностей и опечаток, в том числе в комментариях, порой слишком кратких. Вот пример: А. И. Томсон среди ненавистных ему вновь избранных академиков-марксистов называет Лузина (с. 358). В именном указателе отмечено, что Лузин математик, но этого явно недостаточно. Ведь Н. Н. Лузин — видный ученый, создатель крупнейшей научной школы, не бывший ни марксистом, ни членом партии. Но как раз в 1929 году его избра ли академиком, причем в секретной инструкции ЦК ВКП(б) он отнесен к числу кандидатов, в отношении которых предложено было занимать нейтральную позицию, так что Томсон был неправ, утверждая, будто его избрали «под давлением свыше». В именной указатель включен «Иоффе», без всяких уточнений, хотя очевидно, что на с. 349 речь идет о видном физике академике А. Ф. Иоффе. Также как неизвестное лицо проходит упомянутый в письме В. М. Истрина противник Академии «молодой Тимирязев» (с. 318), хотя это, несомненно, физик и философ-марксист А. К. Тимирязев (1880–1955), сын знаменитого биолога К. А. Тимирязева. Не корректируются и фактические ошибки в письмах ученых. Скажем, жена академика А. Е. Ферсмана О. А. Крауш не была членом партии, вопреки утверждению Д. К. Зеленина (с. 346). Неточны и слова Г. А. Ильинского о том, что в 1928 году общественные организации выдвигали в Академию «преимущественно коммунистов и марксистов» (с. 353). Так казалось Ильинскому, но среди специалистов по большинству естественных и технических дисциплин «коммунистов и марксистов» в те годы просто не было, и выдвигались сотрудничавшие с властью беспартийные «спецы». «Дело славистов» 1933–1934 годов излагается с учетом публикации архивных материалов по книге Ашнина и Алпатова[7], но не всегда точно. Например, В. Н. Кораблев не «погиб в лагерях» (с. 305), а умер в ссылке в Алма-Ате (в лагерях он вообще не был).
Подводя итог, можно сказать следующее. Безусловно, в силу ряда причин славянская филология (наряду с византиноведением и некоторыми другими гуманитарными дисциплинами) особенно сильно пострадала в описываемый сложный исторический период. Впоследствии положение отчасти улучшилось (что отмечено в книге), а «меры по уничтожению научных традиций не имели полного успеха» (с. 382). О многом мы узнаем из труда М. А. Робинсона впервые. И все же в рассказе о прошедшей исторической эпохе следовало бы учитывать мнения всех участников событий, автор же освещает в основном лишь позицию одной стороны. Впрочем, именно эта позиция в настоящее время изучена менее всего, и книга М. А. Робинсона содержит о ней ценную информацию.
[1] Марр Н. Я. Избранные работы. Т. 2. М.; Л.: Академия наук СССР, 1936.
[2] Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. «Дело славистов»: 30-е годы. М.: Наследие, 1994.
[3] О соотношении марксизма и марризма подробнее см.: Алпатов В. М. История одного мифа: Марр и марризм. Изд. 2-е. М.: УРСС, 2004. С. 68–74, 247–252.
[4] Выдержки из этого дневника см. в: Алпатов В. М., Сидоров М. А. Дирижер академического оркестра // Вестник РАН. 1997. Т. 67. № 2.
[5] Там же. С. 168.
[6] Малышева М. П., Познанский В. С. Партийное руководство Академии наук. Семь документов из бывшего архива Новосибирского обкома КПСС // Вестник РАН. 1994. Т. 64. № 11.
[7] Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. Указ. соч.