Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 2, 2005
8 июня 2005 года
Участники: Мария ЛИПМАН (член научного совета «Гражданское общество» Московского центра Карнеги, главный редактор журнала «Pro et Contra»), Ольга СЕВЕРСКАЯ (старший научный сотрудник Института русского языка им В. В. Виноградова РАН; ведущая программы «Говорим по-русски», радио «Эхо Москвы»), Екатерина МИЛЬ (главный редактор журнала «Молоток»), Тимур КИБИРОВ (поэт, литературный обозреватель радио «Культура»), Максим КОВАЛЬСКИЙ (главный редактор еженедельника «КоммерсантЪ-Власть»), Марк ГРИНБЕРГ (редактор журнала «Отечественные записки»).
Ведущий: Максим КРОНГАУЗ (доктор филологических наук, директор Института лингвистики РГГУ).
Максим КРОНГАУЗ: Добрый день. Вначале я хотел бы сказать несколько слов об идее этого круглого стола.
Целый номер «Отечественных записок» будет посвящен современному состоянию русского языка, тем изменениям, которые происходят на наших глазах, и нашему к ним отношению. Авторы этого номера — большей частью лингвисты, люди скрупулезные и скучные, они довольно подробно и рационально пишут в основном о точечных и локальных явлениях в языке. Но к изменениям в языке можно относиться и по-другому: более эмоционально и оценочно. И здесь, конечно, интересно мнение людей, чьей профессией является создание текстов. Писатели уже высказали свое отношение к происходящему, ответив на анкету «ОЗ», а на этом круглом столе мы надеемся узнать мнение журналистов. Мне же, лингвисту, отведена в данном случае роль модератора, т. е. человека, направляющего беседу, и, возможно, отчасти — провокатора. С небольшой провокации я и начну.
Итак, лингвисты, как, впрочем, и все остальные люди, часто обвиняют в наших бедах журналистов. В том числе и в порче языка. Журналисты не только проводят, транслируют эту порчу в массы, но и во многом являются ее создателями (если можно, конечно, говорить о «создателях порчи»). Я уверен, что журналистам есть что ответить на эти «обвинения».
Мария ЛИПМАН: Странно это слышать от вас, от лингвиста. Лингвисты — это ведь такие скучные люди, которые изучают и наблюдают, а вы говорите, они когото обвиняют. Мне кажется, что это две абсолютно противоположные позиции.
По-моему, обвинять кого-то — это скорее дело журналистов. Обвинять кого угодно: общество, писателей, молодежь, стариков, номенклатуру… Это та продукция журналистов, которая всегда имеет спрос, все очень любят почитать о том, что раньше все было гораздо лучше, а теперь гораздо хуже, о том, как и что портят.
А ваша работа, которая мне не чужда, у меня образование лингвистическое, — фиксировать то, что происходит, и в самую последнюю очередь говорить, что мы, журналисты, что-то испортили. Ведь интересно, как меняется язык (чтобы не употреблять слово «портится»), почему меняется, каковы источники перемен и т. д.
Максим КРОНГАУЗ: Да, конечно. Но ведь и лингвисты могут просто по-человечески переживать за свой язык. Хотя они обвиняют и как простые люди, и как профессионалы, потому что происходит расшатывание нормы. Есть лингвисты, которые изучают изменения, описывают то, что происходит. Они нас, скорее, успокаивают, говорят, что язык развивается, что он со всем справится сам. Но есть лингвисты, которые задают норму: пишут словари и т. д., и заботятся о ее сохранении. А кто ее расшатывает? — Ну, писатели там… Да кто их читает? А вот журналистов — читают. И даже если норму расшатывают просто люди на улице, то журналисты как «усилители» и «проводники» проводят и усиливают это. Вот слово «гламур» — если бы оно не замелькало в газетах и журналах, то осталось бы жаргонным словечком молодежи. А так оно получает статус в литературном языке.
С чем вообще связано эмоциональное отношение к тому, что происходит в языке? Два слова об этом. В периоды очень быстрых изменений происходит разрыв между более и менее консервативно говорящими людьми, прежде всего — между поколениями. Сейчас «отцы» и «дети» говорят почти на разных языках. Но молодежь (поклон «Молотку»!) почти не замечает, думая, что «это и есть русский язык, и мы на нем говорим», а старшее поколение считает, что это порча, что слова «гламур», «дивный» и т. п. портят язык. Ощущение, что происходит порча языка, вызывает у него стресс. А журналисты, которые этот «испорченный» язык фиксируют и придают ему определенный статус, усиливают напряжение в обществе. Одно дело, когда на сленге говорят во дворе, где всегда говорили на сленге — сленг, жаргон, заимствования были всегда. Но сейчас на нем говорят по телевизору, по радио, и газеты так же пишут. Ужас для тех, кто это переживает, не в том, что есть сленг, а в том, что он везде и повсюду. Если раньше дети понимали, что с мамой и папой надо говорить не на сленге, то сейчас все смешано. Вот в чем дело.
И еще одна тема. В последние годы в журналистике появилось много индивидуальных и корпоративных стилей. Это замечательно. У писателей всегда был свой стиль, а у журналистов в советское время стилей особых почти не было… Сейчас появилось довольно много журналистов, которых мы узнаем по строчке, по абзацу. Это Колесников, Панюшкин, Максим Соколов и др. Некоторые издания выработали корпоративные стили — неудачное, по-моему, слово. Но когда я вижу некоторые тексты, я знаю, что их писал журналист издательского дома «КоммерсантЪ». Так же легко опознаются «Афиша», «Гламур». Появились очень интересные стили. К ним можно относиться по-разному. Что бы вы сказали об этом?
Тимур КИБИРОВ: На мой взгляд, неявный смысл ваших слов — что журналисты ни в чем не виноваты, более того, что все эти охи и истерические крики о порче языка свидетельствуют только (я заостряю) о жестоковыйной консервативности кричащих. Мне кажется, это не совсем так, что нынешняя журналистика не столько воспроизводит язык, сколько — очень во многом — его порождает, т. е. является примером, и боюсь, не всегда положительным.
Понятно, что общеинтеллигентская установка — либеральная: мол, так сейчас говорят наши дети, сленг был всегда, и изменения в языке происходят всегда. Но, как справедливо было замечено, сейчас речь идет об изменении статуса сленга. И поскольку язык — живое существо (позволю себе такую метафору), то его изменения бывают благие и худые. Если язык усложняется за счет заимствований — как в Петровскую эпоху, во времена карамзинской языковой революции, — то это хорошо. А когда заимствования вытесняют то, что уже было, и сокращают протяженность синонимических рядов, то это худо. На мой взгляд, сейчас происходит именно это. И журналисты, что называется, являются орудием этих тенденций. Соблазнам должно прийти в мир, но горе тем, через кого они приходят.
Ольга СЕВЕРСКАЯ: Я работаю на «Эхе Москвы» среди журналистов и сама продуцирую эфирную речь. Но я работаю еще и в Институте русского языка, поэтому полностью выключить критический взгляд не могу.
Я согласна с Машей и с Тимуром: журналисты обогащают язык. Например, слово «эпицентр». Журналисты обогатили русский язык новым значением этого слова. Оно уже зафиксировано в толковом словаре Крысина. Народ гораздо более консервативен: он кричит, что эпицентр есть только у ядерного взрыва.

Что касается дурного примера… мне кажется, что печатные издания виноваты меньше. Они виноваты лишь в тиражировании ошибок правописания. Электронные СМИ, т. е. радио, телевидение и Интернет, больше виноваты в порче языка — просто из-за совершенно жуткого темпа работы. Наши «Новости» делаются так, что вести их может только человек особого психофизического склада. Ты сам формулируешь новости, а дальше их печатает машинистка — и вот с этим раз в 15 минут в студию. Попробуйте! Человек иногда просто не успевает посмотреть в словарь. У нас, если замечают ошибки, потом поправляют: говорят, как правильно. Бывает, исследование проводим, чтобы решить, как правильно говорить. Но ошибки случаются.
И вот что на телевидении произошло буквально у меня на глазах. Лет пять назад кто-то из ведущих НТВ сказал: «Какие меры будут предприняты…» И — все! Теперь никто мер не принимает. У меня два любимых примера — «предпринятие мер» и «презентование»: «он презентовал свое новое издание, свой альбом…» Если вы запустите эти два слова по поиску в Яндексе, то можете получить сообщение ИТАР ТАСС: «Правительство Российской Федерации предпринимет — клянусь! — в связи с этим меры». Можете проверить. Или другой пример: «Губернатор презентовал вверенную ему область делегации ЕС».
Не может быть и «главного фаворита» или «самого главного фаворита» соревнования, или «сервисного обслуживания», ставшего штампом, который никто уже не воспринимает как ошибку, или «перспектив на будущее». Все эти ошибки растиражированы телевидением. Так что какая-то вина есть. Мы всегда призываем коллег быть аккуратнее.
Тимур КИБИРОВ: Я слышал даже — «творческая креативность».
Ольга СЕВЕРСКАЯ: Как лингвисту мне понятно, что происходит. Слово модное, красивое, так все говорят, а что значит — точно не помню. На всякий случай тут же перевожу. Получается дублирование смысла.
Екатерина МИЛЬ: А я читала рецензию, где было написано: «Единственное, чего не хватает в этой композиции, так это заключительной финальной коды».
Ольга СЕВЕРСКАЯ: Но какое усиление смысла!
Мария ЛИПМАН: Я бы хотела сказать о порче. Насколько я понимаю, говоря о том, что происходит теперь, мы вроде соглашаемся, что раньше было гораздо лучше. А тогда — сколько мы копий сломали, доказывая, как портят язык те, кто, совершенно правильно, руководствуясь словарем для работников радио и телевидения, а также всеми другими директивами и указаниями касательно идеологии, содержания и проч., с экранов и со страниц газет нам что-то такое рассказывали… Да, были раньше какие-то Аркадии Ваксберги и Анатолии Рубиновы, которые писали в своем стиле, но в основном господствовал канцелярит, так что была совершенно противоположная проблема: все — под одну гребенку. Где единая идеология, там и единый стиль. Стилевые расхождения с режимом были почти так же предосудительны, как и идеологические.
И еще: мы рассматриваем ситуацию исторически, в диахронном плане, а можно же и синхронно — сравнить ее с тем, что в других странах. Что, если там гораздо больше людей, которые сетуют, как попортили, скажем, их французский язык. Вот есть такой профессор Этьембль во Франции, он выступает против английского языка. Книге его «Parlez-vous franglais?» («Говорите ли вы по-франглийски?») лет тридцать, наверное. А он, если жив, наверняка все еще борется. Так что еще вопрос, действительно ли то, что у нас сейчас происходит, совершенно ни на что не похоже и гораздо хуже, чем везде, и действительно ли мы от всех отличаемся тем, что даже язык свой, великий и могучий, попортили.
Наконец, о том, что журналисты — это орудие, или рупор, или еще что-то. Помимо журналистов есть еще те, о ком они пишут. Я даже не имею в виду то, что политики говорят плохо. Пишут же не только про политику — про что только не пишут бедные журналисты. Журналист получает пресс-релиз, т. е. документы, тексты, подготовленные социологами, маркетологами или кем-то еще, чья профессия связана с порождением текста. Теперь ведь даже и нет профессий, не связанных с порождением текста, — разве что физический труд. Так что порча языка, я думаю, связана с распространением вербальности на очень-очень широкие массы. Это можно назвать демократизацией. Раньше сидел один писец и за всех писал. А потом все стали грамотные и стали писать сами. И это, наверное, очень испортило язык.
Максим КОВАЛЬСКИЙ: А еще лучше иметь один только священный текст…
Мария ЛИПМАН: …и его все время переписывать и повторять. Я, конечно, гиперболизирую для заострения проблемы.
Американцы ужасно жалуются на язык социологов, маркетологов, опросчиков и говорят, что это не их язык, чужой, непонятный, не английский. А попробуй его на русский перевести! В нашей жизни появилось очень много того, чего у нас раньше не было: маркетологи, например, или гламурные журналы. А «там» было. И как это выразить на родном языке, переводить ли, калькировать ли? Любой способ кем-то может быть воспринят как порча.
Тимур КИБИРОВ: На мой взгляд, это два параллельно идущих, но совершенно разных процесса. Одно дело, когда есть явление, которое нужно как-то обозначить. Если в русском языке для него нет слова, не вижу причины, почему не заимствовать американизм. Мы говорили о гламуре. Не было у нас раньше этого явления — так почему не назвать его именно этим словом? Оно всем понятно, хотя может кого-то коробить. Но для описания этой культуры, этого комплекса явлений оно подходит. Другое дело, когда замещается то, что уже есть. Скажем, заголовок: «Кульные суперприколы». Не думаю, что он описывает только что появившееся явление. Обычная глупость, да еще и обозначенная каким-то нечеловеческим языком.
Когда я говорил о порче… Ну, пожалуй, вот… в выражении «мы такие зажигаем» слово «такие» — лингвистический джокер, который замещает все… Если бы заимствования из сленга или иноязычные заимствования дополняли синонимический ряд — очень хорошо. Вот у меня в языке: церковные славянизмы, галлицизмы, советский канцелярит, а теперь — мат и прочее. Но если синонимический ряд обрубается и замещается одним словом, то это катастрофа. Потому что когда редуцируется язык, редуцируется и мышление.
Екатерина МИЛЬ: Журналы пишут люди, редактируют люди и читают люди; телевидение делают люди и для людей. Все это человек может контролировать. Есть куда более серьезная проблема: информационные технологии. Сейчас Интернет — это средство общения подростков, они меньше читают и меньше смотрят телевизор. Они больше свободного времени проводят в Интернете, особенно в ICQ. Но Интернет — это полный бардак, в нем невозможно проследить за языком. А самое ужасное в Интернете — ICQ, там просто полнейший беспредел. Пишут все быстро, пропускают буквы, пропускают тире.
Я как-то беседовала с учительницей русского языка, милейшей женщиной. Она рассказала, что один ее ученик написал: «Этот человек испытывал аццкие боли». Она в ужасе говорила, что дети стали писать неграмотно из-за того, что информационные технологии больше влияют на подростков, чем телевидение, радио, журналы и газеты. И что с этим делать, совсем непонятно.
Ольга СЕВЕРСКАЯ: Более того, сейчас практически никто не ходит в библиотеку, все берут книги в сети. А там — абсолютно невыверенные тексты. Сканер делает ошибки, а редактор и корректор работают еще хуже, чем в печатных изданиях. И я совершенно согласна с Катей насчет «аськи». Я не хочу сказать, что Интернет — это зло. Это большая помощь в работе. Но это опасно.
Екатерина МИЛЬ: Это совершенно неконтролируемая и стихийно развивающаяся структура, на которую мы никак не можем повлиять. Тимур КИБИРОВ: Будем надеяться, что и журналистика останется не очень контролируемой.
Максим КОВАЛЬСКИЙ: Вы говорите — неконтролируемая. Раньше тоже многое было неконтролируемым: нельзя было повлиять, между прочим, на то, что шло сверху. Мне рассказывала мама, она всю жизнь в издательстве «Наука» проработала: то Чингис-хан пишется с дефисом, то — без. Без дефиса — чтобы убрать слово «хан»: он же плохой. То министерства и ведомства стран Варшавского договора или названия должностей (все эти генсеки и т. п.) — пишутся с большой буквы, а западные — с маленькой. Нами это тоже ведь не контролировалось. Или Ильич. Всех писали Ильичом через «о», по общему правилу, но было одно ис ключение: Владимиром Ильичем, потому что когда он жил, писали так, и это было канонизировано. Раньше мы думали, что «плохие» люди сидят наверху, а теперь они в Интернете. Нам все равно плохо.
Екатерина МИЛЬ: Это уже не люди, а какая-то другая субстанция. Я сейчас читаю книгу, которая называется «Медиа-вирус». Один американский ученый выдвигает интересную теорию: ошибочно мнение, будто масс-медиа сформированы людьми и делаются людьми для людей. Он считает, что масс-медиа — это некая саморазвивающаяся субстанция, которая живет по каким-то своим законам. Он приводит в пример сериалы, ток-шоу, газеты, журналы и т. д. Эта информационная структура не подчиняется людям, более того, когда люди пытаются на нее влиять, следует резкая негативная реакция. Поэтому как с ней быть — непонятно. Может быть, нужно поднимать уровень изучения языка в школах, нужно лучше готовить журналистов, обращать внимание на курсы телеведущих, радио и т. д. Но исправит ли это ситуацию? Язык «эсэмэсок», язык ICQ все равно будет существовать. Информационная структура уже сильнее нас.

Максим КРОНГАУЗ: Я «перепровоцировал» — высказал претензию к журналистам, а журналисты поддержали и тоже стали обвинять.
Неверно утверждать, что политики стали менее грамотными, чем были в советское время. Просто в советское время они читали по бумажке, а сейчас они вынуждены говорить. Неверно, что молодые люди стали менее грамотными. Просто такого вовлечения в письменную речь через ICQ или через Интернет никогда не было. Если бы дети в 70–80-е годы так же активно общались письменно, они бы и писали так же неграмотно. Дело не в том, что неграмотности стало больше. Неграмотность стала публичней и заметней. И это, вообще говоря, неплохо, потому что появляются политики, которые говорят гра мотно, вполне грамотные президенты, министры и т. д. Ситуация не такая уж печальная.
Мы все время мечемся между хаосом и свободой, с одной стороны (они нераздельны, это две стороны одной медали), и порядком и цензурой, с другой. Не надо так бояться ICQ.
Екатерина МИЛЬ: Конечно. ICQ формирует немного новый язык.
Максим КРОНГАУЗ: Дает возможность коммуницировать таким образом.
Екатерина МИЛЬ: Помимо всего прочего, возникают какие-то новые литературные нормы: дети сочинения пишут языком ICQ.
Максим КРОНГАУЗ: Проблема скорее в том, что уничтожены все границы. Действительно, дети в сочинениях пишут языком ICQ, перестав понимать, что язык ICQ и литературный — это разные подъязыки. В чем была мудрость советского человека? В том, что он умел переключать регистры. Он знал, что дома можно говорить так, во дворе эдак, а на партсобрании надо говорить вот так. Похоже, что сейчас мы потеряли способность переключать регистры, и все смешалось. Вот вы, журналисты, как вы влияете на это? Вы создаете что-то новое? Вопрос ко всем, кто пишет и кто говорит в эфире — это ваш творческий процесс, ведь свобода и хаос — это творчество (в отличие от порядка, где творчества не видно). Что вы создаете? Вот вы, Катя, «запускаете» в «Молотке» новые словечки? Я подозреваю, что молодежный сленг — во многом искусственная вещь, созданная дядями и тетями.
Екатерина МИЛЬ: Не совсем так. У нас очень много молодых авторов. Понятно, с ними надо очень много работать. Это очень толковые и симпатичные четырнадцати-, пятнадцати-, шестнадцатилетние ребята, которые пишут таким же языком, как и взрослые люди. Конечно, у них меньше опыта и они не так образно умеют выражаться, хотя иногда у них получается даже более образно, чем у взрослых. У них есть очень симпатичные слова, например, «схомячить», т. е. жадно съесть что-то, «заточки» — всякие там орешки, печенье, то, что можно «точить»… Или вот слово «высадилась». Мы с автором поговорили, и выяснилось, что он это слово — именно в значении «обалдеть» — прочел в каком-то из рассказов Хармса. Так что сказать, что мы насаждаем сленг, я не могу.
Максим КРОНГАУЗ: А всяких «челов» не вы подпускаете?
Екатерина МИЛЬ: Я не могу сказать, что мы подпускаем…
Тимур КИБИРОВ: «Подпускаете» в смысле легализуете: вы из одной сферы языка переносите их в другую, где раньше их не было. А сленг-то был всегда.
Екатерина МИЛЬ: Возможно, вы и правы. Но для того, чтобы какие-то наши благородные идеи проводить в жизнь, мы должны быть понятны читателям, говорить на их языке, чтобы информация до них дошла.
Тимур КИБИРОВ: Откуда эта идея? Я в четырнадцать лет благополучно читал Пушкина и Достоевского, которые не говорили на моем языке, и слушал «Голос Америки», который тоже не говорил на моем языке.
Екатерина МИЛЬ: Давайте не будем смешивать художественную литературу и познавательно-развлекательную журналистику. Это совершенно разные жанры. Молодежь читает Достоевского — по крайней мере, те, кто имеет склонность к чтению. Если мы перенесем сейчас язык художественной литературы в подростковую журналистику…
Тимур КИБИРОВ: …именно это вы хотели сделать, обратившись к Хармсу, перенеся слово из художественной литературы, где может быть все что угодно, в сферу массовых коммуникаций…
Екатерина МИЛЬ: Согласна, но мне кажется, это единичный пример, слово, которое украшает текст и придает ему образность…
Максим КРОНГАУЗ: Сленг вообще очень образен и построен на интересных метафорах: все эти догонять, тормозить — как сленг это очень красиво. Вопрос скорее в смешении сленга и литературного языка, которое вызывает неприятие у консерваторов не потому, что это некрасиво и нетворчески, а потому, что этого слишком много.
Тимур КИБИРОВ: Потому что сленг перестает быть сленгом.
Максим КРОНГАУЗ: Да, он получает другой статус.
Екатерина МИЛЬ: Но ведь есть огромное количество слов, которые когда-то считались сленгом, а сейчас общеупотребительны. Например, слово «ахинея» — оно пришло из жаргона семинаристов.
Тимур КИБИРОВ: Я жертвенно взял на себя роль жестоковыйного консерватора. Безусловно, эти процессы всегда были, без них язык давно «загнулся» бы. Но совершенно ясно, что сейчас они приобрели невиданные масштабы. А всякая живая система предполагает иерархию, структуру и те самые границы, разрушение которых известно к чему приводит.
Максим КРОНГАУЗ: Есть журнал «Молоток», ориентированный на молодых людей. Есть канал MTV. Если мы не предлагаем закрыть журнал «Молоток» и канал MTV, то возникает практический вопрос: каким языком должен говорить ведущий MTV со своей аудиторией? Вы, наверно, не смотрите MTV?
Тимур КИБИРОВ: Я несколько раз посмотрел, чтобы знать, что происходит в этом мире. Слава Богу, речь не идет о закрытии чего бы то ни было, во всяком случае мной. Если говорить честно, то я не уверен, что с этим можно что-то сделать. Мы можем только оценивать, хорошо это или плохо.
Мария ЛИПМАН: А хочется сделать?
Тимур КИБИРОВ: Честно говоря, хочется. Но никаких способов, кроме полицейских, нет.
Максим КРОНГАУЗ: Тогда мы создаем заповедник, где говорят на сленге. Оставляем сленгу некую территорию — канал MTV, журнал для молодежи. А на первой и второй кнопках — говорите, пожалуйста, на литературном языке. Разве это неправильная стратегия?
Тимур КИБИРОВ: Красивая схема — если бы только зрители MTV и читатели молодежной прессы различали бы, что где.
Ольга СЕВЕРСКАЯ: Здесь вопрос стиля. Есть, например, научный стиль. Никому в жизни не придет в голову писать научную статью, используя сленговые словечки. Точно так же, мне кажется, нельзя писать журналы для молодежи правильным литературным языком.
Я не смотрю канал MTV, но как-то случайно увидела передачу с Яной Чуриковой. А потом имела удовольствие встретиться с самой Яной. Она очень четко чувствует, где она может употребить сленг, а где — не может. И более того, она пишет диссертацию на кафедре русского языка на журфаке. Другая диссертантка, Ксения Туркова, теперь работает на нашем радио. Что делает эта Ксения? Ей плохо жить без сленга, так она для программы «Говорим по-русски» изобрела рубрику, которая так и называется: «Ксеня по фене». Эта же Ксения изобрела игру «Срочная новость»: сухим языком новостей она пересказывает историю, например, про Муму и Герасима. И слушатель должен отгадать, что за художественное произведение великой русской литературы имелось в виду. Отгадывают совершенно потрясающе! Но это к вопросу о том, что может, а чего не может быть. Поэтому я не уверена, что надо что-то делать с каналом MTV. Я бы сделала что-нибудь с политиками, намекнула бы нашему президенту, что не надо с трибуны говорить языком воровской сходки. А то у нас в жизни теперь такой стиль.
Но в большой художественной литературе может быть все. Я, занимаясь художественной литературой нового времени, вижу, что не только у нас, но и во Франции, в Америке очень любят всякое лыко тащить в художественную строку. Там и кусочки рекламных объявлений, весь этот мусор, весь сор, из которого растут и стихи и проза. И точно так же сейчас происходит размывание стилевых границ в журналистике. Статья превращается — не в заметку, потому что это не новость, не сухое сообщение событий, язык новостей совсем другой, — а в разговор с читателем. Это — разговорная речь. А разговорная речь гораздо менее регламентированна, чем письменная. С другой стороны, статья становится неким художественным произведением, эссе, в котором тоже может быть все, это вопрос языкового вкуса.
Как слушателя и зрителя меня раздражает, когда журналистский жаргон, всю эту кухню, вытаскивают в эфир. Но и здесь все дело в языковом вкусе. Нельзя это регламентировать сверху.
Тимур КИБИРОВ: Вопрос, можно ли что-то регламентировать сверху, мы вообще не поднимали. Думаю, что нельзя, ни в коем случае.
Мария ЛИПМАН: Я думаю, очень даже можно — в пределах одного издания. Это делается и у нас, и за границей.
Максим КРОНГАУЗ: А можно конкретнее?
Мария ЛИПМАН: На заре независимой журналистики (именно журналистики, а не публицистики, которая появилась в конце 80-х), когда начинались «Независимая газета», «КоммерсантЪ», в этих новых изданиях составлялся список слов, запрещенных и, наоборот, рекомендованных к употреблению. Понятно, что это был идеологический шаг, он знаменовал собой отказ от советского бюрократического языка. Помню, что рекомендовалось слово «правительство» заменять на «администрация»: понятно, что слово «администрация» — американское, это у них — администрация, а у нас — правительство.
Максим КРОНГАУЗ: В журнале «Афиша» как-то опубликовали в качестве «фишки» список из десяти слов, которые в «Афише» не используются. Надо сказать, что одно из этих слов я нашел в том же номере… Максим, а как вы к этому относитесь? Вы сказали, что вычеркиваете «гламурный», а что еще? И вообще — есть у вас в «Коммерсанте» запреты на слова?
Максим КОВАЛЬСКИЙ: Конечно, есть. Мне трудно сразу привести примеры. Запреты были еще тогда, когда «КоммерсантомЪ» руководил сам Яковлев, который его создал. Велась борьба с некоторыми словами, например, словосочетание «питерский чекист» было невозможно, потому что были запрещены оба эти слова. Запрещалось во вводке к материалу употреблять слово «похоже»: «Похоже, коммунисты склоняются к тому, что…» Похоже или непохоже — поди узнай.
Ограничения относились даже больше не к лексике, они диктовались иным пониманием того, что значит адекватное описание события. Мы стремились к объективности. Люди, которые пришли из советской журналистики, к этому не были готовы. «Я» должно было исчезнуть, вытравливалось все личное, всякая оценочность: скажем, когда я возглавлял редакторский отдел, слово «путч» у нас не употреблялось, несмотря на мою ненависть к коммунистам, — просто по формальным причинам, потому что «путч» — это окрашенное, оценочное слово. Писали: «События августа 1991 года» и т. д. Мы — а у нас там собралась компания лингвистов — к этому относились как к лингвистической задаче. В первой половине XX века неопозитивисты из Вены решали для физики задачу создания протокольного языка, чтобы объективировать действительность, убрать наблюдателя из описания событий. В какой-то мере такую же задачу решали мы. Тут исчезала не только какая-то лексика, но и некоторые конструкции. Велась борьба с советскими языковыми навыками. В тексте это невозможно, так что все ушло в «коммерсантовские» заголовки, они узнаваемы, их все знают: бесконечный обыгрыш всей этой совковой гадости, переваривание советского наследия. Этим занимается в своем творчестве и Тимур.
Максим КРОНГАУЗ: Мне кажется, что наиболее яркие и читаемые журналисты, в том числе и «Коммерсанта»…
Максим КОВАЛЬСКИЙ: …они вне этого. Конечно. Но первоначально, поскольку все люди вот так писали — «я» и оценочно, — была поставлена задача вытравить «я». И был один Максим Соколов со своей колонкой. Я знаю, что с Максимом очень много редакторы поработали, прежде чем у него выработался этот стиль.
Максим КРОНГАУЗ: Я с ним учился на одном курсе, он на первом курсе так говорил.
Максим КОВАЛЬСКИЙ: Дело в том, что очень трудно научить человека писать так, как говоришь. Это редкое умение, это техника, ей надо овладеть. Так вот, сначала оценочность была вытравлена. А потом появились люди, которым она позволялась. Так шло развитие. Появились «золотые перья», которых все люто ненавидели, и я первый, поскольку я из редакторов, привык душить, а их душить нельзя. Но если вы посмотрите основную массу наших текстов, то 80–90 процентов — это все-таки «заводская» продукция.
Мария ЛИПМАН: Я думаю, это неизбежный процесс. Когда я работала в «Итогах» и потом в «Еженедельном журнале», было совершенно то же самое: был список запрещенных слов, вывешенный на стенку, что-то я каждому говорила отдельно, но, в общем, принцип тот же самый. А иначе не будет настоящей прессы. Я хотела бы вернуться, Максим, к проблеме переключения регистров. Если молодой человек умеет писать, если он наделен этим даром, то он отлично владеет регистрами. Он может и заявление написать, и текст, и смешное письмо, и стилизовать, так же как наши взрослые.
Максим КРОНГАУЗ: Но раньше переключались все.
Мария ЛИПМАН: Раньше искусство переключения регистров было как-то лучше отточено. Но так же как хаос может быть переосмыслен как свобода, «переключение регистров» по-другому называется «двоемыслием». Тут мы нечто говорим, а там — не говорим ни в коем случае. Поэтому так ли хорошо переключать все регистры? Это приводит к лицемерию. И вся литература делается выхолощенной.
Тимур КИБИРОВ: На самом деле советская власть все спутывает. Когда мы говорим о переключении регистров, то сразу — ах, советская власть, лицемерие, двоемыслие. Вообще-то любой культурный человек в разных ситуациях пользуется разными речевыми стилями.
Мария ЛИПМАН: Так я и говорю, что это можно назвать по-разному!
Тимур КИБИРОВ: Но вполне можно допустить, что кто-то обладает способностью воспроизводить только один речевой стиль. И я подозреваю, что сейчас приходит именно такое поколение.
Мария ЛИПМАН: А я думаю, что — нет.
Тимур КИБИРОВ: Откуда такая убежденность?
Мария ЛИПМАН: Из жизненного опыта, из опыта руководства коллективом людей, которые пишут. У Кати явно такой же опыт. Важно понять, что, по мере того как в сферу вербального вовлекается огромное количество людей, которые раньше звонили друг другу или встречались во дворе, а теперь переписываются «эсэмэсками», в письменный язык проникают элементы устного. Это создает но вую языковую реальность. Хуже она или лучше? Она другая. Понятно, что огромные массы начинают писать и пишут неграмотно. Но остается множество людей, которые делают это профессионально и хорошо.
Просто у нас произошел слом и вдруг все это хлынуло, а раньше шлюзы были закрыты. Но я вас уверяю, что речь американского ребенка, который привык к Интернету, ICQ и ко всему остальному, тоже «испорчена». Взять хотя бы слово «такая» — «я такая стою». В английском есть подобное слово, “like”.
Тимур КИБИРОВ: Это уже другой поворот: идет ли речь о чисто российском явлении или нет.
Мария ЛИПМАН: Если говорить обо мне, то я бы в языковом номере журнала хотела увидеть не только диахронный, но и синхронный подход. Что там «у них» говорят, как жалуется американский преподаватель на то, что студенты пишут неграмотно, что они плохо владеют родным языком, путают it’s — подлежащее со сказуемым и its — местоимение. Я сама видела и читала такие работы. И при этом у них есть журнал «Нью-Йоркер», с прекрасным литературным языком, который издается почти миллионным тиражом и выходит с 1925 года.
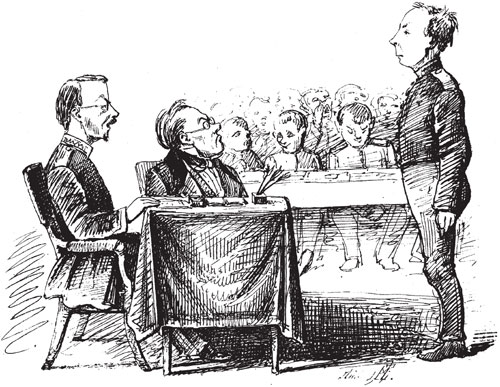
Необязательно демократизация уничтожает те сообщества и способности (или даже спрос на них), которые и вам и нам очень дороги. Всему найдется место. А вот количество регистров увеличивается — как мне кажется, в связи с коммерциализацией общества, в связи с маркетинговым подходом. При советской власти газеты не стоили ничего, а сейчас, поскольку все стоит денег, издание изучает свою аудиторию, выясняет, что ей надо, создает тот язык, тот стиль, ту манеру, которая заставит человека данный продукт купить. И таких изданий неисчислимое количество, все это дробится и множится.
Максим КРОНГАУЗ: Создание таких субъязыков, субкультур необязательно создает регистры.
Мария ЛИПМАН: А я не говорю о субъязыках. Я говорю о том, что кто-то читает только про вязание и про диабет.
Максим КРОНГАУЗ: Это скорее подъязыки. Исторический пример: к чему привело различие в стратегиях двух колониальных держав, Франции и Англии. Английский чиновник в Африке разговаривал со всеми местными жителями на их языке, на языке каждого племени. А французский чиновник разговаривал только на французском. Тем самым англичане проводили принцип «разделяй и властвуй»: все их подопечные говорили каждый на своем языке и не могли объединиться. А французы объединяли всех на базе своего языка. Это идея франкофонии, которая сейчас цветет… Но создание разных языков для маленьких племен не дает возможности переключать регистры. Люди этих племен не могли переключаться. Поэтому если вы, издатель, говорите с рокерами на языке рокеров, а, предположим, с любителями макраме на некоем несуществующем языке любителей макраме, то вы-то умеете переключаться, а ваш читатель не умеет.
Мария ЛИПМАН: Я думаю, что людей с тонким чувством языка, которые умеют переключаться, всегда меньше, чем тех, кто не умеет. Всяких умелых и талантливых всегда меньше.
Тимур КИБИРОВ: Но вот вопрос: будет ли востребована эта способность и будут ли люди, которые способны развить стилистическую культуру, будут ли они ее развивать, нужно ли им это будет?
Максим КРОНГАУЗ: Прошу прощения, я перейду на личности. Я подозреваю, что сегодняшняя молодежь не поймет тексты Тимура Кибирова, написанные в 80–90-х годах, потому что она не понимает языковой игры, построенной на переключении регистров. На этом строилась андеграундная литература: скажем, на том, что в интеллигентной речи появлялось лагерное словцо. Это ощущалось. Сейчас эта игра исчезает, потому что мы уже не ощущаем границ. Сегодня слово «беспредел», которое пришло из зоны сравнительно недавно, используется в текстах МИДа. И это естественно для нынешней ситуации.
Мария ЛИПМАН: Максим, что же тогда говорить о литературе XIX века? Мы что, там совсем уже ничего не понимаем? Там ведь тоже была игра. Многое же осталось! Я сужу по тому, как моя двадцатилетняя дочь читает то, что любезно моему сердцу, что я хотела бы, чтобы она прочла — из литературы именно о нашем опыте. Конечно, что-то пропадает, но общее ощущение остается. Ведь и мы читаем литературу не только вчерашнего дня, но и прошлого, и позапрошлого века, а некоторые даже и XVII века.
Максим КРОНГАУЗ: Одно дело, когда мы не вполне понимаем Пушкина (о чем писал Лотман), и совсем другое — когда мы не чувствуем нюансов в литературе десятилетней давности.
Тимур КИБИРОВ: Я утрирую, конечно, но для среднего читателя журнала «Cool girl» — что церковный славянизм, что советизм, что скрытая цитата из Пушкина, все это — «отстой». Все, что было до торжества их языка, все — отстой.
Приведу пример корпоративных цензурных ограничений. Когда я зарабатывал на жизнь в отделе анонсов НТВ, мой текст однажды был забракован, потому что в нем присутствовало слово «прежде». Мне сказали: это устаревшее.
Думаю, все согласятся с тем, что недаром мы тревожимся, существует некая угроза языку. Угроза редукции, исчезновения «цветущей сложности»… Удастся ли с ней справиться? Дай Бог. Будет упрощаться язык — будет упрощаться мышление. А это уже, как часто говорят журналисты, «много чем чревато». Я имею в виду прежде всего стилистическое разнообразие, эти самые регистры.
Максим КОВАЛЬСКИЙ: Любому упорядочиванию обязательно предшествует редукция. Нельзя упорядочивать многообразие. Его нужно сначала к чему-то свести…
Тимур КИБИРОВ: А почему нужно упорядочивать?
Максим КОВАЛЬСКИЙ: …При советской власти, которую здесь представляет Тимур…
Тимур КИБИРОВ: Чрезвычайно характерно для современных бесед: все время маячит советская власть. Пора уже ее забыть! Это как большевики все время твердили о 1913 годе.
Максим КОВАЛЬСКИЙ: Вы апеллируете к тому времени, когда норма была. Только поэтому я упоминаю советскую власть.
Мария ЛИПМАН: Был период, когда была государственная политика по насаждению «культурности», не скажу культуры. Когда по радио — только классическая музыка, и литература только классическая. Как всегда, это и хорошо, и плохо. Так что советская власть очень даже при чем! Вы опасаетесь, что спрос на эту цветущую сложность будет падать. Вы опасаетесь не за себя, не за нас. Нам такой язык нравится, а другой — гораздо меньше, но мы смиряемся с его существованием и понимаем, что наши дети и внуки будут жить в обстановке менее цветущей сложности.
Тимур КИБИРОВ: Если человек был воспитан на портвейне и пил только его, то когда он попадет за стол, где ему предложат самые изысканные вина, все вкусы для него сольются в один — кислятина. Вопрос: возможна ли самоорганизация без административного вмешательства, без советской власти? Возможно ли сохранение культурных норм?
Максим КРОНГАУЗ: Мы к этому еще вернемся. Я хочу спросить Катю: а у вас в журнале есть какая-то языковая стратегия, языковая политика и языковые ограничения? Есть ли у вас корпоративный стиль, языковой стиль журнала?
Екатерина МИЛЬ: У нас в некоторых рубриках есть колонки ведущих. Ведут их молодые ребята пятнадцати-девятнадцати лет. В этих колонках — авторский стиль: я советую, я пошел, у меня была такая история… т. е. они обращаются к читателю от первого лица. Здесь идет не то чтобы воспитание опытом, это слишком высокопарно, но вы поняли, что я хотела сказать. Если же брать языковой стиль журнала, то мы пытаемся перенести хорошую разговорную речь в печатное издание.
Максим КРОНГАУЗ: А вы подбавляете каких-то словечек в текст, если их там нет?
Екатерина МИЛЬ: Наоборот, мы следим за тем, чтобы этого не было. Например, слово «чел» мы запретили полгода назад. Запрещены выражения «туча народу», «туча призов». Да, вот еще: «зажгли по полной». Мы ничего искусственно не добавляем. Нет такой задачи — делать сленговое усиление, чтобы говорить понятным для наших читателей языком.
Максим КРОНГАУЗ: А отбираете то, что нравится? Действительно, есть масса симпатичных и ярких выражений.
Екатерина МИЛЬ: Чувство меры — дар богов. Ну как я могу вам ответить? Слово употребляется, когда оно уместно. А если не уместно — вымарывается. Мне кажется, что это так просто.
Максим КРОНГАУЗ: Да, просто. Но у нас, здесь сидящих, разный языковой вкус.
Тимур КИБИРОВ: Вот что я еще хотел бы сказать, продолжая блажить и выступать в роли советской власти. При советской власти, когда мне было четырнадцать-пятнадцать лет, существовал замечательный молодежный жаргон, не менее богатый и не менее экзотичный и забавный. Я им прекрасно владел. Пользуясь нынешним жаргоном, никаким «ботаником» я не был.
Но в любой традиционной культуре есть важнейший механизм: тяга молодых людей к овладению взрослой культурой. Это необыкновенно важно, и, пожалуй, это даже шире, чем разговор о языке. Когда мне двенадцать лет, я хочу научиться говорить как взрослый — не обязательно как политработник, может — как Пушкин или как Ломоносов. Сейчас, в современной культуре, этот механизм снимается. Какой язык «крутой и кульный»? — Ровно наш язык, а не вас, стариков. А старики — это те, кому за тридцать пять.
Мария ЛИПМАН: Я опять хочу обратиться к культуре более регламентированной, западной, которая не пережила слом 20 лет назад. Был ребенок, маленький человек, американский или французский, и говорил в двенадцать лет на каком-то своем языке, и для него работала целая большая коммерция. На него обрушивались потоки рекламы его жевательной резинки, роликовых коньков и т. д. И вот он стал большой, стал менеджером, работает в своей фирме, ему двадцать восемь. И вы думаете, что он говорит на том же языке, на котором говорил в двенадцать?
Тимур КИБИРОВ: Я этого не знаю. А то, что происходит с языком и культурой здесь, я немножко знаю.
Мария ЛИПМАН: Я вас уверяю, что и здесь начинающий менеджер — сейчас у них карьера ранняя — тоже немедленно выучивается говорить как большой.
Максим КОВАЛЬСКИЙ: Как человек говорит, зависит от того, в какой языковой среде он существует. Если с ним разговаривают дома родители — если в семье вообще приняты разговоры родителей с детьми…
Мария ЛИПМАН: К нам вчера на работу пришли какие-то очень молодые люди предлагать свой «продукт». Что за продукт, я не очень поняла. Они говорили каким-то метаязыком. Мы их полчаса послушали и не поняли, что они нам хотели, извините, впарить. Я только выудила потрясающее выражение «мероприятческий метод». Этим молодым людям двадцать четыре, и когда им было пятнадцать, у них уже была реклама, «кульные приколы» — но они приходят к нам впаривать свой продукт и говорят не про «кульные приколы»…
Тимур КИБИРОВ: …Говорят на языке, который вы не можете понять. Я об этом и говорю. Маша, согласитесь, что это пример речевой невменяемости, это и есть непонимание регистров.
Мария ЛИПМАН: Они плохо владеют языком, это правда. Я о другом: желание разговаривать как взрослые, ориентироваться на взрослых — само по себе не ценно. А что они обязательно ориентируются на взрослых — это факт. На каких-нибудь взрослых они всегда ориентируются… Ну, в двенадцать лет они, может, на взрослых не ориентируются, потому что на них работает целая индустрия. Она немножко заимствует их язык и немножко выдает им его обратно в переработанном виде. Она через рекламу с ними разговаривает на языке «кульных приколов».
Екатерина МИЛЬ: Я не пытаюсь снять с себя ответственность, но думаю, что если родители открыты своим детям, то они сумеют понять их и объяснить им какие-то вещи.
Тимур КИБИРОВ: Да я же говорю не о возрасте! Для Пушкина и Кюхельбекера в двенадцать лет вообще не существовало никакой молодежной культуры. Лицейские стихи Пушкина — ведь это не молодежная культура!
Мария ЛИПМАН: Это было до эпохи демократизации языка. А сейчас есть люди просто неграмотные, они ни читать не умеют, ни писать.
Максим КРОНГАУЗ: Есть два оценочных мнения. Одно мнение — что все хорошо. А другое мнение — что-то не так. Если что-то не так, то делать-то что?
Тимур КИБИРОВ: Не знаю… Говорить человеческим языком.
Максим КРОНГАУЗ: Тимур, вы сами не используете такие слова, как, например, «достало» и др.?
Тимур КИБИРОВ: Я стараюсь использовать все слова, которые знаю.
Максим КРОНГАУЗ: Так что же делать с языком?..
Тимур КИБИРОВ: Я не очень понимаю: а что мы можем сделать?
Максим КРОНГАУЗ: А кто-нибудь что-нибудь может сделать? Или никто ничего не может?
Мария ЛИПМАН: Французы вот пытаются, у них закон есть свой…
Максим КОВАЛЬСКИЙ: Можно попытаться загнать что-то в подполье…
Максим КРОНГАУЗ: Сегодня это слово всплывало, в законе оно употребляется несколько раз. Это слово «защита»: «надо защитить язык». Я сейчас говорю без иронии. От кого защитить?
Тимур КИБИРОВ: Это очередная дикая выходка наших законодателей.
Максим КРОНГАУЗ: Слово «защита» на самом деле всплывает. Надо спасать, защищать. Я снимаю всякую иронию. Например, французы защищают свой язык от английского. Это понятно. А нам сейчас — надо или нет защищать от чего-то русский язык? От американизмов? От себя? Должны ли что-то делать журналисты? (Про писателей не говорю, они делают что хотят). Должна ли быть общая политика? Или достаточно частной корпоративной политики у каждого издания?
Тимур КИБИРОВ: Об общей политике вопрос не стоит. Если будет какая-то общая политика, то будет цензура.
Максим КРОНГАУЗ: Смотря что называть цензурой. Во Франции нет цензуры.
Тимур КИБИРОВ: Это некие запретительные меры. Как можно навязать одну речевую политику «Коммерсанту» и какому-то другому изданию?
Максим КРОНГАУЗ: Не обязательно цензура. Выругался матом — заплати штраф.
Марк ГРИНБЕРГ: Мы оказались в ситуации, когда отсутствуют силовые регуляторы и языковой пуризм просто невозможен. Расхождения между Тимуром и Машей объяснимы. Маша смотрит на вещи более оптимистично, потому что ее интересует общество в целом, а Тимура интересует личность в этом обществе. Мне импонирует позиция Тимура, потому что когда забывают о личности, то, к сожалению, получается, что на уровне общества все раздрызгано, расплескано, — и два племени, как показал наш ведущий, не могут договориться. Тут, кстати, ваш, Маша, пример работает против вас. Ваши «гости» — прямое следствие того, что в последнее время произошло с языком. Они пришли к вам и не смогли договориться — между прочим, не смогли решить свою бизнес-проблему.
Мария ЛИПМАН: Да, они очень плохие бизнесмены.
Марк ГРИНБЕРГ: Возможны ли вообще какие-то меры в ситуации, когда запретительные меры на уровне государства невозможны и нежелательны — вот о чем, по-моему, стоит говорить.
Мария ЛИПМАН: Для чего?
Марк ГРИНБЕРГ: Для того, чтобы вернуть эту «цветущую сложность» туда, откуда она стремительно уходит.
Мария ЛИПМАН: Мы тут не согласны с тем, что она уходит!
Тимур КИБИРОВ: Ну конечно, она уходит — откройте глаза.
Марк ГРИНБЕРГ: Она, может быть, не уходит из суммы, но уходит из каждой единицы, которые эту сумму составляют. Почти из каждой. И единиц, причастных к этой сложности, становится все меньше.
Мария ЛИПМАН: У меня нет такого ощущения. Максим очень точно спросил: мы за язык болеем душой или за себя? Мы — в меньшинстве. Мы представляем собой не очень большую группу.
Тимур КИБИРОВ: Знаете, в чем разница наших оценок? В том, что вашей дочери двадцать лет, а моей — тринадцать.
Мария ЛИПМАН: А разве ситуация катастрофически изменилась? Моей дочери тоже было тринадцать лет.
Тимур КИБИРОВ: Не катастрофически, но очень сильно. Теперешние подростки — это культурно иные люди. Я говорю не о своей дочери, потому что с ней все в порядке, слава Богу. Я ее дрессировал. Когда она приходила и рассказывала о «суперкульных приколах», я говорил: «А теперь — другим языком то же самое. Нет, это ты не точно перевела. Переведи точно».
Екатерина МИЛЬ: Мы вернулись к тому, что эту проблему будут решать дети и родители.
Тимур КИБИРОВ: Дети и родители в самом широком смысле этого слова. Пока родители будут либерально улыбаться и умиляться выходкам своих детишек, будет все хуже и хуже. Я за то, чтобы взрослые выполняли свою функцию, то есть брюзжали. Так должно быть.
Максим КРОНГАУЗ: В России, если что-то не нравится, тут же — запретить. Но мы же не хотим запретить. У нас просто есть разные точки зрения: что все хорошо и что все плохо.
Тимур КИБИРОВ: Я не говорю, что все плохо. Я говорю о том, что я тревожусь.
Мария ЛИПМАН: А я не говорю, что все хорошо! Но вы с Марком считаете, что мы переживаем нечто беспрецедентное, чего ни у кого не было.
Максим КРОНГАУЗ: Это вопрос меры. В каком-то смысле было все.
Тимур КИБИРОВ: Безусловно, было и иногда заканчивалось довольно печально.
Максим КРОНГАУЗ: Я не согласен сейчас с Тимуром. В каком-то смысле все было. В России аналогией являются Петровская эпоха, послереволюционный период. С другой стороны, такого, как сейчас, конечно, не было. Объясню почему. Совпали социальный слом и технологический слом. Вопрос, на чем мы хотим сосредоточить свое внимание: на наших сегодняшних отличиях?
Мария ЛИПМАН: Было бы очень интересно рассмотреть и диахронно, и синхронно, что в других странах…
Ольга СЕВЕРСКАЯ: Я помню шоу на французском канале TV5, где совершенно отвязные молодые люди, которые сокращают слова так, что даже человек, знающий французский язык, понять его может с трудом… Что делает канал? Он не брюзжит, а пускает титры. Их речь вся переводится на нормальный литературный язык.
Приведу пример из личной жизни. У меня в семье три девочки, разного возраста. И одна из них не знала, что «шнурки в стакане» означает «родители дома»… Региональный сленг абсолютно другой. Из южной России они привозят: «Ну ты, красавчик». В Москве я этого не слышала.
Про закон о языке. Во Франции закон о языке хорош тем, что он не только регламентирует, но еще и позволяет всем языкам существовать. Там меня потряс один пункт. Фильм должен идти на языке оригинала, его запрещено показывать иначе как субтитрованным. То, что дублировано, было сделано до принятия этого пункта закона о языке. Они не имеют права показать по телевизору английский, американский или шведский фильмы дублированными, на французском языке. Потому что другой язык имеет право существовать. И так же субтитруется молодежный сленг.
Что у нас? У нас принят в первом чтении закон, который регламентирует, в числе прочего, язык СМИ. В СМИ нельзя употреблять иностранные слова. — Тогда страна должна, по идее, остаться без президента: председатель правительства у нас имеет аналог, а президент — нет.
Как применять закон? Я боюсь, вопрос не в том, что могут делать журналисты, а то, что им, бедным, придется делать. Пример из практики. Радио «Эхо Москвы» — ни для кого не секрет — оппозиционная радиостанция, поэтому внимание властей к ней повышено. Был принят закон против рекламы пива. Идет передача, в которой не рекламируется никакая марка пива, просто есть текст: «хорошо посидеть с друзьями и выпить пивка». Звонок из Думы: «Вы нарушаете антимонопольный закон». Штраф, предупреждение. После чего Марина Королева вымарывает слова «бренди», «виски» до выяснения, в каком контексте их можно употреблять, в каком — нет.
Допустим, в прямом эфире Виктор Ерофеев, который любит крепкое словцо. А у нас начинается разборка: что такое его фраза — цитата? Цитата «запикиванию» не подлежит, но, с другой стороны, мы должны его «запикать»? — А эфир прямой! Что делать?
У самого Вити Ерофеева в «Апокрифе» была Ирина Денежкина, которая, по собственному признанию, без 20 слов мата страницы написать не может. Как там цитировать, если надо показать, что это за писатель?
Тимур КИБИРОВ: Это большой мастер слова. В чем она и призналась, сказав, что не может писать не употребляя некоторых выражений.
Ольга СЕВЕРСКАЯ: Но ведь если закон примут, то он будет действовать.
Максим КРОНГАУЗ: Давайте сейчас не будем о законе. Понятно, что у всех нас есть свои собственные способы, меры сопротивления, борьбы, защиты, свои способы общения с детьми, когда вы заставляете их переводить на ваш язык или на литературный язык (это тоже некий способ цензуры, но домашней цензуры)…
Тимур КИБИРОВ: Нет, не цензуры. Мне было бы страшно неприятно узнать, что моя дочь не умеет говорить на сленге.
Максим КРОНГАУЗ: …Понятно, что мы с этим сталкиваемся и как-то взаимодействуем. Я иногда с удовольствием учусь у детей каким-то словам.
Но все-таки — можно ли что-то сделать и нужно ли? Цензура не обязательна. Есть запретительные методы вне цензуры, есть административная ответственность: выругался матом — заплати штраф. Есть просветительные меры, передачи типа вашей (обращаясь к О. Северцевой). Есть, на мой взгляд, и чудовищные методы внедрения прогресса, например, на канале «Культура»: «Давайте говорить правильно». Вы принимаете какие-то меры, хотя бы как редакторы? Как-то вы воздействуете на язык в ваших передачах, в ваших журналах? Есть ли у вас что-то нелюбимое в сегодняшнем языке и что-то любимое?
Максим КОВАЛЬСКИЙ: Я могу сказать о возможном механизме воздействия на читателя…
Максим КРОНГАУЗ: …и на журналистов тоже.
Максим КОВАЛЬСКИЙ: Вы упомянули передачу на канале «Культура». Там «воспитывают» зрителя. Такие лобовые методы не очень эффективны. В детском издании, для десятилетних детей, может быть, это подходит. Для взрослых — нет.
Механизм такой. Сотрудники нашей компании подбираются не случайным образом, кто-то кого-то приводит, это примерно один круг. В общем, мы говорим на одном языке. Мы делаем издание, у него есть тираж. Нас читают те граждане, которым наш способ выражения кажется нормальным. Это наша аудитория. Мы, как любое издание, естественно, стремимся ее расширить. Понятно, что не за счет матерных слов или того, чтобы писать про что-то мочеполовое, — есть какие-то границы.
Существуют и другие издания, которые занимаются тем же самым. Граждан, которые умеют читать, на самом деле не так много: всего около 500 тысяч граждан читают качественную прессу, и они как-то прибиваются к нам. Это один из способов классификации граждан: кто-то читает это, кто-то — то. По-моему, вполне естественный механизм.
Когда говорят, что что-то должно или не должно быть, у меня всегда возникает вопрос: что значит — должно? Например, в России должно быть независимое телевидение. Ну, нет его. У нас нет такого явления. О долженствовании тут говорить не очень уместно.
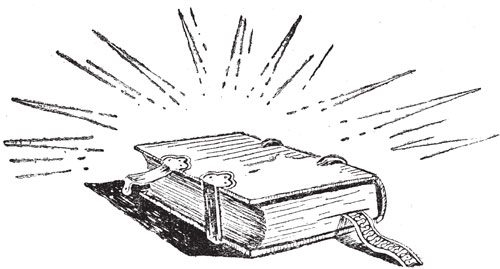
Есть язык, некие джунгли, с ним происходят какие-то естественные процессы. Нам что-то может не нравиться. Когда Тимур говорит, что ему что-то не нравится, то я с ним целиком согласен. С эмоциональной точки зрения у меня это тоже вызывает неприятие. Но я понимаю, что это не нравится именно мне: люди более молодые говорят по-другому, а у меня сужается потенциальный круг общения. В перспективе можно себе представить ситуацию, когда сижу я, старенький, с палочкой, говорю на каком-то русском языке, а меня просто никто не понимает! Это ужасно и очень неприятно, но это не значит, что язык в чем-то виноват. У него свои объективные законы.
Что касается разницы между молодежным и взрослым… Как-то в «Коммерсанте» мы провели исследование, и оказалось, что наша аудитория стареет вместе с нами. Нас когда-то читали тридцатилетние, а сейчас — сорокалетние. Мы идем вместе с этими ребятами. Возник вопрос, должны ли мы испугаться, нужно ли нам что-то делать, чтобы привлекать молодых, студентов и т. д., тех, у кого язык изменился. Социолог, с которым мы разговаривали, сказал очень умную вещь. Он сказал, что этого совершенно не нужно делать. Когда студент окончит вуз и придет работать в офис, он увидит, что начальник читает, например, «КоммерсантЪ». Для него это будет неким стандартом, к которому он будет тянуться — и станет читать «КоммерсантЪ». Не нужно постоянно заискивать перед молодыми, играть в их игрушки, показывать, что мы тоже знаем слово «прикольный».
А еще важно не заиграться с тем, что понятно только нашему поколению. У нас для этого есть Митя Голубовский. Как-то выяснилось, что Митя родился после Олимпиады. Меня глубоко потрясло, что есть такие люди, родившиеся после Олимпиады, и они уже где-то работают. У нас Митя, помимо своих редакторских функций, отправляет еще и вот такую. Когда мы придумываем заголовок, где обыгрываем что-то глубоко советское, то мы зовем Митю Голубовского и спрашиваем, понимает ли он, в чем игра. Скажем, из какой-то песни советских времен: «Они стояли молча в ряд, их было восемь». Если он не понимает, то мы отсекаем. Потому что если какой-то аудитории будет совсем непонятно, то и для заголовка это нехорошо. А специально играть в эти молодежные игры совершенно нет необходимости.
Екатерина МИЛЬ: То, что сейчас происходит, эта полистилистика в музыке, литературе, прессе — это естественная реакция на суперзаштампованную, суперсдержанную журналистику совкового образца. Что будет дальше? Сейчас царит хаос. А дальше будет очень сильная сегментация и по социальным группам, и по возрастам — мне бы хотелось так думать. Я читала какое-то исследование о том, какое количество телеканалов в Америке и на какие социальные группы они рассчитаны. Наверное, ситуация будет развиваться в этом направлении. Понятно, что уже есть молодежное телевидение и есть какое-то другое — вот и все разделение, которое у нас есть. Для современного телевидения это очень мало. И, наверно, сейчас будет происходить какое-то дробление…
Максим КРОНГАУЗ: …в том числе и языковое.
Екатерина МИЛЬ: Да нет. Разговорная речь — это то, что объединяет все возрасты. Неужели мы с десятилетним друг друга не поймем? Неужели я не смогу объяснить восьмидесятилетней женщине, чего я от нее хочу? Разговорная речь — это универсальная форма общения.
Мы, чтобы не потерять связь с реальностью, поступаем следующим образом. Раз в полгода мы выборочно передаем наши журналы какому-то уважаемому человеку, литературному критику или филологу. И он нам делает хороший экспертный анализ, указывает, насколько мы политкорректны (или не политкорректны), где мы переборщили со сленгом. Взгляд со стороны. А чтобы быть ближе к народу, у нас есть молодые авторы. Мы стараемся больше общаться с теми, о ком пишем.
Максим КРОНГАУЗ: Вы, действительно, постоянно общаетесь с молодыми авторами, и аудитория у вас молодая. Меняется ли язык в лучшую сторону?
Екатерина МИЛЬ: Язык очень сильно меняется. Он пока меняется на уровне Интернета, ICQ, «эсэмэсок» и проч. Этот язык проникает всюду. В разговорную речь он уже проник, проникнет и в язык периодической печати, и в литературный язык. Это такое броуновское движение, от которого нельзя спастись. Как тут быть, зависит от чувства меры тех, кто возглавляет разные издания. Я не знаю, как на это можно влиять централизованно. Если бы Совет журналистов собрал какой-либо экспертный совет, куда вошли бы люди разных поколений… Если умные, порядочные и культурные люди разных возрастов сядут и подумают, если им не все равно, то тогда что-нибудь получится.
Мария ЛИПМАН: Я во всем согласна с Максимом Ковальским. Это естественный процесс. Существует институция редактора. И главного редактора. Редактируются тексты, поправляется стиль, убирается четыре «которых» и пять родительных падежей. Разумеется, есть какие-то вкусовые вещи. И постепенно коллектив этого издания начинает осознавать, что он такое. Это и происходит в последнее время «в уникальных российских условиях»: у нас нет издания, которому было бы 100 лет (есть «Известия», но они в последнее время сильно себя переосмыслили). Я думаю, что десяти лет будет достаточно для самоидентификации, чтобы понять, что такое мы, какой наш стиль, какая наша позиция, что нам нравится, а что — нет.
Максим КРОНГАУЗ: Самоидентификация кого?
Мария ЛИПМАН: Изданий. То есть на кого мы работаем, кто нас читает, что нашей аудитории нравится, что не нравится, в какой мере мы идем у нее на поводу, в какой мере мы ее воспитываем. В западных изданиях, которые существуют десятилетиями, есть такие книжки — «индекс», «кодекс», — я держала их в руках. В них постоянно уточняется, что можно, а что нельзя. Я под такой корпоративной политикой полностью готова подписаться.
И еще. Очень важно, что мы, каждый в своем издании, знаем, кто у нас «золотое перо». Мы полагаем, что и наши читатели знают, кто у нас «золотое перо». И все наши коллеги знают. Даже в соседнем издании знают, кто у нас «золотое перо», а мы знаем, кто у них, если нам важно это знать, если мы с ними конкурируем. Вот, скажем, Григорий Ревзин.
Да, в России масса особенностей, но и здесь идут такие же процессы, как везде. «Коммерсанту» — 15 лет. Ведь сложилось за это время издание! Я могу сформулировать, за что я читаю «КоммерсантЪ», а не какую-то другую газету из тех, что мне кажутся благопристойными и не унижающими достоинство интеллигентного читателя.
Ольга СЕВЕРСКАЯ: И еще одна тенденция внушает надежду на то, что все это языковое богатство не пропадет. На радио «Маяк» появилась программа «Грамотей», где учат правильно говорить по-русски, человеческим языком; на «Русском радио» есть программа «Говорите по-русски», на «Русском радио-2» — своя программа, на телеканале «Домашний» — программа «Грамота.ru». По утрам на НТВ выходит программа, которая называется «Это правильно!», там такие смешные мультяшные персонажи, ужасно смешные диалоги и не очень строгие училки, а аудитория — от школьного возраста до пенсионного. На Вологодском радио есть совершенно потрясающая программа «Вологодско-русский словарь». Они изучают свой говор, ведут языковые игры. Мы о них не знали до того момента, пока они не получили премию от Минпечати. В «Российской газете» есть рубрика Марины Королевой, в газете «Время МН» была рубрика «Слово за слово», которую я вела, во «Времени новостей» появляются колонки, посвященные языку. И этим занимаются люди, которые пришли в журналистику из лингвистики.
Добавлю о «цветущей сложности» и о корпоративном стиле журналистики. Замечал ли кто-нибудь, что у спортивных комментаторов сложился такой стиль, не скажу, цветущей, но цветистой сложности. Они нарушают главный закон радио и телевидения: можно употребить только одну-две метафоры на передачу. Они исхитряются за две минуты построить свою речь сугубо метафорически. И поскольку это срез новостей, которые интересуют очень многих, самую разноплановую аудиторию, то слушателям, чтобы понять, что хотел сказать комментатор, — кто победил, кто забил гол, — приходится очень сильно напрягать мозги.
Максим КРОНГАУЗ: Тимур, вас успокоили слова, которые были сказаны?
Тимур КИБИРОВ: Нет, что вы…
Максим КРОНГАУЗ: Что делать?
Тимур КИБИРОВ: Как минимум, нужно хотя бы не закрывать глаза на тревоги и страхи. Нужны индивидуальные усилия вменяемых журналистов или какието редакционные усилия. Но этого мало. Можно было бы пожелать нашему образованному сословию каких-то совместных действий, но, к сожалению, это бесполезно, поскольку никакого сословного сознания у нас нет. Те люди, которые осознают некую речевую ответственность, должны в своей речевой деятельности исходить из этой ответственности. И больше ничего. Всякие законы могут только навредить.
Максим КРОНГАУЗ: А какой прогноз? Все будет хорошо или все будет плохо?
Тимур КИБИРОВ: Все зависит от суммы индивидуальных усилий: смогут ли они преодолеть пугающие тенденции. Я все-таки уверен, что эти тенденции существуют. Я не фаталист. Я склонен рассматривать и тот, и другой вариант.
Максим КРОНГАУЗ: Ну что же, мы подошли к естественному завершению нашей беседы. Прогноз на ближайшее будущее не оптимистичен, но и не пессимистичен. Участники круглого стола, как обычно и бывает, остались в основном на своих позициях. Их объединяет, пожалуй, лишь одно. Будущее нашего языка зависит от нас, точнее — от всех нас.