Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 5, 2004
Книга Франсуа Артога, открывающаяся эпиграфом из Марселя Пруста «…во Времени», состоит из двух частей: в первой рассматриваются способы переживания и восприятия времени, существовавшие вплоть до Великой французской революции, когда прежний тип исторического мышления сменился новым. Этому новому отношению к истории и времени посвящена вторая часть книги (хотя и она содержит экскурсы, относящиеся к предыдущему периоду).
Во вступлении Артог перечисляет тех мыслителей ХХ века, которые уделяли особое внимание проблеме времени, причем не столько непрерывности исторического процесса, сколько разрывам, сломам, «лакунам» (gaps; концепт, введенный Ханной Арендт). Это Поль Валери, еще в 1919 году уподоблявший «европейский разум» Гамлету, который не может связать прошлое и будущее, «колеблется между двумя безднами» и размышляет «о том, какая скука — все время продолжать и продолжать прошлое, какое безумие — постоянно затевать что-то новое»; это Вальтер Беньямин, Люсьен Февр, Ханна Арендт, Поль Рикёр. Все они, каждый на свой лад, пытались создать новый образ истории, отказываясь от идей непрерывности и поступательного развития в пользу представлений о ее прерывистом, изломанном ходе. События 1968 года и кризисы 1970-х годов лишь усилили настроения такого рода. Общественные потрясения обострили желание восстановить «распавшуюся связь времен»: отсюда небывалая популярность всевозможных «возвращений к прошлому». К чему только не возвращались в это время: сначала к Фрейду и Марксу, потом — к Канту и к Богу! Затем, на фоне глобализации, формирования «мировой экономики» и, одновременно, стремления сохранить «мировое наследие», наступил черед увлечения всем, что связано с памятью: возводились мемориалы, модернизировались музеи, сочинялись мемуары, непрофессионалы занялись архивными и генеалогическими разысканиями. Следствием «мемориальной» волны и одновременно формой ее осмысления стало появление коллективного сборника статей под редакцией Пьера Нора «Па мятные места»[1] (Lieux de memoire); этому сборнику, равно как и работам немецкого историка Р. Козеллека, введшего в науку представление о настоящем времени как поле, где скрещиваются «опыт» (прошлое) и «горизонт ожидания» (будущее), Артог многим обязан и часто ссылается на него в своей книге. Однако «мемориальный» бум конца ХХ века вовсе не означает, что общество смотрит только в прошлое; напротив, Артог считает этот бум одной из составляющих того отношения ко времени, которое определяется термином «презентизм»; это диктат настоящего времени, которое овладевает умами и заставляет их ставить ему на службу и прошлое, и будущее (об этом мы еще скажем ниже).
Презентизм, футуризм, пассеизм — различные формы восприятия времени и отношения к нему, различные типы исторического мышления. Историк постоянно имеет дело со временем, однако далеко не все историки подвергают анализу собственное восприятие времени. Между тем восприятие это бывает очень разным. Так, время в понимании христианских мыслителей — это череда «царств» или смена «веков мира» (Блаженный Августин), причем шестой век, открывающийся рождением Иисуса, должен продлиться до конца света, и это переходное время протекает в ожидании седьмого века, который принесет праведным вечное упокоение в созерцании Господа. Эта схема была так влиятельна, что просуществовала до XV╡╡ века, когда ее положил в основу своего «Рассуждения о всемирной истории» Боссюэ. Однако постепенно ее сменило принципиально иное восприятие времени, при котором центральными, доминантными становятся понятия «совершенствование» и «прогресс». Этот тип исторического мышления, расцвет которого пришелся на X╡X век, влечет за собой обесценивание не только прошлого, но и настоящего; предполагается, что все лучшее — впереди. В ХХ веке этот оптимистический эволюционизм сменяется сначала пессимистическими теориями смерти цивилизаций (Шпенглер), а затем, во второй половине ХХ века, осознанием того, что не существует ни единого времени (школа «Анналов»), ни единой культуры (Клод Леви-Строс), а значит формы отношения к таким универсальным категориям, как прошлое, настоящее и будущее, в разных культурах и на разных социальных уровнях различны.

У Леви-Строса Артог особо выделяет тезис о разделении обществ на «холодные» и «теплые»; для первых характерна «нулевая чувствительность к историческому развитию», они более всего дорожат стабильным порядком, тогда как в других, где «внутренняя температура постоянно меняется», история становится чем-то вроде двигателя развития (таковы, в первую очередь, европейские об щества). Почти одновременно с Леви-Стросом, в начале 1950-х годов, французский философ Клод Лефор противопоставил общества «без истории» обществам «историческим», для которых важна такая категория, как событие. Бывают ли, однако, общества совсем без истории? Быть может, у них просто другой тип исторического мышления? Положительный ответ на последний вопрос дал в своей работе «Острова, где живет история» (Islands of history, 1985), оказавшей на Артога огромное влияние, американский антрополог Маршалл Салинз. Изучая образ жизни и мышления обитателей острова Фиджи, Салинз пришел к выводу, что им присущ особый тип исторического мышления, который он называет «героическим» (истоки своей концепции Салинз видит в сочинениях Дж. Вико, выделявшего наряду с веком богов и веком людей промежуточный век героев, а также Дж. Фрезера и А. Хокарта, анализировавших роль царя-жреца в архаической общине). Все обитатели Фиджи сливаются в едином целом, тождественном персоне царя; история народа при этом также отождествляется с историей верховного властителя. Применительно к такой истории бессильны, например, статистические методы, которые использовались историками «Анналов», ибо часть здесь совпадает с целым, а целое — с одним-единственным человеком: государем (этот же тип мышления, добавляет Артог, проявляется в «Параллельных жизнеописаниях» Плутарха). Создатели школы «Анналов», как известно, считали необходимым отказаться от традиционного сведeния истории к деяниям королей и последовательности битв. Но «героическая история» — это в самом деле история королей и сражений; в ее рамках прошлое (генеалогии и космические мифы о происхождении) имеется только у королей; что же касается подданных, то их жизнь исчерпывается сиюминутными частностями. К тому же разделения на прошлое и настоящее, столь важного для западного мышления, в представлении полинезийцев вообще не существует. Точно так же, как весь народ «собран» в своем правителе, настоящее для них целиком определяется мифологическим прошлым: по убеждению людей из племени маори, все, что происходило неког да, при сотворении мира, воспроизводится постоянно; прошлое ничем не отличается от настоящего и потому способно его объяснять, настоящее же впитывает это прошлое в себя. Понимание этого специфического типа исторического мышления позволяет правильно истолковать самые разные реальные эпизоды, от гибели капитана Кука до восстания маори против англичан в 1844–1846 годах (англичане вкопали в землю английский флаг, поскольку он в соответствии с их вполне современным восприятием был символом обладания этой землею, для маори же дело было не во флаге, а в древке, поскольку вкапывание древка-дерева в землю, когда бы оно ни происходило, повторяло отделение Земли от Неба богом Тане и символизировало обладание землей именно в этом смысле).
Артог считает, что к «героической истории» относится не только полинезийское историческое мышление, но и античная концепция истории-наставницы, historia magistra vitae (впрочем, дожившая до конца XV╡╡╡ века), ибо в обоих случаях ценится не единичное, а образцовое, в обоих случаях будущее располагается не впереди, а «сзади», ибо оно созидается исключительно по тем образцам, которые черпаются из прошлого, и в этом смысле ничем от него не отличается.
Античное отношение ко времени и истории Артог рассматривает на примере Одиссея: верно ли, спрашивает он, цитируя Мандельштама, что Одиссей возвратился на Итаку «пространством и временем полный»? Общепризнанно, что герои гомеровского эпоса живут только настоящим и в настоящем; для них не существует личного прошлого, каждый день они проживают как первый и единственный день жизни. Из этого представления исходил, в частности, Э. Ауэрбах, противопоставивший в книге «Мимесис» гомеровское отношение ко времени отношению ветхозаветному. Однако Одиссей, пишет Артог, отличается от других гомеровских героев — прежде всего от Ахилла, «лишенного возвращения», которое и составляет суть «Одиссеи», Ахилла, «вечно сияющего в нескончаемом настоящем эпического времени». Артог специально останавливается на эпизоде, когда на пиру у феакийцев Одиссей слушает рассказ певца Демодока о своих собственных подвигах и сознает, что занимает в нем странное место — в точности то, какое много позже будут занимать умершие герои в историческом повествовании. Этот рассказ заставляет его плакать, причем не слезами узнавания («это я, это было так»), а горькими слезами человека, как бы умершего при жизни. Это переживание тягостного разрыва между собой прежним и собой теперешним в конечном счете приводит его к открытию, что время, заполняющее этот разрыв, и есть его прошлое[2]. Одиссей плачет, как образно пишет Артог, потому, что он «не читал Августина».
Анализируя взгляды Блаженного Августина, Артог показывает, чем восприятие времени в иудеохристианской традиции отличается от античного. Очевидно, что Одиссей не мог бы не только ответить на вопрос «Что такое время?», поставленный Августином в одиннадцатой книге «Исповеди», но даже и сформулировать его так, как Августин. Говоря об измерении времени, Августин приходит к выводу, что время есть не что иное, как «растяжение» самой человеческой души. Измерение времени должно совершаться «в душе», способной к «растяжению» (distensio) и «вниманию» (attentio); «душа и ждет, и внимает, и помнит»: только потому она измеряет и членит время. Одиссей же не располагает этой моделью времени, позволяющей человеку, чья душа постоянно пребывает между памятью и ожиданием, упорядочивать события собственной жизни.
Одиссей «не читал Августина» и еще в одном смысле. Человеческое время у Августина обрамлено вечностью Бога, создавшего время как таковое, — так что «растяжение души» должно пониматься еще и как земной удел человека. Августин называет свою жизнь сплошным рассеянием: «я низвергся во время, строй которого мне неведом; мысли мои… раздираются в клочья его пестротой»; этот неведомый строй времени учрежден Богом, призывающим человека двигаться к нему, «собрав себя», «забывая прошлое», «не рассеиваясь в мыслях о будущем и преходящем». От христианина требуется даже нечто большее, чем «внимание» (attentio): «сосредоточенность» (intentio), сопутствующая ему в движении к конечной победе, как у бегуна на стадионе. Время христианина — это время ожидания, это настоящее, наполненное чаянием конца. Но еще более важный аспект переживания времени, возникающий с Новым Заветом, — это напряжение между настоящим и будущим, между тем, что «все уже совершилось», и тем, что «еще не все закончено». Позже, однако, когда «политическое и культурное наследие Рима переходит к Церкви» (Х. Арендт), это напряжение уменьшается: «уже» набирает все больший вес; взгляд теперь устремлен не столько вперед, сколько назад, к прошлому. Появляющаяся в это время церковная история (Евсевий Кесарийский) ищет опору в свидетельствах и авторитетах, не чуждаясь при этом методов античной «истории-наставницы». Время христианина и земное время долго сосуществуют, окрашивая друг друга. Позже, в X╡X веке, когда происходит окончательный разрыв двух типов исторического мышления — поверяющего настоящее прошлым и поверяющего настоящее будущим, — христианство передает новому типу, основанному на вере в прогресс, свою изначальную устремленность в будущее — с той разницей, что это будущее уже не замыкается вечностью Спасения.
Однако прежде чем обсуждать восприятие истории, характерное для X╡X века, Артог обращается к творчеству человека, который, в отличие от Одиссея, «читал Августина» и усвоил христианские уроки, но переосмыслил их специфическим образом. Это французский писатель и политик Франсуа Рене де Шатобриан. Демонстрируя значение Шатобриана как своеобразной пограничной фигуры, Артог анализирует два его произведения: опубликованный в 1797 году в Лондоне, где он после Революции жил в эмиграции, «Исторический опыт о революциях древних и новых», и напечатанное тридцать лет спустя в Париже «Путешествие в Америку». Хотя в основе обеих книг лежат впечатления от одного и того же события — путешествия в Америку, которое Шатобриан предпринял в 1791–1792 годах, в них выразилось разное отношение ко времени и истории. В заглавии «Исторического опыта» заявлено намерение сравнить людей древнего и нового времени, но на самом деле Шатобриан проводит более сложное, трехчленное сравнение: он сопоставляет людей нового времени, древних и дикарей. При этом древние древним рознь: если древние скифы — такие же естественные люди, как и дикари, то древние «просвещенные» греки, по Шатобриану, — философы-развратители. Не случайно Шатобриан полемизирует с аббатом Бартелеми, автором предреволюционного «бестселлера» под названием «Путешествие юного Анахарсиса по Греции» (1788): герой Бартелеми прибывает из родной дикой Скифии в просвещенную Грецию и восхищается ею, а автобиографический герой Шатобриана, напротив, отправляется из просвещенной Францию в дикую Америку, в которой видит такой же оазис свободы, не испорченной философами-развратителями, каким когда-то была Скифия.
Впрочем, несмотря на полемику, Бартелеми и Шатобриан мыслят в данном случае одними и теми же категориями: в исторических фигурах, будь то древние скифы или древние греки, узнаются современные люди. Таким образом, в «Опы те» Шатобриан исходит по-прежнему из старинной теории «истории-наставницы», в рамках которой исторические образцы ценятся гораздо выше, чем события уникальные, неповторимые. Шатобриан открыто объявляет, что с помощью анализа революций прошлого намерен постичь сущность революций будущего. История при этом осмысливается им как замкнутый круг: все, что случилось некогда, повторяется вновь и вновь. Он, правда, осуждает деятелей Французской революции за то, что они подражали римлянам и афинянам, но их ошибку видит лишь в том, что они выбрали для подражания неподходящие образцы.
Однако если бы этим полностью исчерпывалось содержание книг Шатобриана, он не заслуживал бы специальной главы в книге о типах исторического мышления. Уже в «Опыте» 1797 года намечается и совершенно иное отношение ко времени — как к потоку, который человек пытается переплыть и, не имея возможности вернуться назад (в прошлое), не имеет и представления о том, что его ждет впереди (в будущем). Для Артога, который интересуется прежде всего типами исторического мышления и переходами от одного восприятия времени к другому, этот момент чрезвычайно важен: ведь анализируемые им книги Шатобриана — это те произведения, в которых совершается переход от времени замкнутого ко времени разомкнутому. В финале книги Шатобриан приходит к выводу, что восхваляемая им свобода американских дикарей (соотносимых с древними скифами) — не что иное, как утопия. Что же касается «Путешествия в Америку» 1827 года, то здесь Шатобриан идет еще дальше: он обнаруживает, что у Америки тоже есть история, и свобода американских дикарей ушла в прошлое так же, как свобода древних римлян. Более того, Шатобриан вводит очень важное различение двух типов свободы: древней («дщери нравов и добродетели») и новой («дщери просвещения и разума»). Эта оппозиция, естественно, не может гармонически сочетаться ни с теорией «истории-наставницы», помогающей понять настоящее с помощью примеров из прошлого, ни с восприятием истории как замкнутого круга. В 1827 году Шатобриан представляет историю совсем иначе; если раньше он считал, что человеческий ум заперт в пределах одного замкнутого круга, выйти из которого ему не суждено, то теперь утверждает, что человеческий ум постоянно раздвигает сферу, ему подвластную, чертит целую серию концентрических кругов, которые с каждым годом становятся все шире и шире. Шатобриан сам оповестил читателей о переменах, которые произошли в его восприятии истории: в ответ на упреки в безбожии и пессимизме он в 1826 году переиздал «Исторический опыт» 1797 года с примечаниями, в которых подверг свои прежние взгляды решительному пересмотру.
От «истории-наставницы» в это время отказывается не только Шатобриан. Нечто подобное происходит и с философом Константеном де Вольнеем, который в том же 1791 году, когда Шатобриан отправился в Америку, издал книгу «Руины, или Размышления о революциях в империях». Здесь повествователю является Гений руин, который призван помочь ему извлечь уроки из истории прошлого. Книга Вольнея проникнута оптимистической верой в будущее человечества, однако его подход к истории еще вполне соответствует концепции «истории-наставницы». Четыре года спустя Вольней также отправляется в Америку, но плодом этого путешествия становится отнюдь не пророчество грядущей свободы народов, а фактографическое «Описание климата и почв Соединенных Штатов», которое ничему не учит и не содержит никаких образцов для подражания. Как замечает Артог, «Гений руин замолчал навсегда».
Наконец, новый тип осмысления истории выражается в «Демократии в Америке» (1835) Алексиса де Токвиля. Для Токвиля американское политическое и об щественное устройство — это то будущее, которое — хотят европейцы этого или нет — ожидает Европу. Токвиль сохраняет форму, какой придерживались адепты «истории-наставницы»: он извлекает из того, о чем пишет, определенный урок. Однако в старую форму вложено новое содержание. Урок призвано дать не прошлое, а будущее. Старое историческое мышление, в рамках которого прошлое проливало свет на будущее, оказывается несостоятельным. Ему на смену, по убеждению Токвиля, должна прийти «новая политическая наука», проливающая свет на прошлое и настоящее с помощью предвидения будущего.
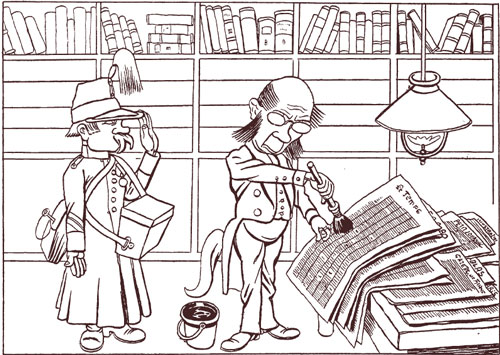
Различие между историческим мышлением до и после Французской революции Артог, вслед за Р. Козеллеком, определяет как различие между «историями» и «Историей». В первом случае история осмысляется как серия «примеров», которые, предлагая будущему образец для подражания, связывают его с прошлым. Во втором случае на смену примерам и образцам приходят единичные, неповторимые факты и события: прошлое не повторяется, прошлое — как, играя словами, пишет Артог, — остается в прошлом. Историки могут лишь пытаться отыскать в нем некие закономерности, причем ищут они их с помощью источника света, располагающегося в будущем; в зависимости от того, смотрят ли они на историю с точки зрения Нации, Народа, Республики, Общества или Пролетариата, уроки этой истории оказываются различными, но в любом случае при этом предполагается, что будущее окажется иным, чем прошлое, тогда как адепты «истории-наставницы» были уверены, что оно его в большей или меньшей степени повторяет.
Тип исторического мышления, постоянно подчеркивает Артог, это не нечто метафизическое и абстрактное, он самым непосредственным образом связан с тем отношением к прошлому, настоящему и будущему, которое господствует в данном обществе. И античная концепция «истории-наставницы», и христианская концепция истории были обращены в прошлое, ставили на первое место то, что уже было, уже свершилось. ХХ век стал веком торжества футуризма и презентизма. Футуризмом Артог называет не течение в искусстве (хотя на идеолога футуризма в этом более узком смысле, итальянца Маринетти, он несколько раз ссылается), а отношение к времени, пронизывающее все общество, подчинение всего, что в нем происходит, будущему, своеобразный культ будущего. В последней трети ХХ века футуризм сменяется презентизмом: общество делает предметом культа настоящее. Разумеется, презентизм возник не в ХХ веке; его сторонниками можно назвать античных эпикурейцев и стоиков; знаменитая фраза Гете из «Фауста» («Остановись, мгновенье…») — тоже своеобразное выражение презентистского отношения ко времени. Однако в рамках иудеохристианской традиции отношение к настоящему в целом двусмысленно: настоящее здесь имеет цену не само по себе, но лишь в качестве времени, посвященного ожиданию Мессии, который может явиться в любую минуту.
Итак, ХХ век Артог описывает как эпоху не только футуризма, но и презентизма. Он цитирует самых разных авторов, которые от собственного лица или устами своих героев утверждают: прошлое — ничто, существует только настоящее (таким отношением ко времени проникнуты и «Имморалист» А. Жида, и «Тошнота» Сартра, и вообще философия экзистенциализма). Впрочем, тот тип презентизма, который утверждается в конце ХХ века, не схож ни со стоицизмом, ни с мессианством, ни с экзистенциализмом; в его основе лежит разочарование во всех иллюзиях и идеалах: там, где не остается веры ни в революционную идею, ни в социалистическое государство, ни в лучшее будущее, ценность приобретают только сиюминутные ощущения. Артог перечисляет самые разные виды и проявления этого «бытового» презентизма: от мироощущения безработного клошара до психологии туриста, от косметических средств против старения до интернеттехнологий.
Однако это самое «обожествленное» настоящее ведет себя очень своеобразно: ему недостаточно быть просто настоящим, оно хочет немедленно заручиться местом в истории, запечатлеть себя в ней. Политические деятели сознательно строят свою биографию как цепь «исторических» выступлений и деяний. С другой стороны, настоящее нуждается в интерпретациях. В дело вступают эксперты — историки и социологи, которые основывают свои суждения на социологических опросах за определенный период; таким образом, прошлое (хотя бы ближайшее) постепенно обретает утраченную было ценность. Прошлое берет реванш и в других сферах: в 1980-е годы европейцы начинают всерьез тревожиться о сохранении памятников старины и проявляют повышенный интерес к собственным корням (генеалогия, архивные разыскания). Эту смену оценок Артог иллюстрирует, среди прочего, судьбой знаменитого парижского Центрального рынка («Чрева Парижа»): в 1959 году было решено перенести рынок из центра города на окраину (на том месте, откуда его убрали, сначала собирались построить ультрасовременные небоскребы, потом долгое время не строили ничего и наконец в начале 80-х разбили сквер над подземным торговым центром). Если бы дело происходило несколькими годами позже, замечает Артог, то Рынок непременно сохранили бы как ценное наследие X╡X века — не столько из почтения к ушедшему веку как таковому, сколько из стремления внести в сегодняшний век еще и эту краску. Ибо понятия «память», «наследие» и «юбилейные торжества» (commemoration) становятся в 80-е годы ключевыми. С их помощью нация, исповедующая презентизм, пытается освятить собственную сегодняшнюю идентичность.
Чем более значимую роль играет память, тем важнее становится определить соотношение между памятью и историей. Представители истории-науки, как ее понимали в X╡X веке, были убеждены, что между историей и памятью пролегает пропасть: историк работает с письменными документами прошлого, хранящими ся в архивах; мемуарист предлагает субъективную и современную версию недавних событий. Создатели новых течений в историографии ХХ века, таких как история ментальностей или историческая антропология, также предпочитали иметь дело с явлениями, удаленными от них самих не только в пространстве, но и во времени. Сближению истории и памяти способствовало воскрешение Пьером Нора и его единомышленниками понятия «коллективная память», введенного в 1920-е годы Морисом Хальбваксом. Хальбвакс, однако, противопоставлял изучение коллективной памяти, происходящее по свежим следам, работе историка, который приходит уже после того, как определенная эпоха завершилась, «умерла». Нора, напротив, задумал примирить память и историю, он решил превратить изучение коллективной памяти в своеобразный аналог истории ментальностей, предназначенный для исследования Новейшего времени. Нора предложил изучать топографические, монументальные, символические, функциональные «места», с которыми общество связывает свои воспоминания, и создавать историю этих своеобразных «мемориалов». Первый набросок этих идей Пьер Нора опубликовал в коллективном сборнике «Новая история» (1978), за которым последовал сборник «Памятные места» (1984–1992). В этом сборнике само понятие памяти подвергается переосмыслению: память ставится на службу презентизму, она, по словам Нора, перестает быть «совокупностью элементов прошлого, которые следует запомнить, дабы приготовить почву для желанного будущего; она становится способом осознать собственное настоящее». Речь при этом идет об «истории второго уровня», изучающей не только и не столько события, сколько их отражения в памяти нации, — об истории символических «общих мест», в которых запечатлено прошлое, так или иначе востребованное настоящим. Таковы, например, республиканские «общие места»: трехцветное знамя, 14 июля, Пантеон и проч. Само понятие «места» здесь восходит к античной ораторской практике; в каноническом виде — к Цицерону, который предлагал оратору, готовящему речь, мысленно расставлять «образы» того, о чем он хочет говорить, в реальных и легко запоминаемых местах (loci) — в комнатах дома, пространствах между колоннами и т. п., — причем эти образы должны быть не смутными, а живыми, действенными (imagines agentes). У Цицерона места — готовая данность, творится же, конструируется речь оратора. Напротив, «места», о которых говорит Нора, данностью не являются, они конструируются и постоянно реконструируются по мере того, как развивается общество, и порождают самые разнообразные реакции, которые также подлежат изучению. «Памятные места», собственно говоря, достойны исследования только в том случае, когда они по-прежнему живы и действенны. Они теперь и становятся подобием imagines agentes: если оратор выбирал места, чтобы запомнить свою речь, то историк «памятных мест», наоборот, старается понять то, что эти места «говорят».
Одним из «памятных мест» оказывается сама история Франция, какой она представала в трудах историков X╡X века. Все эти историки-публицисты, от Огюстена Тьери и Жюля Мишле до Габриэля Моно (издателя журнала «Ревю историк», первый номер которого вышел в 1876 году) и Эрнеста Лависса, автора «Истории Франции» (1900–1912), писали о прошлом нации ради будущего, заботясь о легитимации нового, послереволюционного режима. В историях нации прошлое страны меняло хозяина: если раньше это прошлое считалось принадлежащим королям, теперь оно осмыслялось как прошлое нации и/или республики.
Формой реакции на доминировавшие в X╡X веке национальные истории стало рождение в ХХ веке историй социальных (в своей первой лекции в Страсбургском университете в 1919 году Люсьен Февр специально подчеркнул, что не жела ет становиться «миссионером национального Евангелия»). Национальные истории писались с точки зрения и во имя будущего. Социальные истории их дополняли и опровергали. Наконец, в исторических исследованиях конца ХХ века национальные истории сами сделались предметом исторического исследования. В «Памятных местах» Пьера Нора и его единомышленников рассказ о создании этих историй, а также о формировании других национальных символов ведется с точки зрения и в интересах настоящего, ведется ради того, чтобы лучше понять и объяснить это настоящее. Поэтому историк перестает быть пророком, угадывающим в прошлом очертания будущего, посредником между прошлым и будущим, каким он был в X╡X веке. Если он и посредничает, то только между современниками, чью историю он пишет, выбирая в прошлом то, что сохранила память сегодняшнего общества, и пренебрегая тем, что для этого общества утратило интерес (например, после 1914 года такие категории, как «франки» и «галлы», перестали быть «памятными местами» для французской нации). В этом Артог видит еще один симптом того, что он называет сегодняшним презентизмом. Концепция «памятных мест» обязана сегодняшнему дню многим: среди прочего тем, что в ней нет места бессознательному. Если бы, предполагает Артог, Нора задумал труд о «памятных местах» в 1960-е годы, в нем наверняка играли бы большую роль ляпсусы, провалы в памяти, искажения, невольные обманы и проч. Напротив, в «Памятных местах» исследователей интересуют не те элементы бессознательного, которые, возможно, скрывает в себе память о том или ином символическом «месте», но лишь то, по какой причине это символическое «место» вошло в светлое поле сознания. Нора и его единомышленники рассказывают о том, что нация помнит, а не о том, что она стремится забыть.

В современном восприятии прошлого огромную роль играет понятие «наследия» (patrimoine). Артог прослеживает его этимологию и историю, опираясь на введенное французским историком польского происхождения Кшиштофом Помьяном понятие «семиофоров». Семиофоры — это материальные следы прошлого, объекты, в которых находит материальное воплощение то прошлое, с которым общество не желает полностью расставаться в настоящем. В Европе такими «следами» стали мощи святых и мучеников, а также другие священные реликвии: они принадлежат прошлому и напоминают о нем, но одновременно являются частью христианских ритуалов, совершающихся в настоящем; это всегда современные «живые образы» и «памятные места».
Понятие «наследия» меняло свое значение с течением времени и подчас служило предметом яростных споров о том, как, где и ради чего это наследие хранить. Так, во время Французской революции многие античные произведения искусства (римское «наследие») были перенесены из Рима в Париж. Историк искусства Антуан Катремер де Кенси считал такое насильственное перемещение преступлением против науки и просвещения. Другие французские авторы того времени, напротив, полагали, что наследию греческих республик пристало находиться не в стране рабов, а в стране, освободившейся от тиранов. Точно так же обстояло дело и с собственно французским «наследием»: тот же Катремер де Кенси жестоко критиковал деятельность Александра Ленуара, основавшего музей французских памятников — собрание фрагментов разоренных французских церквей. Для Катремера это означало «убивать искусство, превращая его в историю, а точнее сказать, в эпитафию», для других же мыслителей эта деятельность ничем не противоречила общей линии поведения революционного правительства, которое следом за переменой власти производило перемену собственности: то, что прежде принадлежало королю, — Королевская библиотека, Королевский архив и проч., — становилось наследием нации. Сторонники этой концепции «присваивали» и сохраняли прошлое ради будущего, причем так мыслили не только революционеры. Упоминавшийся выше Шатобриан выпускает в 1802 году трактат «Гений христианства», который описывает памятники религиозного прошлого Франции — разоренную усыпальницу французских королей Сен-Дени, готические соборы — не только для того, чтобы оплакать навсегда ушедшую цивилизацию, но и для того, чтобы указать французам путь в будущее, которое Шатобриану видится религиозным, католическим.
В последней главе книги Артог описывает те трансформации, которые произошли с понятием «наследия» во второй половине ХХ века. Во-первых, под наследием постепенно начали понимать не только шедевры искусства или памятники истории, но и любые творения определенной культуры, определенного региона, определенного социального слоя. Понятие наследия расширяется и децентрализуется так стремительно, что исследователям памятников архитектуры приходится специально предупреждать: произведения ныне живущих архитекторов не должны считаться историческими памятниками. Между тем настоящий момент, как уже сказано, страстно желает «историзировать» себя — потому-то архитектурные новинки и воспринимаются как памятники. Более того, совсем молодые города, которые не успели нажить никакого наследия, создают его специально, обустраивают площади и площадки, призванные придать городу индивидуальность, обеспечить его «идентичностью». Кроме того, идет активный процесс превращения памятника в место памяти, в мемориал, в котором память должна оживать. Музеи, которые можно только осматривать, превращаются в музеи, где можно жить, вступая с их экспонатами в непосредственный и активный контакт. Это и есть тот процесс, который Артог называет «презентистским использованием прошлого».
Наконец, последним этапом расширения понятия «наследие» становится распространение не только на культурные, но и на природные объекты. Природа теперь тоже воспринимается как наследие, которое надлежит охранять, — отсю да экологические музеи-заповедники. На первый взгляд в этом случае понимание наследия решительно отличается от того, каким руководствовались христиане, сохранявшие священные реликвии, или люди эпохи Возрождения, проявлявшие внимание к памятникам античности. Но, пишет Артог, интерес ко всякому наследию по существу базируется на одном и том же отношении к времени и, в частности, к прошлому: в основе его лежит ощущение разрыва между настоящим и прошлым и вытекающая из этого ощущения потребность сохранять «следы» этого безвозвратно ушедшего прошлого, а стало быть сберегать или создавать «семиофоры», в которых такие следы запечатлены. Свою роль в процессе сохранения наследия, тем более понимаемого максимально широко, играет и будущее: подход к окружающей среде как к наследию предполагает заботу о будущем; однако в конце ХХ века восприятие будущего кардинально изменилось: если раньше оно было средоточием надежд, то теперь сделалось потенциальным источником угрозы.
Шарль Пеги писал: «Скажи мне, как ты оцениваешь настоящее, и я скажу тебе, какую философию ты исповедуешь». О сегодняшней оценке настоящего дают представление два новейших принципа отношения к окружающему миру, выдвинутых в самые последние годы: «принцип ответственности», предложенный философом Гансом Йонасом в одноименной книге 1979 года, и «принцип предосторожности» (Артог упоминает в этой связи ряд работ конца 90-х годов Оливье Годара и других ученых). Оба этих принципа, считает Артог, распространяют настоящее в сторону будущего и в сторону прошлого (ибо современным людям предлагается быть ответственными не только за сбережение наследия прошлого, но и за сохранение жизни и культуры на земле в будущем). Современный презентизм — это такое ощущение времени, при котором настоящее перестает восприниматься как «лакуна», «брешь» между прошлым и будущим, как период, «полностью детерминированный тем, что уже исчезло, и тем, что еще не родилось» (Х. Арендт). Современный презентизм предполагает, что настоящее должно быть детерминировано только им самим и что настоящее определяет, детерминирует как прошлое (что именно мы вспоминаем и сохраняем), так и будущее (что именно мы строим и какую участь готовим человечеству). Таков, заключает Артог, сегодняшний презентизм — восприятие времени людьми, ответственными за прошлое и будущее.
Вера Мильчина
[*] Francois Hartog. Regimes d’historicite. Presentisme et experiences du temps. Paris: Editions du Seuil, 2003.
Франсуа Артог — историк, заведующий сектором в Высшей школе социальных исследований, автор книг «Зеркало Геродота», 1980; «Память Одиссея», 1996; «X╡X век и История. Случай Фюстеля де Куланжа», 2001, и др.
[1] В научной литературе чаще встречается иной, буквальный вариант перевода этого выражения: «Места памяти». См., например, переводы нескольких статей из этого коллективного труда в кн.: Франция-память. СПб., 1999 (перевод Д. Хапаевой); см. также: Франсуа Э. «Места памяти» по-немецки: как писать их историю? // Ab imperio. 2004. № 1. С. 29–43. В этой статье, опубликованной в моем переводе, редакторы журнала «Ab Imperio» сочли необходимым заменить «памятные места» «местами памяти» на том основании, что этот вариант «уже прижился в русской научной речи». Мне, напротив, представляется, что прижился он еще не настолько прочно, и самое время заменить его на менее буквалистский и более органичный вариант «памятные места», — тем более что это значение, не полностью совпадая с тем смыслом, какой вкладывает в «lieux de memoire» П. Нора, все же безусловно входит в него как один из семантических компонентов. Иными словами, русский читатель, как и французский, все равно должен понимать это словосочетание расширительно и метафорически, а вариант «места памяти» к такому пониманию нисколько не приближает (более подробно о смысле этого выражения в употреблении П. Нора см. ниже настоящий реферат).
[2] Об Одиссее в концепции Артога см. подробнее: Артог Ф. Слезы Одиссея // Homo historicus. К 80-летию со дня рождения Ю. Л. Бессмертного. М.: Наука, 2003.
Кн. 1. С. 361–371.