Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 2, 2004
[*]
Русский порядок
Под «русским порядком» обычно понимают сильное государство, которое управляется авторитарными методами и предельно стесняет общество. Но если вдуматься, такой порядок подразумевает как раз слабость государства — этой невыносимой слабостью он пропитан и одухотворен. Лучшее подтверждение тому — разброд и шатания «переходного периода» конца ХХ — начала ХХI века. Новый порядок, какой складывался при Ельцине и сложился при Путине, оказался куда более традиционным, чем можно было бы ожидать поначалу. Но традиционным не в смысле каких-то политических учреждений, не в смысле какого-то конкретного институционального наследства. Скорее нужно вести речь об этнических константах, адаптационно-деятельностных стереотипах, которые переносятся на новые институты и воспроизводятся в изменившихся социальных обстоятельствах[1].
Исторические периоды, подобные последнему десятилетию прошлого века, в России называют «смутным временем». Смутное время — это состояние ослабленности государства, когда его граждане воюют друг с другом, причем и те, кого вынесло наверх, и те, кто остался внизу, горько сетуют на эту слабость. Тотальный кризис государственных и социальных структур, начавшийся после развала СССР, в сочетании с аномией и апатией населения породил острый социальнополитический конфликт. Присмотримся к характеру этого конфликта и к тому способу преодоления кризиса, который сегодня нашло российское общество.
В постсоветском — иначе говоря, постноменклатурном[2] — обществе существует лишь один принципиальный разлом: оно распалось на тех, кто идентифицирует себя с советским строем, и тех, кто с ним окончательно и бесповоротно простился[3].
Поэтому КПРФ, политически представляющая первую часть населения (гораздо более однородную, чем вторая), является единственной массовой партией в России.
Социальную базу КПРФ можно определить как госклиентелу. Как и положено классической партии, КПРФ выражает интересы социального слоя, который она представляет, в соответствующей идеологии, которая сводится к триаде: «госсобственность, госбезопасность, гособеспечение». В отличие от партий-наследниц в других посткоммунистических странах, КПРФ не эволюционирует в социал-демократическом направлении. Объясняется это не только идеологическим догматизмом партии и характером выражаемых ею интересов госклиентелы, но и социальной психологией той части россиян, которая желает оставаться «советским народом». Мы наблюдаем, по сути, некую вариацию «русского раскола». В соответствии со стереотипами национального поведения новое государство подвергается тотальному мировоззренческому отрицанию. Такое мироощущение предполагает отнюдь не стремление приспособиться к изменившимся условиям, улучшить свой имущественный и социальный статус, но упорное — «до конца» — противостояние «царю Антихристу» и его слугам.
Важнейшим политическим институтом новой России стал всенародно избираемый и облеченный мощной властью президент. Беспроблемное и быстрое утверждение института президента в постсоветском обществе нетрудно объяснить свойственным россиянам «государьственным» адаптационно-деятельностным стереотипом. При этом речь идет не о механическом переносе и простом воспроизведении старого, но об акте исторического синтеза, который доказывает способность россиян к государственному творчеству.
Соглашаясь с тем, что России нужен «сильный» президент, нельзя не заметить, что причина этого заключается как раз в том, что он политически и символически скрепляет плохо организованный, атомизированный социум. Ключевая политическая проблема России — не то, что государственная интеграция, идентификация и коммуникация осуществляются посредством института «сильного президента», а то, что иные институциональные скрепы общества крайне слабы. Важно чувствовать глубокую противоречивость и драматизм этой национальной константы. Важно понимать и продуктивно осмыслять и необходимость, и недостаточность идеи «сильного (народного) государя» для национального развития, их неразрывную связь друг с другом.
Действительно, оборотной стороной этой идеи является восприятие государства как «дела государева», а не как своего и общего, т. е. гражданского дела. Общим делом российское государство становится лишь в те моменты, когда нужно спасать Отечество. Обычно же население России занято исключительно своими частными делами, применяясь к установленным свыше правилам и обстоятельствам (в дореволюционной России существовали так называемые «мирские», общинные дела, но после коллективизации и индустриализации о них не может быть речи). Преодоление обстоятельств и правил — ядро российского образа жизни.
Неудивительно, что и российские власти, устанавливающие правила, и российский народ, обходящий правила, всегда мечтают о «государственном порядке». Обнаруживая всякий раз отсутствие «настоящего» государственного порядка, власти и народ обвиняют друг друга. Все убеждены, что русский порядок — это прежде всего и главным образом государственный порядок. Такова наша навязчивая идея, обретшая силу практической иллюзии, ставшая настоящим мифом. Чтобы понять мифическую природу этого концепта, нужно перейти от «макросоциологии» к анализу обычных практик социального взаимодействия.
Аномия и «связи»
Определение «постсоветское общество», которым мы пользовались в 90-е годы, обозначало продукт разложения номенклатурно организованного социума в отсутствие альтернативных форм общественной самоорганизации — иного содержания у этого понятия не было. Именно слабость общественной самоорганизации, бедность социального капитала россиян обусловили особую глубину и тяжесть постсоветской аномии. Они же стали главной помехой на пути к новой институционализации. Россияне, правда, довольно быстро привыкают действовать в новой институциональной среде. Однако в терпимости населения к новым учреждениям слишком много отчуждения и безразличия, чтобы считать это привыкание формой подлинной социальной укорененности. Слабость же общественного участия и контроля извращает саму сущность демократических институтов и неизбежно ведет к их деградации.
Как убедительно показали социологи, «человек постсоветский» отнюдь не является носителем традиционного общинного сознания или социалистического коллективизма. Обычно это рассчитывающий только на себя и своих ближних индивидуалист, не свободный, впрочем, от государственно-патерналистского комплекса[4]. Зададимся вопросом: каким образом россияне, не имея привычки и стремления к общественной деятельности, достигают желаемых социальных результатов?
Абсолютное большинство соотечественников полагает, что лучший способ добиться чего-либо в жизни — это личные связи. По данным РОМИР, в 90-х годах число респондентов, ориентированных главным образом на личные связи, выросло с 74 до 84 процентов[5]. Здесь важны и порядок цифр, и тенденция — они прямо указывают на существование социальной нормы, которую, пользуясь выражением М. Мосса, можно назвать тотальным социальным фактом. Речь идет о глубоко укорененном, устойчиво воспроизводимом в массовых практиках неофициальном институте, который признается значительно более эффективным, нежели институты официальные[6].
Актуализация частных связей, обеспечивающих в эпохи институциональных кризисов и трансформаций солидарность и взаимовыгодную деятельность партнеров, — явление закономерное, хорошо описанное в исторической, антропологической, социологической и политологической литературе. Мы знаем, что в известных условиях такие связи могут подменять и даже подминать институты родоплеменного порядка, полисно-гражданской или имперской государственности. Классический пример — сеньориальные и вассальные отношения в эпоху европейского феодализма.
В институциональном контексте модернизированных и модернизирующихся обществ личные связи обычно утрачивают сакральную санкцию и становятся неформальными, а нередко и «теневыми». Как и вся жизнь общества, они испытывают воздействие растущего отчуждения индивида. Коммерциализация социальных отношений и ослабление идеологического обоснования делают их все более необязательными, подвижными, неустойчивыми, личный обмен деятельностью в значительной мере трансформируется в куплю-продажу услуг. Некогда сакральное дарение превращается во взятку, ритуальная «почесть» — в тривиальный подкуп.
Однако растущую непрочность личных связей и изменчивость порождаемых ими социальных сетей не следует принимать за отмирание данного типа отношений как устойчивой «матрицы» социальных взаимодействий. Кроме того, неформальные персональные связи, при всей их коммерциализации и монетаризации, никогда не сводятся к платным услугам и подкупу как таковым[7], поскольку не просто обеспечивают контрагентов необходимыми и желаемыми ресурсами, но также — и это главное — удовлетворяют их потребность в доверии[8]. Дефицит доверия ощущается в сложноорганизованном обществе всегда, а при институциональных кризисах особенно остро. Поэтому не стоит рассматривать личные связи как некое маргинальное явление — они являются ответом на сущностное противоречие общественной жизни, попыткой преодолеть или компенсировать социальное отчуждение.
Неформальные персональные связи могут быть родственными (порождаемые ими социальные сети в литературе называют парентелой), дружескими (они порождают так называемые амикальные группы) или союзническими (на их основе возникают всевозможные «политические альянсы»). Однако в современном обществе чаще всего такие связи не предполагают родственных или дружеских отношений между партнерами и определяются только разными ресурсами власти и влияния, которыми те обладают. Иначе говоря, эти связи воспроизводят хорошо знакомые роли патрона и клиента. Они противоречиво соединяют в себе солидарность и личную зависимость, стремление к установлению доверительных, квазиродственных отношений и обмен ресурсами, нужными для повышения или подтверждения социального статуса.
Следует подчеркнуть, что клиентарные отношения могут формировать обширные социальные сети, иерархически организуя социальное пространство. Так, в модернизирующихся политиях Востока за современным институциональным дизайном проглядывают традиционные пирамидально выстроенные патронаты[9]. В российском обществе основными игроками на поле властных отношений выступают более подвижные и не столь долговечные акторы — это персонально ориентированные «команды», которые всегда ищут покровителей («крышу») и периодически их меняют. Таким образом, персональные вертикальные и горизонтальные связи вполне могут обеспечить масштабную инфраструктуру для властных взаимодействий и обмена ресурсами.
Проблема вовсе не в непреодолимой локальности (чисто технически она как раз преодолима), но в самой логике подобных отношений. Включение в клиентарные группировки отнюдь не ведет к социализации эгоистического индивида, не преодолевает столь характерный для россиян «нелиберальный», «потребительский», «агрессивный» индивидуализм. Обретаемая в клиентарных отношениях первобытная микрогрупповая солидарность замешана на деспотизме и потестарности — такая солидарность, активно противопоставленная гражданским отношениям и институтам, не укрепляет, а разрушает цивилизацию.
Российский патронат — порождение переходного периода
Анализ стандартных практик социального взаимодействия позволяет уточнить характеристику господствующего слоя современного российского общества. Истинно концептуальное его определение не может ограничиваться метафорами («неономенклатура», «кланы», «картели») или тавтологиями (элита, господствующий класс), но должно выражать конкретно-историческое и конкретносоциологическое содержание асимметричных отношений власти, которые всегда связывают носителей разных потенциалов социальной мощи. Говоря точнее, оно должно учитывать характер присвоения, владения и обмена ресурсами, а также средств господства, реализованных в официальных и/или неофициальных институтах, обычных практиках власти. Речь, конечно, идет не о всей совокупности присутствующих в обществе властных отношений, а о наиболее типичных отношениях. При этом имеются в виду как отношения между управляющими и управляемыми, так и отношения внутри господствующего слоя, которые этот слой определенным образом структурируют и организуют.
Именно поэтому форма господства и господствующий слой в России переходного периода были определены мною как постноменклатурный патронат. Это определение отражает генезис и развитие актуального типа господства, которое представляет собой результат приватизации социального могущества распавшейся номенклатуры, по-прежнему синкретически соединяющего политическую и экономическую власть. Кроме того, оно указывает на патерналистский, «семейный», неформальный характер господства, устойчиво воспроизводимый в практике отношений управляющих и управляемых. Наконец, наше определение характеризует наиболее действенные средства господства и обмена ресурсами — патрон-клиентные связи, частные союзы защиты и поддержки («команды» и «крыши»). В условиях институциональной неопределенности личные связи и клиентарно организованные социальные сети восполняют «дефицит государства». В то же время они подрывают официальные публичные институты, лишая их гражданского правового содержания.
Предложенная концепция пригодна как для конкретного анализа кадровой политики и структурных преобразований в послесоветской России, так и для обобщенной характеристики главных тенденций современного национального развития. С ее помощью можно раскрыть реальное общественно-политическое содержание «переходного периода». Это содержание определяют приватизация (если рассматривать логику отношений) и локализация (если рассматривать политическое пространство) социальной мощи распавшейся номенклатуры при заимствовании и адаптации современного институционального дизайна и коммуникативных технологий[10].
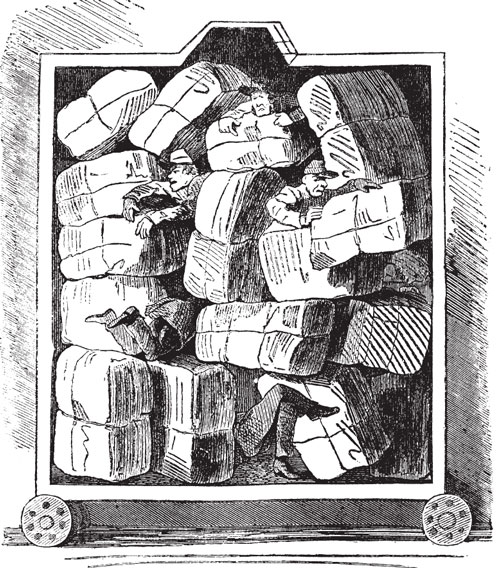
Россия действительно совершила важнейший социальный переход, однако совсем не тот, о котором говорили специалисты по демократическому транзиту. Уже тот факт, что общественно-политическую ситуацию «постъельцинской» («путинской») эпохи можно в зависимости от желания — и с равным успехом — описывать либо как окончательное снятие угрозы коммунистической реставрации, либо как крах демократизации, показывает, что «переходно-возвратная» парадигма анализа не соответствует реальному содержанию социального процесса.
В стране произошла консолидация определенного властного режима и, шире, определенного социального порядка. Как в господствующем слое, так и в обществе в целом «сформировалось вполне определенное понимание законов вертикальной мобильности: путь наверх невозможен без нужных связей и денег, при том что деньги часто являются производной от связей»[11]. В своих повседневных взаимодействиях россияне руководствуются именно этим «пониманием» и этими «законами». Как явствует из приведенных выше социологических данных, доля сограждан, ориентирующихся в своем социальном поведении главным образом на «связи», составляет абсолютное большинство, причем за десятилетие экономических и политических реформ эта доля отнюдь не уменьшилась, а увеличилась.
Российский правящий слой, сложившийся в послесоветское время на основе приватизации административной и природной ренты, адаптировался к современному институциональному дизайну и перекроил его «под себя». Существующие институциональные рамки обеспечивают, с одной стороны, дозированную степень конкурентности и открытости, а с другой — постоянное воспроизводство и определяющее значение личных связей, теневых согласований и клиентарных сетей. За годы переходного периода произошло значительное омоложение господствующего слоя, а также консолидация поколений «номенклатурщиков» и «новых русских». Стабилизировав свою власть и социальные роли, российские правители остановили волну институциональных преобразований.
Передача президентской власти прошла согласно патримониальной традиции и обошлась без сколько-нибудь энергичной дискуссии об организации власти и общественной жизни. В то время как позиция КПРФ утрачивала былую идеологическую однозначность, отечественный истеблишмент формировал все более консервативную и реставрационную политическую повестку дня: выборы президента на Совете Федерации, возврат к назначению губернаторов, отмена местного самоуправления и т. п. Официальный преемник Б. Н. Ельцина В. В. Путин, назначенный премьер-министром за полгода до досрочных президентских выборов, не высказывался сколь-либо ясно по институциональным вопросам, а главным лозунгом своей предвыборной кампании сделал укрепление государственного порядка. В обществе, уставшем жить «без государства», этого оказалось достаточно для убедительной победы на выборах.
Патронат при Путине
Путин, которого несла к власти высокая волна рейтинга, получил гигантскую фору: ему не нужно было долго договариваться с региональной элитой и ее задабривать. Кроме того, бывший советский чекист и петербургский чиновник Владимир Путин не был выходцем из высшей региональной номенклатуры, как другие лидеры страны в последние полвека — от Хрущева до Ельцина. Не связанный с региональным начальством ни узами корпоративной солидарности, ни политическими «кондициями», Путин в то же время хорошо запомнил впечатляющие демонстрации политической силы сенаторов в той ситуации, когда он был слаб и зависим. Неудивительно, что первые действия нового хозяина Кремля оказались больше похожими на атаку в политической войне за ельцинское наследство, чем на выверенную государственную реформу.
Указ Президента РФ № 849 от 13 мая 2000 года «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» был принят без какого бы то ни было предварительного обсуждения в политических и экспертных кругах. Парадоксально, но в указе нет ответа на вопрос: что такое федеральный округ? Неясно, каков статус этой территориальной единицы, какие именно федеральные функции — контрольные, правоохранительные, военные, судебные, управленческие — она должна реализовать. Округа фактически были введены только для того, чтобы обозначить зоны ответственности семи президентских полпредов, распределить не вполне ясно формализуемую власть.
Само отнесение регионов к тому или иному федеральному округу невольно заставляет вспомнить слово «волюнтаризм», так как идет вразрез с историческими традициями и сложившимися экономическими связями. Астраханские, волгоградские, пермские и тюменские власти, ссылаясь на историко-культурные, экономические и управленческие реалии, обращались к Путину с просьбами «вернуть» их области соответственно в Поволжье, на Урал и в Западную Сибирь, однако просьбы эти остались без ответа.
Первоочередным политическим поручением президента Путина своим представителям стало выявление и устранение противоречий между региональными нормативными актами и федеральной конституцией и законами. На деле основную работу по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным выполняли органы министерства юстиции и прокуратуры. Полпреды же осуществляли общий политический контроль, одергивали наиболее упрямых региональных лидеров и докладывали президенту о результатах.
Пожалуй, самым заметным последствием введения федеральных округов стала перестройка структуры федеральных органов власти: в первую очередь прокуратуры, а затем таможни, налоговой полиции, министерства юстиции и министерства внутренних дел. Были учреждены (наряду с существующим центральным аппаратом и региональными структурами) семь окружных управлений и семь должностей заместителей руководителя соответствующего федерального органа. О своей «окружной реформе» заявила даже Счетная палата, хотя это орган не исполнительной власти, а парламентского контроля.
Важной политической задачей полпредов и целью ведомственных реорганизаций было восстановление контроля над территориальными структурами федеральных органов власти, прежде всего силовых ведомств, которые за годы ельцинского правления были приручены региональными руководителями и «вросли» в региональные элиты. Жесткое центральное подчинение правоохранительных органов было установлено поправками к Закону о милиции и Закону о прокуратуре. Но эти поправки были приняты уже после назначения полпредов и реорганизации силовых ведомств. К тому же в российской бюрократической традиции близкое местонахождение и персональное присутствие начальника играют далеко не последнюю роль.
Лояльность руководителей силовых территориальных структур, по-видимому, обеспечена. А вот эффективность работы этих органов аппаратные нововведения явно не повысили. Между тем полпреды президента должны были не только обуздать криминал и коррупцию: им поручались и планирование экономического развития, и подготовка предложений для комиссии Д. Н. Козака по разграничению полномочий разных уровней власти, и контроль за использованием в регионах федеральных субсидий и дотаций. Полпреды и их команды действительно пытались превратить округа чуть ли не в новые совнархозы, однако эти попытки были блокированы правительством и руководством президентской администрации. К концу первой путинской четырехлетки бюрократическая искусственность и неэффективность института окружных полпредов (или полпредских округов) стали очевидны. Девальвации этого института способствовал и сам президент, использовав пост полпреда в Северо-Западном ФО как пересадочную площадку для продвижения В. И. Матвиенко в кресло петербургского губернатора, а затем для трудоустройства отставного министра.
Одновременно с введением федеральных округов Путин осуществил реформу Совета Федерации. Модель «Президент + выборная Государственная дума + палата регионального начальства» была формулой правления Б. Н. Ельцина. «Непредсказуемый» Ельцин последовательно выдерживал неформальный договор с региональной элитой, пережившей при первом президенте высший взлет своего могущества. Вряд ли кто из российских сенаторов, готовившихся делить ельцинское наследство, предполагал, что сам ельцинский сенат окажется атрибутом «переходного периода». Тем не менее Путин на удивление легко лишил региональных лидеров сенаторского статуса (в том числе парламентского иммунитета). Теперь обеспечена такая послушность членов палаты, что она вообще перестала быть институтом представительства и согласования региональных интересов и, соответственно, утратила самостоятельную роль, предназначенную ей в системе конституционного разделения власти.
Третьим китом федеративной реформы Путина стало законодательное закрепление ответственности органов государственной власти регионов и органов местного самоуправления перед федеральным центром. Президент наделен правом отмены актов органов исполнительной власти субъектов Федерации, противоречащих Конституции и федеральным законам. Предусмотрена возможность роспуска региональной легислатуры законом федерального парламента, возможность временного отстранения и отрешения от должности главы субъекта Федерации президентом России. Установлена ответственность представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных образований за издание нормативных правовых актов, противоречащих конституции, федеральному и региональному законодательству. Если данный акт не отменен своевременно и повлек вред, установленный судом, то местный представительный орган может быть распущен, а глава муниципального образования может быть отрешен от должности решением высшего должностного лица субъекта Федерации либо президентом России.
Что касается «законов Козака» о разграничении компетенции федеральных, региональных и местных органов власти, то они призваны завершить упорядочение российской власти, осуществив полную бюрократическую опись государственных полномочий. Впрочем, реальная мера самостоятельности того или иного уровня власти определяется не столько формальным перечнем полномочий, сколько бюджетно-финансовой базой их деятельности, а определять эту базу (и эту меру) теперь практически монопольно может Администрация Президента РФ.

Уверенно идя по пути централизации власти, Путин сам определил границы и условия президентского вмешательства в дела регионального начальства. Второго президента, как и первого, не слишком волнуют антидемократические тенденции в регионах и противоправные действия их руководителей, если последние демонстрируют свою лояльность федеральному руководству. По разным причинам многие региональные лидеры подвергались давлению со стороны президентской администрации, но лишь единицы, причем не самые сильные и авторитетные, были целенаправленно устранены со своих постов. Во всех остальных случаях региональным лидерам достаточно было учесть интересы тех или иных близких президенту групп и подтвердить личную лояльность, чтобы обвинения — в политической неблагонадежности или в коррупции — были сняты. При этом норма закона, устанавливающая, что главы регионов могут избираться на свой пост не более двух раз подряд, превратилась в предмет весьма некрасивых политических манипуляций, позволивших почти всем нынешним главам регионов ее обойти.
Укрощение «региональных баронов» было главной, но не единственной целью войны за верховенство центра. Путин обещал «удалить олигархов от власти» и подтвердил это намерение жесткими действиями в отношении двух знаковых, наиболее политизированных фигур бывшей «семибанкирщины» — Владимира Гусинского и Бориса Березовского. К ЛУКойлу, группе «Интеррос» и некоторым другим корпорациям был также продемонстрирован интерес со стороны прокуратуры и Счетной палаты, но в дальнейшем вопросы были сняты. Перед новым циклом парламентских и президентских выборов Путин сокрушил амбициозный проект Михаила Ходорковского по формированию крупнейшей в России частной корпорации («ЮКОС-Сибнефть») и крупнейшей лоббистской сети, конкурирующей с президентской администрацией.
«Антиолигархические» действия власти отличаются рядом особенностей: они носят сугубо избирательный характер; их официальная мотивация явно расходится с реальной; они не переходят в институциональную политику по разграничению публичной власти и частного бизнеса, по ограничению лоббизма, корпоративной «приватизации» регионов и т. п. явлений; в своих действиях власть не останавливается перед нарушением правовых принципов и процедур, в том числе перед давлением на суд; спецоперации с участием силовых структур и подключением близких к власти бизнес-групп направлены на отнятие и переподчинение бизнеса неугодных «олигархов».
Таким образом, Путин радикально усилил позиции верховной власти в торге элитных группировок, а российский патронат полностью подстроился под президента. Политическим оформлением нового абсолютизма стало формирование фактически однопартийной Государственной думы и окончательное превращение российского парламента в привычные «кремлевские палаты». Декларативные «демократия», «федерализм», «многопартийность» окончательно сошли с политической повестки дня. «Президентская вертикаль» — таков сегодняшний политический пароль российского патроната, который должен выучить каждый, кто делает серьезные ставки в политической и экономической игре.
Стало ли государство сильнее?
Маятниковые колебания между централизацией и локализацией власти вполне традиционны для русского порядка — они хорошо описаны еще в «Боярской думе» В. О. Ключевского. Интересно, что историк обнаруживает внутреннюю связь этих явлений и описывает локализацию власти — т. е. частное присвоение ресурсов и частное употребление государственной власти — в централизованной системе московского самодержавия. Одно без другого не обходится.
Ни боярские вольности, ни кремлевский абсолютизм сами по себе не связаны с формированием гражданского общества и развитием правовой государственности. Существенным отличием сегодняшнего цикла российской истории, однако, является наличие демократических институтов, частью заимствованных, частью выработанных Россией в конце ХХ века. Исходя из этого, можно определить критерий для оценки реальной общественной пользы от провозглашенного «укрепления государства». Вопрос должен быть поставлен так: способствуют ли предпринимаемые политические действия укреплению публичных институтов и развитию их общественного содержания?
За два года президент Путин достиг впечатляющих результатов: переформирован Совет Федерации; законодательно закреплен порядок федерального вмешательства в деятельность региональных и местных властей, определена их ответственность; региональное законодательство приводится в соответствие с федеральным; взяты под контроль центра расположенные в регионах структуры федеральных органов власти; изменена в пользу федерального центра схема бюджетного процесса.
Вместе с тем производимые изменения далеко не всегда полезны для общества, а в некоторой, притом существенной своей части несут вред. Происходит это прежде всего из-за идеологической и психологической зацикленности — и самого Путина, и значительной части политической элиты — на усилении власти президента. Такое усиление стало едва ли не единственной целью преобразований. В угоду ему приносятся общественная польза и эффективность преобразуемых или создаваемых публичных институтов.
Так, утративший самостоятельную роль Совет Федерации превратился в сугубо декоративный, фиктивный политический институт, а новый порядок делегирования в «верхнюю палату» обернулся неприкрытой торговлей сенаторскими мандатами и разгулом дикого партикулярного лоббизма. Лишь для того, чтобы затруднить коммунистам проведение предвыборной агитационной кампании, парламентское большинство с подачи президентской администрации законодательно запретило проведение в стране референдумов в год парламентских и в год президентских выборов, т. е. по два года из каждых четырех лет. Под усыпляющие разговоры о создании «цивилизованной партийной системы» был принят закон о партиях, гигантски расширивший возможности государственного регулирования деятельности политических партий и одновременно повысивший «взяткоемкость» этого процесса. В результате победы «Единой России» на парламентских выборах в декабре 2003 года Государственная дума сразу стала неким подобием Верховного Совета — псевдопредставительным органом, выстроенным по иерархическому принципу и голосующим по команде сверху.
От имени президента в Федеральное собрание не раз вносились законодательные предложения, нарушающие дух и букву Конституции[12]. Эти предложения не прошли в прежней Государственной думе, но сам факт их внесения в парламент весьма симптоматичен. Его нельзя было бы игнорировать и в обычных условиях, а на фоне значительного усиления власти президента Путина и часто звучащих предложений внести изменения в Конституцию России он выглядит особенно тревожным.
Проблема не сводится к нарушению баланса политических сил, чем грешат все победители (к тому же конкуренты Путина, будь то «региональные бароны» или «олигархи», отнюдь не олицетворяют демократические и правовые начала). Беда не в том, что Путин «слишком» укрепляет государство, а в том, что его понимание государственной власти глубоко несовременно и представляет собой рецидив патриархального господства в постиндустриальную эпоху. Учреждаемые ныне политические порядки — не творческий синтез старого и нового, а дурная копия далеко не лучших исторических образцов. Ни «птенцов гнезда Петрова», ни «заседания Государственного совета» — сплошной Салтыков-Щедрин. Во что превратился реформированный Совет Федерации — общеизвестно. Зачем вместо проведения административной реформы строить новые уровни бюрократической пирамиды — неясно. А чем завершится борьба с коррупцией посредством двух правительственных комиссий — очевидно.
Хуже всего то, что президентская администрация активно и «профессионально» манипулирует правовыми нормами и демократическими институтами — теми самыми «общими правилами», упрочение которых было главным предвыборным обещанием Путина. В привычной для российской власти «игре с правилами» путинская администрация достигла циничного совершенства. Ручное управление парламентом, использование суда и прокуратуры в политических кампаниях и расправах, жонглирование законодательными нормами, ставшие привычными административные злоупотребления на выборах — такая политическая и административная практика вне зависимости от сиюминутного политического эффекта наносит огромный вред российскому обществу. Она воспроизводит, манифестирует и закрепляет традиционный код российской власти, точно выраженный в народной пословице: «Закон что дышло — куда повернут, туда и вышло». Подобная политика исключает саму возможность кристаллизации публичных институтов, поскольку подрывает их основу — общественное доверие.

Таким образом, публичные институты при Путине отнюдь не окрепли, многие же, наоборот, деградировали. Именно поэтому в последние годы мы наблюдаем не просто централизацию власти, а куда более глубокую социальную трансформацию, точнее — деформацию. Один за другим исчезают субъекты политического процесса, который все больше напоминает театр теней. С одной стороны, убраны либо «стерилизованы» крупные фигуры вроде известных медиамагнатов и бывших претендентов на президентский пост; низведены до роли марионеток институты, которые никак нельзя отнести к исполнительной ветви власти, — палаты Федерального собрания, центральные судебные инстанции, федеральные телеканалы; возвысившаяся в 90-е годы региональная элита распущена по вотчинам. За редкими исключениями все бывшие тузы остаются «в игре», продолжают быть уважаемыми и активными членами господствующего слоя, но если кто-то из них забудется и возомнит себя действительным субъектом российской политики, то будет примерно наказан. С другой стороны, конкурирующие группировки «старокремлевских», «новопитерских», «белодомовских» верховников, могущество и влияние которых сегодня общепризнано и даже мифологизировано, также не выступают в роли субъектов публичной политики. Эти группировки не похожи даже на аристократические партии доиндустриальных обществ, поскольку вообще лишены публичной идентичности и, понятное дело, публичной ответственности.
Новый кремлевский абсолютизм не отменил феодальных правил и не создал более эффективной (не для себя, а для общества) бюрократии. Административный восторг, с которым российский правящий класс, вскормленный на административной ренте, воспринял «укрепление государства», является лучшим свидетельством того, что это «укрепление» вполне соответствует его интересам и закоренелым привычкам[13]. «Новый курс» Путина не затрагивает существующей начальственной организации социальной жизни в России, но означает лишь расширенное воспроизводство российского начальства. Возведение «президентской вертикали» стало для российского патроната колоссальным строительным подрядом, который открывает перед столичными и провинциальными верховниками самые широкие возможности: новые должности, бурный карьерный рост, большие ставки и сверхприбыли.
Путинский курс не только не лечит, но даже не затрагивает главных дисфункций российского государственного организма — паразитарный бюрократизм, сращивание власти с олигархическим капиталом, клиентелизм и коррупцию. Исцелять эти хронические российские недуги административной централизацией — то же, что тушить пожар керосином. Частное присвоение ресурсов публичной власти для получения административной ренты сегодня стало открыто артикулируемой нормой поведения правящих и главным критерием его успешности. То, что привнесло правление Путина — иерархически выстроенный патронат, более жесткий и циничный стиль публичной политики, некоторое омоложение «верхов», замена одних «авторитетов» и «связей» другими, — далеко не тождественно действительному усилению государства. Для такого усиления нужна не только и не столько «президентская вертикаль», сколько радикальная административная реформа.
Начальственная организация российской жизни по природе своей является механизмом социального торможения. Неудивительно, что для социального ускорения в России почти всегда требовались чрезвычайные меры, следствием которых обычно становились однобокие и малопродуктивные рывки, не переходившие в устойчивое развитие. Ведь для устойчивого развития нужны не публичные порки, а публичные институты, в том числе важнейший из них — неразорительное для общества, эффективное государство. Решение триединой задачи — экономического роста, победы над бедностью и победы над коррупцией — решение, которого ожидает от президента (и теперь только от него) российское общество, достижимо лишь на основе реформы государственного управления. Именно поэтому проведение подлинной административной реформы или отказ от нее имеют для страны значение исторического выбора. Насущная альтернатива второго срока второго президентства проста и груба: либо радикальная реформа государственного управления, либо новый застой. Владимиру Путину досталась поистине царская доля: выбрать между любовью российского начальства и любовью российского народа.
[*] Часть представленной работы была сделана в рамках проекта «Управление в России: система принятия государственных решений», проводившегося Институтом права и публичной политики при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке.
[1] См. об этом: Лурье С. В. Историческая этнология. М., 1997.
[2] Под «номенклатурой» Михаил Восленский понимал правящий класс советской эпохи, а в работах Марата Чешкова это понятие используется для определения особой социальной организации, альтернативной государству-нации и обеспечивающей индустриализацию и квазимодернизацию.
[3] Безусловно, разлад в общество вносит и его этническая разнородность. Межэтническая напряженность, спровоцировавшая распад СССР, продолжает ощущаться и в Российской Федерации. Как и на всем постсоветском пространстве, в России конца 80-х — начала 90-х годов получило развитие «этническое предпринимательство», имеющее, в частности, прямое отношение к чеченскому конфликту. Однако в целом российское общество достаточно гомогенно и в этническом, и в культурном аспекте. Межэтнические трения обрели в России форму политического противостояния только на Северном Кавказе.
[4] См.: Левада Ю. и др. Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х. М., 1993; публикации И. Клямкина и его коллег в журнале «Полис» за 1994–1996 годы об исследованиях ментальности в постсоветском обществе; Дилигенский Г. Что мы знаем о демократии и гражданском обществе? // Pro et Contra. 1997. Т. 2. № 4; Курильски-Ожвэн Ш. Правовое государство и гражданин: сравнительный анализ индивидуальных представлений во Франции, России и Венгрии // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. 1997. № 3 (20) — № 4 (21).
[5] Данные центра «Российское общественное мнение и изучение рынка» приведены по: Мельвиль А. Политические ценности и ориентации и политические институты // Россия политическая / Под общ. ред. Л. Шевцовой. М.: Московский центр Карнеги, 1998. C. 149.
[6] Афанасьев М. Н. Клиентелизм и российская государственность. М.: Московский общественный научный фонд, 1997; изд. 2-е, доп. М., 2000.
[7] Так, исследуя трансакционные издержки российских предпринимателей, Вадим Радаев пришел к выводу, что взятка, будучи примитивной формой разовых взаимодействий, с укреплением доверия перерастает в более устойчивые связи, которые не поддаются числовой оценке и представляют собой целую палитру отношений от взаимного обмена информацией и услугами до установления властного контроля. См.: Радаев В. В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы контроля и деловая этика. М.: Центр политических технологий, 1998. Ч. I.
[8] Eisenstadt S. N., Roniger L. Patrons, clients аnd friends: Interpersonal relations and the structure of trust in society. Cambridge, 1984.
[9] См., напр.: Зубов А. Б. Парламентская демократия и политическая традиция Востока. М., 1990.
[10] Взаимодействие клиентарных связей и современных коммуникативных технологий на выборах рассмотрено мною в специальной работе: Афанасьев М. Политические партии в российских регионах // Pro et Contra. 2000. Т. 5. № 4. С. 164–183.
[11] Авраамова Е. Влияние социально-экономических факторов на формирование политического сознания // Российское общество: становление демократических ценностей? / Под ред. М. Макфола и А. Рябова. М.: Московский центр Карнеги, 1999. С. 23.
[12] Показательны, например, некоторые положения, содержавшиеся в законопроектах «Об укреплении вертикали власти», внесенных в Государственную думу в 2000 году. В законопроекте по организации власти в субъектах Федерации предлагалось дать президенту право временно отстранять глав регионов от должности на основании лишь возбужденного прокуратурой уголовного дела — до всякого суда. В законопроекте по организации местного самоуправления предлагалось закрепить за федеральным центром «регулирование особенностей организации местного самоуправления» во всех городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек. Предложенная норма прямо нарушала российскую конституцию, относящую к вопросам ведения Федерации лишь определение общих принципов организации местного самоуправления, в рамках которых организация местного самоуправления определяется законами субъектов Федерации и муниципальными уставами. Кроме того, «регулирование особенностей» — это вообще не предмет федерального закона. Другими словами, президент предложил предоставить ему практически неограниченные возможности посредством указов «об особенностях» решать вопрос о власти во всех значимых российских городах.
[13] Как свидетельствуют социологи Л. Д. Гудков и Б. В. Дубин, устройство и практика сегодняшних официальных организаций воспроизводят хорошо известный с советских времен «нормативно-принудительный сценарий», который заставляет российского обывателя воспринимать любую ситуацию как особенную — опасную, трудную, пограничную — и, соответственно, платить за «избавление» от подобной угрозы. Поэтому отношения «своих» и выстраиваемые на их основе социальные сети («связи», «блат») являются не просто дополнительными и компенсаторными, но имманентно присущими социальному порядку, который в России традиционно организуется сверху — через функционирование управленческих ведомств и практику власти распорядительных клик. См.: Гудков Л., Дубин Б. «Нужные знакомства»: особенности социальной организации в условиях институциональных дефицитов [http://www.polit.ru/documents/490769.html].