Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2003
[*]
Пора перестать притворяться, что европейцы и американцы одинаково смотрят на мир или даже живут в одном и том же мире. Их взгляды на все, что касается силы, — на ее эффективность, привлекательность, моральную оправданность — расходятся. Европа отказывается от самого принципа силы; иначе говоря, она его преодолевает в своем стремлении жить в самодостаточном мире, где царят законы и установления, основанные на международном сотрудничестве и переговорах. Она вступает в постисторический рай, преисполненный спокойствия и относительного благополучия, воплощение кантовского «Вечного мира». Тем временем Соединенные Штаты продолжают барахтаться в трясине исторического процесса, опираясь на силу в условиях привычного анархического мира Гоббса, где на международные законы и установления полагаться нельзя, а для подлинной безопасности, поддержания и распространения либеральных ценностей все еще необходимо обладать военной мощью и прибегать к ней. Вот почему, когда сегодня речь заходит о важнейших стратегических проблемах международных отношений, складывается впечатление, что американцы родом с Марса, а европейцы — с Венеры; они редко приходят к согласию, а уж понимают друг друга все меньше и меньше. И это не временное положение вещей, ставшее результатом отдельно взятых президентских выборов в Америке или отдельно взятого трагического события. Причины трансатлантического раскола гораздо глубже, они долго вызревали и, скорее всего, еще долго будут оставаться значимыми. В определении своих национальных интересов, выяснении, кто или что бросает им вызов или представляет для них угрозу, наконец, в самой выработке и реализации своей внешней и оборонной политики Европа и Соединенные Штаты ныне идут разными путями.
Это различие легче заметить, если ты американец, живущий в Европе. Европейцы лучше отдают себе отчет в нарастании противоречий — возможно, потому, что больше их опасаются. Европейские интеллектуалы почти единодушно убеждены, что отныне они с американцами уже не принадлежат к одной и той же «стратегической культуре». В наиболее карикатурном виде Америка представляется европейскому сознанию «культурой смерти», проникнутой воинственным духом, естественным для общества, привычными атрибутами которого являются насилие, ношение оружия и смертная казнь. Но даже те, кто не склонен к столь грубым обобщениям, все равно видят существенные различия в характере внешней политики, проводимой Европой и США.
С их точки зрения, США с гораздо большей легкостью прибегают к силе и по сравнению с европейскими партнерами проявляют куда меньше терпения в дипломатии. Для американцев мир сводится к противостоянию добра и зла, делится на друзей и врагов, а взгляд европейца более объемен. Сталкиваясь с реальным или потенциальным противником, американцы скорее готовы принуждать, а не убеждать, грозить наказанием, а не обещать награду за хорошее поведение, — словом, им милее кнут, а не пряник. В международных отношениях американцы хотят окончательной определенности: проблемы должны быть решены, угрозы устранены. И, разумеется, Соединенным Штатам все более становится свойственна односторонность подхода. Они не склонны решать общие задачи в сотрудничестве с другими государствами, при посредстве международных организаций вроде ООН, более скептично настроены по отношению к международному праву и готовы выйти за его рамки тогда, когда это кажется им необходимым или даже просто полезным[1].
Европейцы уверены, что их подход более тонок и искусен. Они стараются воздействовать на других с помощью ловких обходных маневров. Они спокойнее воспринимают неудачи, проявляя терпение в тех случаях, когда решение сразу не находится. Они в принципе привыкли реагировать на возникающие проблемы мирно, выбирая путь дипломатии и сотрудничества, а не принуждения. Разрешая споры, они стремятся прибегать к международному праву, договоренностям и общественному мнению. Предпочтительным методом объединения народов они считают торговые и экономические связи. Для них зачастую процесс важнее немедленного результата, поскольку, с их точки зрения, в конце концов именно процесс способен обрести материальную силу.
Разумеется, такая картина вполне карикатурна, в ней полно упрощений и преувеличений. Вряд ли можно рассуждать о «европейцах» вообще: британцы, пожалуй, относятся к использованию силы более «по-американски», чем многие их собратья по Европейскому союзу. В любом государстве по обе стороны Атлантики есть люди, придерживающиеся противоположных взглядов на эту проблему. В США демократы часто выглядят «европеизированнее» республиканцев, а государственный секретарь Колин Пауэлл может показаться бoльшим «европейцем», чем министр обороны Дональд Рамсфельд. Многим американцам, особенно представителям интеллектуальной элиты, так же как и любому европейцу, претит «твердолобая» внешняя политика США; но иные европейцы ценят силу не меньше американцев.
Тем не менее в любом шарже есть доля истины: Соединенные Штаты и Европа сегодня принципиально отличаются друг от друга. У Пауэлла с Рамсфельдом больше общего, чем у Пауэлла с Юбером Ведрином или даже с Джеком Стро. Когда речь заходит о применении силы, средний американский демократ более близок к республиканцу, чем к европейскому социалисту или социал-демократу. В 90-е годы даже американские либералы обнаружили большую склонность к использованию силы и более манихейский взгляд на мир, чем их европейские тезки. Администрация Клинтона бомбила Ирак, Афганистан и Судан. Можно с уверенностью утверждать, что европейские правительства на ее месте так бы не поступили. Интересно: не окажи США на них мощного давления, пошли бы они самостоятельно на бомбардировки Белграда в 1999 году?[2]
В чем истоки столь разных стратегических подходов? Этим вопросом в последнее время задавались очень мало: то ли потому, что специалисты по внешней политике и сами ее творцы по обе стороны Атлантики вообще отрицали наличие значимых расхождений, то ли из-за стремления тех, кто на такие расхождения все же указывал, прежде всего уязвить США, а не понять, отчего Соединенные Штаты поступают так, как они поступают, — или, если на то пошло, почему Европа ведет себя так, как она себя ведет. Давно пора преодолеть тягу к оскорблениям, с одной стороны, и нежелание признавать само существование расхождений, с другой, и, признав наличие проблемы, честно и спокойно взглянуть ей в лицо. Вопреки мнению многих европейцев и американцев, различия в базовой стратегии не вытекают естественным образом из особенностей соответствующих национальных характеров. В конце концов, то, что европейцы называют теперь более мирной «стратегической культурой», в исторической перспективе явление сравнительно недавнее. Она сложилась в результате отхода от диаметрально противоположной стратегии, которая доминировала в Европе сотни лет — по крайней мере, вплоть до Первой мировой войны. Европейские правительства (да и народы), которые с такой охотой ввергли в эту войну весь континент, очень даже верили в Machtpolitik. Современное европейское мировоззрение, как и сама идея Европейского союза, бесспорно, восходит к эпохе Просвещения, но политика, проводившаяся европейскими сверхдержавами в течение последних 300 лет, ни в коей мере не отвечала провидческим устремлениямфилософов и экономистов-физиократов.
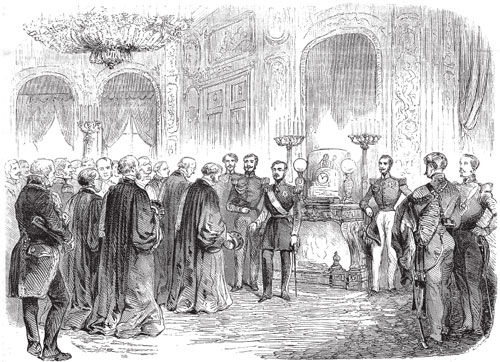
Но и тот факт, что сегодня Соединенные Штаты из всех политических инструментов отдают предпочтение силе, а их подход все больше отдает односторонностью и все меньше — приверженностью международному праву, тоже нельзя рассматривать вне временной перспективы. Американцы — тоже дети Просвещения, и на заре своей государственности они были самыми верными из его апостолов. Государственные мужи Америки XVIII и начала XIX века рассуждали очень схоже с современными европейскими политиками, превозносили достоинства торговли, считая ее эдаким целительным бальзамом, смягчающим межгосударственные раздоры, и призывали отвергнуть грубое насилие во имя международного права и прислушиваться к мировому общественному мнению. Молодые Соединенные Штаты опирались на силу, выступая против более слабых народов, населявших североамериканский континент, но когда им приходилось сталкиваться с европейскими гигантами, они осуждали подобный подход и, напротив, клеймили силовую политику европейских империй XVIII и XIX века как пережиток проклятого прошлого.
Два столетия спустя американцы и европейцы поменялись местами — и взглядами на мир. Отчасти так случилось потому, что за эти двести лет, а особенно за несколько последних десятилетий, баланс сил разительно переменился. Когда США были слабы, они придерживались обходной стратегии слабого; теперь, когда они сильны, то действуют по праву сильного. Когда великие европейские державы пребывали в расцвете своей мощи, они твердо верили в силу и военный успех. Теперь они смотрят на мир глазами слабого. Эти две точки зрения — взгляд сильного и взгляд слабого — и порождают разные стратегические подходы, разную оценку возникающих угроз и вариантов ответных действий, наконец, разное понимание собственных интересов.
Но это только часть правды. Ведь наряду с этими естественными следствиями столь значительного дисбаланса сил между двумя сторонами Атлантики обнаружился и громадный идеологический разрыв. Уникальный опыт исторического развития Европы во второй половине прошлого века, увенчавшийся образованием Евросоюза, позволил ей выработать целый набор принципов и идеалов, в рамках которых использование силы обосновывается совершенно иными практическими и этическими критериями по сравнению с теми, что привычны для американцев, подобным опытом не располагающих. Если сегодня пропасть между стратегическими подходами США и Европы кажется небывало широкой, если она продолжает расти с устрашающей скоростью, то происходит это потому, что фактические и идеологические различия подхлестывают друг друга. Тяга к разделению, возникающая при их взаимном наложении, вполне может оказаться непреодолимой.
Неравенство сил: ощущение и реальность
В военном отношении Европа слаба уже давно, но до сравнительно недавнего времени эта слабость не бросалась в глаза. После Второй мировой войны у европейских держав практически не осталось возможностей поддерживать свои притязания на глобальную мощь, и неспособность удержать силой заморские колонии в Азии, Африке и на Ближнем Востоке вынудила их к масштабному отступлению после более чем пяти столетий имперского владычества. Пожалуй, никогда за всю историю человечества столь мощное влияние не утрачивалось так безвозвратно. Однако еще в течение полувека эта слабость была затушевана особой геополитической ситуацией эпохи холодной войны. Зажатая между двумя сверхдержавами, Европа стала основной ареной стратегического противоборства коммунизма и капиталистической демократии. Ее единственным, но жизненно важным стратегическим предназначением была защита своей территории от любых посягательств Советского Союза — по крайней мере, европейцы должны были продержаться до тех пор, когда подоспеют американцы. Уже лишившись всех основных признаков мировой силы, Европа все еще оставалась средоточием геополитического противостояния, и эта значимость — наряду с твердо въевшимися в сознание европейцев лидерскими замашками — позволяла ей претендовать на международное влияние, совершенно неадекватное ее чисто военным возможностям.
С окончанием холодной войны Европа утратила центральное стратегическое положение, но потребовалось еще несколько лет, чтобы привычный миф о Европе как одной из ведущих мировых сил был окончательно развеян. На протяжении 90-х годов война на Балканах поддерживала и в европейцах, и в американцах убежденность в стратегической значимости Старого Света и неизменности роли НАТО. Расширение НАТО, призванное включить в него страны бывшего Варшавского договора, упрочение победы в холодной войне — все это по-прежнему сохраняло за Европой первостепенную роль в политических дискуссиях.
А потом сразу же забрезжил многообещающий образ «новой Европы». Войдя в единый политико-экономический союз, исторически оформленный Маастрихтским договором 1992 года, многие европейцы надеялись вновь обрести былое величие, но в новом политическом оформлении. Ожидалось, что Европа станет следующей в ряду сверхдержав, причем не только в политическом и экономическом, но и в военном отношении. Она будет ответственной за урегулирование кризисов на своем континенте, вроде этнических конфликтов на Балканах, и опять окажется одним из важнейших игроков на мировой сцене. В 90-х годах европейцы были искренне убеждены в том, что мощь объединенной Европы наконец-то восстановит «многополярность» мира, разрушенную в результате холодной войны и ее последствий. Да и большинство американцев признавали — хоть и со смешанными чувствами, — что Европа такой сверхдержавой действительно станет. Профессор Гарвардского университета Сэмюэл П. Хантингтон предсказывал, что образование Европейского союза окажется «единственным, но наиважнейшим ходом» во всеобщем противодействии американской гегемонии и в итоге приведет к «подлинно многополярному» миру XXI века[3].
Но мечты европейцев и предчувствия американцев на поверку оказались необоснованными. На протяжении 90-х мы оказались свидетелями не взлета Европы как сверхдержавы, а, напротив, ее постепенного скатывания в пучину слабости. В начале последнего десятилетия XX века балканский конфликт продемонстрировал военную несостоятельность Европы и отсутствие у европейцев единой политической воли, а в его конце уже косовский кризис обнаружил всю глубину той пропасти, которая пролегла между двумя берегами Атлантики во всем, что касается военных технологий и способности вести современную войну. В последующие годы этот разрыв только увеличивался. За пределами Европы неравенство сил к концу 90-х проявилось еще более зримо: стало ясно, что рассчитывать на решительное силовое (одностороннее или коллективное) вмешательство европейских держав в региональные конфликты за пределами своего континента по сути не приходится. Да, европейцы еще могли выступать в ролимиротворцев на Балканах (они действительно ввели значительные воинские контингенты на территорию Боснии и Косово). Но сил на то, чтобы направить свои войска и вести активные боевые действия в потенциально враждебных регионах, расположенных даже и в самой Европе, у них просто не хватало. В лучшем случае их роль ограничивалась размещением миротворческих контингентов уже после того, как Соединенные Штаты — по большей части собственными силами — провели основные военные операции и стабилизировали ситуацию. По словам некоторых европейцев, разделение труда по сути сводилось к тому, что США «готовили обед», а Европа «мыла посуду».
Ничего неожиданного в возникшем неравенстве не было: ограниченность собственных возможностей естественно привела к утрате Европой ведущего положения в мире. Раздававшиеся в Америке и Европе призывы к тому, чтобы она расширила свое влияние за пределы европейского континента, ставили перед ней невыполнимую задачу. На протяжении холодной войны стратегическая роль Европы сводилась к самозащите. Не было никаких оснований ожидать, что она вернет себе статус реальной мировой силы без того, чтобы европейцы решились на вложение куда более значительных средств в свои военные программы, соответственно уменьшив свои расходы в социальной сфере.
Ясно, что к этому они не были готовы. Не были готовы не только к тому, чтобы финансировать силовые действия вне своего континента, но даже и к проведению без помощи США менее масштабных военных операций в самой Европе. И неважно, предлагалось ли обществу тратить деньги на укрепление НАТО или на проведение независимой европейской внешней или оборонной политики. Ответ всегда был негативным. Для европейских стран распад Советского Союза стал поводом не наращивать мускулы, а зажить в свое удовольствие на дивиденды от победы. В среднем их военный бюджет постепенно упал ниже уровня в два процента ВВП. Тем самым, несмотря на все разговоры о превращении Европы в мировую «сверхдержаву», по военному потенциалу она в течение 90-х все более и более отставала от США.
По другую сторону Атлантики окончание холодной войны сказалось совершенно иначе. Американцы тоже были не против получения финансовых выгод от наступившего мира: на протяжении 90-х годов военный бюджет США от года к году не менялся, а иногда и снижался; но все равно он превышал три процента ВВП. Вскоре за развалом советской империи последовало вторжение Ирака в Кувейт, вовлекшее США в самую значительную военную операцию за последнюю четверть века. Поэтому хотя США и сократили свой потенциал, накопленный за годы холодной войны, но не так значительно, как можно было ожидать. Военная мощь Америки, а главное, ее способность применить силу в любом уголке земного шара оставалась исторически беспрецедентной.
В то же время сам факт крушения огромной советской империи резко увеличил мощь США в сравнении с остальными странами мира. Когда-то американского арсенала едва хватало на то, чтобы уравновесить возможности Советского Союза, а теперь у США нет ни одного сколько-нибудь значительного противника. Последствия такой «однополярности» были очевидны и легко предсказуемы: США с гораздо большей легкостью стали идти на применение силы за пределами собственных границ. СССР как сдерживающий фактор перестал существовать, и вмешательству Америки уже никто не препятствовал. Она могла направлять свои войска, куда и когда захочет, и доказательством тому стали резко участившиеся военные вторжения. При Буше-старшем — вторжение в Панаму в 1989 году, война в Персидском заливе в 1991 году и гуманитарная интервенция в Сомали в 1992 году; администрация Клинтона продолжила эту линию на Гаити, в Боснии и Косово. Американские политики рассуждали об уходе с мировой арены, а на деле США посылали свои войска за пределы страны куда чаще, чем на протяжении почти всей холодной войны. Кроме того, новые технологии давали США возможность с большей легкостью прибегать практически в любой точке планеты к ограниченному вмешательству — посредством воздушных налетов и ракетных ударов, и количество таких операций тоже стало быстро нарастать.
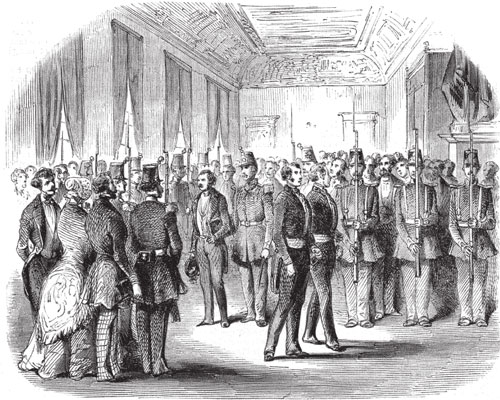
Разве могло все более заметное неравенство сил не привести и к различиям в стратегических подходах? Даже во времена холодной войны военное превосходство Америки и относительная слабость Европы порождали серьезные, а порой и весьма резкие разногласия. Голлизм, Ostpolitik[4], разнообразные движения за европейскую независимость и единство — все это было не только проявлением стремления европейцев к тому, чтобы их уважали и предоставляли большую свободу действий, но и отражением их убежденности в том, что Америка в условиях холодной войны избрала слишком конфронтационную, милитаристскую и опасную линию поведения. Европейцы были уверены, что лучше знают, как обращаться с Советами: их нужно соблазнять, втягивать в совместные проекты, поддерживать с ними экономическое и политическое взаимодействие, вести себя сдержанно и терпимо. Подобная точка зрения имела право на существование, ее придерживались и многие американцы. Но в то же время она отражала и относительную слабость Европы по сравнению с Соединенными Штатами, ограниченность ее военных возможностей, гораздо большую уязвимость перед лицом могучего Советского Союза. Возможно, сказывалась и историческая память о войнах, еще недавно сотрясавших этот континент. Американцы — конечно, когда они сами не втягивались в хитросплетения процесса разрядки, — считали европейский подход политикой уступок, возвратом к трусливым умонастроениям 30-х годов. Но уступка никогда не кажется постыдной тому, кто изначально слаб и не имеет особых козырей на руках. Для него это политика, причем искусная.
Окончание холодной войны, усугубив неравенство сил, ожесточило и разногласия. Сейчас принято полагать, что напряжение между США и Европой возникло после вступления в должность Джорджа Буша-младшего в январе 2001 года, однако его можно было уловить и в период правления клинтоновской администрации, а истоки могут корениться еще во временах, когда президентом США был Буш-старший. Когда в 1992 году Боснию раздирала взаимная ненависть, США отказывались от вмешательства, а Европа была просто неспособна к решительным действиям. Именно в эпоху Клинтона европейцы начали жаловаться на то, что им приходится выслушивать поучения «грубого гегемона». Именно тогда Ю. Ведрин изобрел термин hyperpuissance, «гипердержава»: чтобы передать тревогу, внушаемую чудовищной мощью Америки, привычного термина «сверхдержава» было уже недостаточно. (Возможно, это был отклик на настойчивые рассуждения тогдашнего госсекретаря США Мадлен Олбрайт о США как о «стране, без которой не обойтись».) Именно в 90-х возникли противоречия по поводу американских планов противоракетной обороны, и европейцы стали сетовать на пристрастие американцев к политике силового возмездия, а не дипломатического убеждения.
Хотя администрация Клинтона сама вела себя довольно робко и сдержанно, и у нее робость европейцев — в особенности их нежелание решительно противостоять Саддаму Хусейну — вызывала все нараставший гнев и раздражение. Раскол антииракской коалиции начался не после выборов 2000 года, а в 1997 году, когда правительство Клинтона попыталось усилить давление на Багдад, но столкнулось с противодействием своим планам в Совете Безопасности ООН со стороны Франции и (в меньшей степени) Великобритании. Даже во время войны в Косово некоторые союзники — прежде всего Италия, Греция и Германия — достаточно нервно реагировали на безудержно милитаристский, по их мнению, подход США. И хотя в конце концов европейцы и американцы плечом к плечу выступили против Белграда, результатом кризиса стала не столько удовлетворенность удачным исходом войны, сколько тревога по поводу очевидного всемогущества Соединенных Штатов. Это неприятное чувство еще усилилось с эскалацией военных операций США после 11 сентября 2001 года.
Психология силы и слабости
Кратко говоря, суть проблемы трансатлантического взаимодействия отнюдь не в Джордже Буше. Мы имеем дело с проблемой силы. Американская военная мощь породила искушение эту мощь употребить. Военная слабость Европы породила вполне понятное нежелание прибегать к силе. Напротив, она пробудила в европейцах отчаянное стремление жить в мире, где сила не является аргументом, а высшая роль отведена международному праву и международным институтам, где односторонние силовые действия запрещены и все народы, независимо от их военного потенциала, обладают равными правами и в равной мере защищены совместно выработанными международными правилами поведения. Европа глубоко заинтересована в том, чтобы наконец были развенчаны и преданы забвению жестокие законы анархического гоббсовского мира, в котором национальная безопасность и процветание в конечном счете основаны исключительно на силе.
Ей не поставишь это в упрек. Слабые страны вели себя так испокон веков. Ничего другого не желали и американцы в XVIII — начале XIX века, когда жесткая силовая политика европейских гигантов — Британии, Франции и России — постоянно делала Америку объектом имперских притязаний. Того же хотели тогда и малые европейские страны, но в ответ слышали высокомерные рассуждения Бурбонов и других могущественных правителей о raison d’etat[5]. В XVIII веке Соединенные Штаты настойчиво ратовали за установление системы международного морского права, но этому решительно противилась Великобритании, чей флот позволял ей гордо именоваться «Владычицей морей». В мире, где царит анархия, малые страны всегда боятся стать жертвой. В свою очередь, великие державы часто опасаются не столько анархии, в условиях которой сила позволяет им достигать безопасности и процветания, сколько любых сдерживающих правил.
В сегодняшнем споре об односторонности и многосторонности проявилось все то же естественное историческое противоречие между сильным и слабым. Европейцам свойственно считать, что их возражения против односторонности американского подхода свидетельствуют о более твердой приверженности определенным идеалам миропорядка. Гораздо с большей неохотой они признают, что за их неприятием такой односторонности Америки кроются и собственные интересы. Европейцы боятся: боятся того, что самоуверенность американцев закрепляет «гоббсовское» состояние мира, в котором они будут становиться все более и более уязвимыми. Возможно, США относительно доброжелательный гегемон, но поскольку они своими действиями способны отсрочить утверждение того миропорядка, при котором слабейший будет чувствовать себя спокойнее, их поведение объективно опасно.
Это одна из причин того, что главной целью европейской внешней политики в последние годы стало, по замечанию одного обозревателя-европейца, «придание многосторонности» действиям США[6]. Нет, европейцы не объединяются против гегемонии США, дабы уравновесить американскую мощь, как того хотели бы Хантингтон и другие реалистично мыслящие критики. Если разобраться, европейцы вовсе не хотят стать сильнее. Их цели и тактика — удел слабого. Они надеются сдержать мощь США, не наращивая своей. Они желают накинуть на монстра узду монстра, взывая к его совести, — это ли не вершина тонкого политического искусства!
Вообще-то это вполне разумная стратегия. У американского монстра действительно есть совесть. Это не французский Людовик XIV и не английский Георг III. Американцы не станут оправдывать, даже для самих себя, свои действия государственными интересами. Для них так и остались неприемлемыми принципы старого европейского миропорядка, идеи Макиавелли им не близки. Американское общество до мозга костей пропитано идеалами либерализма и прогресса, и если американцы и верят в силу, то лишь потому, что видят в ней способ утверждения либеральных ценностей и либерального мироустройства. Они вполне разделяют европейское стремление к лучшему миропорядку, основанному не на силе, а на праве, — в конце концов, они боролись за его приближение еще тогда, когда Европа все еще упивалась Machtpolitik[7].
Однако общность идеалов и упований, лежащих в основе внешней политики по обе стороны Атлантики, не отменяет разности мировоззрения и отношения к применению силы в международных делах. Европейцы выступают против односторонних решений отчасти потому, что сами к ним не способны. Опросы общественного мнения постоянно показывают, что американцы в принципе не против многосторонности — они даже поддерживают совместные операции под эгидой ООН. Но факт остается фактом: США способны к односторонним действиям и именно так не раз добивались успеха. Для европейцев призывы к многосторонности и международному праву приносят реальные практические выгоды и при этом почти ничего не стоят. А вот американцам, если они с ними согласятся, придется поступиться по крайней мере определенной свободой действий, и потому для них ратовать за единые правила игры — поистине чистый идеализм.
Даже если европейцы и американцы и способны договориться, какой миропорядок они готовы установить, они все больше расходятся в понимании того, что представляет угрозу для их совместных устремлений. Точнее, сейчас главное различие в оценке: с чем можно смириться, а чего терпеть нельзя. Оно тоже естественно вытекает из неравенства сил.
Европейцы часто упрекают американцев в неразумном стремлении к «полной» безопасности — это-де следствие многовекового существования под защитой двух океанов[8]. Европейцы же уверены, что для них находиться в опасности, бок о бок со злом — дело привычное; они так прожили много столетий. Потому-то они и относятся с большей терпимостью к угрозам, исходящим от Саддама Хусейна или от религиозных лидеров Ирана. По их мнению, американцы слишком преувеличивают опасность этих режимов.
Еще и до 11 сентября поборники такой точки зрения слегка кривили душой. В первые десятилетия своего существования Соединенные Штаты ни на мгновение не могли чувствовать себя в безопасности: их окружали враждебные европейские империи, а изнутри раздирали центробежные силы, подталкиваемые угрозами извне. Недостаток национальной безопасности — вот лейтмотив прощальной речи Джорджа Вашингтона. Вряд ли можно согласиться и с тем, что европейцам в принципе свойственна терпимость к злу и потенциальной опасности. На протяжении трех столетий католики и протестанты в Европе по большей части предпочитали не мириться с инакомыслием, а убивать друг друга; да и за последние два века немцы и французы тоже не отличались уж очень большой взаимной терпимостью.
Некоторые европейцы на это приводят следующий аргумент: именно потому, что Европа много страдала, у нее выше болевой порог, а значит и уровень толерантности. Пожалуй, справедливо как раз обратное. Память о чудовищных бедствиях Первой мировой внушила британцам и французам больший страх, а не бoльшую терпимость по отношению к нацистской Германии, и это чувство во многом способствовало политике уступок, которой они придерживались в 30-е годы прошлого века.
Большая терпимость Европы к угрозам объясняется опять-таки ее относительной слабостью. Это вполне трезвая реакция, благодаря которой Европа именно из-за своей слабости сталкивается с меньшим количеством опасностей, чем гораздо более могущественные Соединенные Штаты.
Психологию слабости достаточно легко понять. Человек, вооруженный ножом, вполне может счесть, что рыщущий по лесу медведь — опасность, с которой стоит смириться; ведь пойти на медведя с одним ножом в руках — шаг куда более рискованный, нежели решение затаиться в надежде, что зверь сам не нападет. Но если тому же человеку дать ружье, он, пожалуй, по-другому оценит возникающие риски. Ведь медведь его может все-таки найти и задрать, так зачем рисковать, если можно просто устранить опасность?

Вот на такой, более чем естественной, человеческой психологии и замешаны сегодня противоречия между Европой и США. Европейцы вполне обоснованно решили, что лучше смириться с опасностью, исходящей от Саддама Хусейна, чем затевать рискованную операцию по его смещению. А у более сильных американцев — и это тоже нетрудно понять — порог терпимости по отношению к Саддаму и угрозе наличия у него оружия массового уничтожения не столь высок, особенно после 11 сентября. Европейцы любят порассуждать о навязчивой страсти американцев к окончательному разрешению проблем — но ведь тот, у кого больше возможностей решить проблему, и более склонен попробовать ее устранить, чем тот, кто такими возможностями не располагает. Для американцев успешное вторжение в Ирак и свержение Саддама — дело вполне реальное, оттого более 70 процентов населения и готовы поддержать такую акцию. Не удивительно, что европейцам она кажется и неосуществимой, и пугающей.
Неспособность ответить на угрозу заставляет не только терпеть, но и отрицать. Желание выбросить из головы то, с чем ты все равно ничего не можешь поделать, вполне естественно. Один из исследователей европейского общественного мнения полагает, что творцов американской политики от их европейских коллег отличает сама сосредоточенность на «угрозах». Американцы, пишет Стивен Эвертс, говорят о внешних «угрозах», как-то: «распространение оружия массового уничтожения, терроризм и “страны-изгои”». Европейцы, со своей стороны, предпочитают рассуждать о «вызовах», с которыми они сталкиваются, вроде «этнических конфликтов, миграции, организованной преступности, бедности, загрязнения окружающей среды». Для Эвертса, однако, ключевые различия объясняются не столько философией и культурой, сколько неравными возможностями. Европейцев «более волнуют проблемы… которые могут быть успешно разрешены политическими методами и с помощью больших денежных затрат». Иными словами, они сосредоточиваются на проблемах — «вызовах», на которые они могли бы ответить, используя свои сильные стороны, а не на «угрозах», которые все равно не могут устранить из-за своей слабости. Если в стратегической шкале ценностей нынешней Европы более гибкие инструменты воздействия — экономика и торговля — стoят выше, чем военная мощь, то не объясняется ли это хотя бы отчасти тем, что Европа слаба в военном отношении и сильна экономически? Американцы скорее признают наличие угроз или даже отыскивают их там, где другие их не видят, потому что они ощущают свою способность угрозам противостоять.
Впрочем, разное восприятие угроз в США и Европе продиктовано не только психологией. Оно объективно связано с еще одним практическим следствием неравенства сил. Ирак и другие страны-«изгои» на самом деле не представляют для Европы такой опасности, какой они являются для США. Прежде всего, вот уже шестьдесят лет безопасность Европы гарантируется Соединенными Штатами. На протяжении всего этого периода именно США брали на себя всю полноту ответственности за поддержание порядка в тех отдаленных уголках планеты — от Корейского полуострова до Персидского залива, — откуда европейские державы практически самоустранились. В глубине души европейцы верят — признаются ли они себе в этом или нет, — что если Ирак когда-либо и будет представлять собой реальную и насущную, а не потенциальную угрозу, американцы как-нибудь с ним справятся, как уже было в 1991 году. Если во времена холодной войны Европа была вынуждена вносить немалый вклад в поддержание собственной обороноспособности, то сегодня она наслаждается беспрецедентной «даровой безопасностью»: ведь большинство вероятных угроз исходит из-за пределов европейского континента, а там только американцы способны действовать эффективно. С практической точки зрения — когда дело доходит до выработки актуальной стратегии — почему-то оказывается, что Ирак, Иран, Северная Корея и другие страны-«изгои» не являются для Европы первостепенной проблемой. А о Китае и говорить нечего. И европейцы, и американцы согласны в том, что в первую очередь это проблемы Америки.
Вот почему Саддам Хусейн для США угроза гораздо более страшная, чем для Европы. Это естественно вытекает из трансатлантического неравенства сил: даже если бы американцы и европейцы достигли бы полного согласия в своей политике по отношению к Ираку, он все равно представлял бы бoльшую опасность для США. Сдерживать Саддама Хусейна — прежде всего дело Соединенных Штатов, а не Европы. С этим согласны все[9], в том числе и сам Саддам; потому-то он и считает своим главным врагом именно США, а не Европу. США играют роль последней, силовой инстанции всюду: в Персидском заливе, на Ближнем Востоке и в большинстве других регионов, включая саму Европу. «Вы ведь так сильны, — частенько говорят американцам европейцы, — почему же вы постоянно ощущаете, что вам угрожают?» Но как раз мощь Америки и превращает ее в основную, а подчас и единственную мишень. Разумеется, такое положение вещей удобно для европейцев.
Европейцы любят называть американцев «ковбоями». В этом есть доля истины. США ведут себя как мировой шериф: возможно, он сам себя им и назначил, но это тем не менее всех устраивает. Он старается восстановить некий закон и порядок в мире, где, по его мнению, царит беззаконие и где преступников надо осаживать, а порой и уничтожать, то и дело нажимая на курок. Если продолжить аналогию с Диким Западом, то Европа — это, пожалуй, хозяин салуна. А преступники обычно стреляют в шерифов, не в держателей салунов. Понятно, что с точки зрения хозяина салуна шериф, силой утверждающий закон, подчас бывает страшнее бандитов, которые — по крайней мере в данный момент — просто хотят выпить.
Когда после 11 сентября миллионы европейцев вышли на улицы, многие американцы были уверены, что те были движимы чувством общей угрозы и единства интересов: европейцы осознали, что могут быть следующими. Ничего подобного европейцы в большинстве своем не испытывали и не испытывают. Европейцы не могут даже вообразить, что их очередь и вправду придет. Европа как союзница США может оказаться побочной, но никак не основной целью: ведь она уже не играет на Ближнем Востоке имперской роли, которая могла бы пробудить к ней такую же ненависть, как к американцам. Когда после 11 сентября европейцы плакали и размахивали американскими флагами, они выражали чисто человеческое сочувствие, сострадание и симпатию. Хорошо это или плохо, но европейская солидарность была продиктована не собственными интересами, а естественным порывом души.
Истоки современной европейской внешней политики
При всей важности неравенства сил для формирования соответствующей «стратегической культуры» Европы и США не все определяется только им. За последние полвека Европа на основе своего уникального исторического опыта, накопленного после Второй мировой войны, выработала особый взгляд на роль силы в международных отношениях. Его американцы не разделяют и не могут разделять: ведь по другую сторону Атлантики путь развития был совершенно иным.
Еще раз перечислим основные черты европейской стратегии: упор на переговоры, дипломатию, экономические связи, приоритет международного права над силой, политики умиротворения над принуждением, многосторонности над односторонностью. Да, в длительной исторической перспективе это отнюдь не исконно европейские принципы ведения международных дел. Они — плод сравнительно недавней истории. Стратегическая культура современной Европы сознательно порывает с прошлым, отказываясь от дурного наследия Machtpolitik.
Тем самым реализуется горячее и вполне объяснимое желание никогда не возвращаться к прошлому. Кто лучше европейцев знает, какими опасностями чревато безудержное использование силы, чрезмерная приверженность военным решениям, политике национального эгоизма и национальных амбиций или даже стремление к балансу сил и осуществлению raison d’etat? Обрисовывая свое видение будущего Европы, министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, выступая в Гумбольдтовском университете (Берлин, 12 мая 2000 года), сказал: «В основе концепции Европы после 1945 года лежало и лежит отвержение принципа баланса сил и стремления отдельных стран к гегемонии, т. е. всего того, что составляло суть европейской истории после Вестфальского мира 1648 года». Европейский союз как таковой стал итогом века ужасных европейских войн.
Ясно, что европейская интеграция была направлена прежде всего на сдерживание «стремления к гегемонии» одной конкретной страны. Умиротворение Германии и включение ее в интеграционный процесс стало большим достижением Европы — быть может, величайшим свершением за всю историю международной политики. Некоторые европейцы, и Фишер в их числе, помнят, какую роль в решении «германского вопроса» сыграли Соединенные Штаты. Но мало кто любит вспоминать, что для наступления всеобщего мира в Европе сначала необходимо было сокрушить нацистскую Германию на поле битвы. Большинство европейцев уверены, что «новый порядок» в конце концов воцарился исключительно благодаря сознательному отречению и отказу европейцев от многовековой традиции Machtpolitik. Те, кто собственно и ввел в обиход силовую политику, теперь будто сознательно переродились и обернулись идеалистами, начисто отметая то, что Фишер именует «старой системой зыбкого равновесия с ее национальными приоритетами, коалиционными предпочтениями, традиционной эгоистической политикой и постоянной угрозой возникновения националистических идеологий и конфронтаций».
Фишер олицетворяет собой только одну из крайностей европейского идеализма. Но на самом деле по этому вопросу в Европе нет полемики между левыми и правыми. Главное убеждение Фишера, что Европа преодолела отжившие принципы силовой политики и начала выстраивать новую систему поддержания мира на международной арене, разделяется самыми разными политиками на всем континенте. Как писал в «Обсервере» за 7 апреля 2002 года один из видных британских дипломатов Роберт Купер, Европа теперь живет в «мире постмодерна», который основан не на балансе сил, но на «отвержении силы» и на «сознательно принятых правилах самоограничения». В этой «системе постмодерна, — продолжает Купер, — raison d’etat и аморальные представления Макиавелли об искусстве управления государством… сменились этическим сознанием», которое теперь и определяет международную политику.
Реалисты-американцы могут, конечно, посмеяться над подобным идеализмом. Джордж Ф. Кеннан[10] полагал, что такие этические и правовые фантазии «в духе Вильсона» способны захватить воображение только его наивных сограждан, но никак не трезвых европейцев, с их опытом войн и макиавеллиевой хитростью. Но, помилуйте, почему европейцы не имеют права быть идеалистами в международной политике, по крайней мере по части того, как ее следует вести в Европе «постмодерна»? В пределах Европы вековые принципы международных отношений действительно были отброшены. Европейцы покинули анархический гоббсовский мир и устремились к миру Канта, где нет и никогда не будет войн. Уже более полувека после Второй мировой войны жизнь Европы определяется не жестокими законами силовой политики, а воплощающейся в жизнь на наших глазах геополитической фантазией, чудом поистине всемирно-исторического значения: германский лев возлег рядом с французским агнцем. Противостояние, раздиравшее Европу с XIX века, когда в крови и муках рождалась Германия, отошло в прошлое.
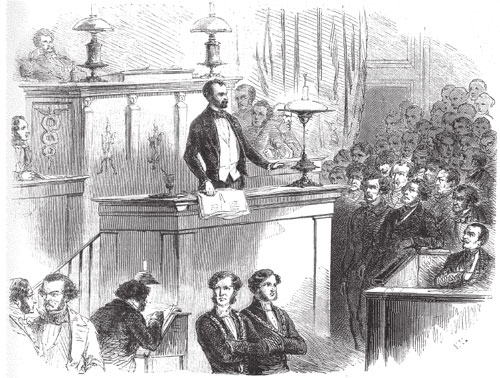
История сотворения этого чуда, разумеется, превратилась в некую священную мифологию Европы, которая приобрела особую актуальность после окончания холодной войны. Дипломатия, переговоры, упрочение экономических связей, политическое взаимодействие, поиск стимулов, а не наложение санкций, движение шаг за шагом и постоянное обуздание собственных амбиций во имя конечного успеха — вот методы, приведшие к франко-германскому сближению, а значит и обеспечившие европейскую интеграция в целом. Такая интеграция не могла быть основана на военном сдерживании или на балансе сил. Дело обстояло совсем наоборот. Чудо стало возможным благодаря отказу от использования военной силы в международных отношениях — по крайней мере, в пределах Европы. Во времена холодной войны мало кто из европейцев сомневался в том, что для сдерживания Советского Союза военная мощь необходима. Но внутри самой Европы правила уже стали другими.
Коллективная безопасность обеспечивалась в тот период извне: США, действуя через военные структуры НАТО, выступали в роли эдакого deus ex machina. За этой каменной стеной Европа совершенствовала свой новый порядок, избавляясь от жестоких законов силовой политики и соответствующего менталитета.
Переход от старого к новому начался в Европе еще во время холодной войны. Но новый европейский порядок и новый идеализм полностью расцвели с ее окончанием, когда устранена была и внешняя угроза в лице СССР. Не осталось никаких объектов для военного сдерживания — ни внутренних, ни внешних, и уверенность европейцев в том, что их метод решения международных проблем должен стать универсальным, еще более возросла.
В своей речи в Институте политических исследований в Париже 29 мая 2001 года председатель Еврокомиссии Романо Проди заметил: «Мудрость отцов-основателей новой Европы заключалась в умении перевести невероятно честолюбивые политические амбиции… на язык гораздо более конкретных, почти технических задач. Такой опосредованный подход сделал возможным поступательное движение вперед. Сближение происходило постепенно. Конфронтация сменилась желанием сотрудничества в экономической сфере, а затем пришел черед интеграции». Многие европейцы уверены, что именно это они и должны предложить миру: не принцип силы, а его преодоление. Сущность Европейского союза, по мнению Стивена Эвертса[11], «заключается в подчинении межгосударственных отношений единому закону», и опыт успешного многостороннего управления пробудил в Европе стремление обратить в свою веру весь мир. Европа «призвана сыграть свою роль в управлении миром», утверждает Проди, и эта роль состоит в максимальном распространении европейского опыта. В Европе «на смену грубому силовому противоборству пришло верховенство закона… силовая политика утратила свое значение». «Успех нашей интеграции означает, что мы можем указать всем путь к мирным решениям».
Несомненно, в Великобритании, Германии и Франции, да и в других европейских странах найдутся скептики, которых проявления столь безудержного идеализма заставят только усмехнуться. Но идея распространения европейского опыта на весь мир крепко засела в умах многих европейцев, включая и власть имущих. Разве расхожая критика отношения Америки к странам-«изгоям» не основана на такой, типично европейской, точке зрения? Ирак, Иран, Северная Корея, Ливия — все это неприятные, опасные, может быть порочные, режимы. Но не применить ли к ним, по европейскому образцу, «опосредованный подход»? Разве нельзя от конфронтации перейти к сближению, начать с экономических связей и в конце концов достичь мирной интеграции? Если эту формулу успешно применили в Европе, почему бы ей не сработать в Ираке или Иране? Многие в Европе настаивают, что очень даже может.
Распространение европейского чуда по всему миру стало теперь новой mission civilisatrice[12] Европы. Подобно американцам, твердо убежденным, что они нашли рецепт человеческого счастья и готовы им поделиться с остальными, европейцы тоже обнаружили свое призвание: оно открылось им с обретением вечного мира.
Вот мы и подошли к главной причине расхождений между Европой и Соединенными Штатами. Американская мощь и готовность эту мощь употребить — если понадобится, то в одностороннем порядке, — представляют серьезную, быть может самую серьезную угрозу для той миссии, которую Европа отныне считает своей. Как ни трудно в это поверить творцам американской политики, ведущие европейские политики и официальные лица беспокоятся не столько о судьбе самого Ирака или саддамовского оружия массового уничтожения, сколько о том, как именно США будут решать проблему Ирака, иными словами — прибегнут ли они к односторонним военным действиям, выйдя при этом за рамки международного права. Да, они опасаются, что подобные шаги могут дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и привести к неоправданным человеческим жертвам, но главная причина их озабоченности кроется гораздо глубже[13]. Такие действия Америки — посягательство на самую сущность «постмодернистской» Европы, посягательство на ее новые идеалы, отрицание их универсальной значимости. Точно так же европейские монархии XVIII–XIX веков бросали вызов республиканским идеалам Америки. Американцам следует осознать, что угрозы своим убеждениям можно опасаться не меньше, чем угрозы физическому существованию.
Подобно американцам на протяжении двух последних столетий, европейцы c большой убежденностью рассуждают о преимуществах своего видения мира, о здравом подходе к урегулированию конфликтов, который они готовы предложить другим, о своем умении вести международные дела. Но, как и у американцев в первые годы их республики, у европейцев, когда они превозносят свой «успех», в голосе проскальзывает какая-то нотка неуверенности: им явно необходимо, чтобы этот успех признали, чтобы их взгляды разделили другие, и прежде всего могущественные Соединенные Штаты. Ведь тот, кто отрицает весомость новых европейских идеалов, в конечном счете подвергает сомнению обоснованность всего проекта единой Европы. В самом деле: если международные проблемы нельзя разрешить европейскими методами, то, выходит, и Европа рано или поздно зайдет в тупик, а это ли не ужасная перспектива?
Вот этот страх и висит над Европой, хотя она продолжает двигаться вперед. Европейцы, в особенности немцы и французы, до конца не убеждены, что проблему, некогда именовавшуюся «германским вопросом», действительно удалось решить. Как явствует из многочисленных и зачастую очень разных вариантов будущей конституции Европы, французы не вполне уверены, стоит ли доверять немцам, да и немцы твердо не знают, могут ли они доверять сами себе. Порой такие опасения затрудняют интеграционный процесс, но в целом они способствуют осуществлению совместного европейского проекта — вопреки множеству препятствий, встающих у него на пути. Этот проект должен осуществиться во что бы то ни стало, ведь как иначе преодолеть то, что Фишер в своей речи в Гумбольдтовском университете назвал «опасными соблазнами, объективно вытекающими из размеров и центрального положения Германии»? Многие европейцы в глубине души помнят о том, чем в прошлом оборачивались эти «соблазны». И всякий раз, когда они задумываются об использовании военной силы или их побуждает к этому Америка, то не могут, хотя бы на скорую руку, не прикинуть: а как скажутся подобные действия на «германском вопросе»?
Пожалуй, отнюдь не случайно то, что впечатляющие успехи европейской интеграции за последние годы не только не наделили Европу невероятной силой, а, напротив, привели к снижению ее военного потенциала по сравнению с Соединенными Штатами. Превращение Европы в мировую сверхдержаву, способную уравновесить мощь США, могло быть одним из рекламных лозунгов Евросоюза при его зарождении — тогда предполагалось, что независимая внешняя и оборонная политика станет одним из важнейших результатов европейской интеграции. Но в действительности для европейцев стремление к «силе» оказалось своего рода анахронизмом, атавистическим инстинктом, несовместимым с идеалами «Европы постмодерна», ибо само ее существование неразрывно связано с отказом от силовой политики. Что бы ни планировали архитекторы европейского проекта, на деле интеграция оказалась несовместимой с наращиванием военной мощи Европы, а значит воспрепятствовала и упрочению ее мирового статуса.
Об этом свидетельствуют не только неизменные или снижающиеся расходы европейских стран на оборону, но и ряд других факторов, в том числе лежащих в сфере «гибкого воздействия». Европейские лидеры говорят о существенной роли, которую Европа играет в мире. Проди требует, «чтобы нас слышали, с нами считались». Да, европейцы тратят огромные деньги на гуманитарную помощь: они любят подчеркнуть, что на эти цели они в расчете на душу населения тратят больше, чем США. Они участвуют в военных операциях за рубежом — но лишь в том случае, когда эти операции носят исключительно миротворческий характер. И даже если ЕС нет-нет да и сунет нос в беспокойные дела Ближнего Востока или Корейского полуострова, все равно внешняя политика остается, наверное, самым худосочным детищем европейской интеграции. Как недавно заметил весьма дружелюбно настроенный по отношению к ЕС политолог Чарльз Грант, очень немногие европейские лидеры «уделяют иностранным делам много сил и внимания»[14]. Внешнеполитические инициативы ЕС редко подкреплены единой позицией разных европейских держав и по большей части быстро сходят на нет. Это одна из причин, позволяющих их легко проигнорировать, как это сделал в марте 2002 года премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, отказав предста вителю ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьеру Солане в возможности встретиться с Ясиром Арафатом (а через пару дней мнение премьера переменилось, и он удовлетворил аналогичную просьбу куда менее высокопоставленного американского чиновника).
Более того, европейцев происходящее за пределами их континента вообще интересует в значительно меньшей степени, чем собственно европейские дела. Это удивляет и расстраивает американцев, вне зависимости от того, какой точки зрения они придерживаются в политических и стратегических дискуссиях. Вспомним, как были разочарованы американские либералы вялой реакцией Европы на решение Буша выйти из договора по ПРО. Впрочем, учитывая всю сложность и трудоемкость интеграционного процесса, сосредоточенность европейцев на самих себе вполне понятна. Расширение ЕС, выработка совместной экономической и сельскохозяйственной политики, соотношение национального суверенитета и наднациональных органов управления, т. н. «дефицит демократии», соперничество крупных европейских держав и недовольство малых стран, принятие новой конституции Европы — каждая из этих серьезных проблем требует своего решения. Трудности, возникающие на пути европейской интеграции, могли бы показаться просто непреодолимыми, если бы этот проект уже не успел доказать свою жизнеспособность.
Политические решения США, неприятные уже по самой своей сути — идет ли речь о противоракетной обороне и договоре ПРО, о давлении на Ирак или о поддержке Израиля, — вызывают еще большее раздражение, поскольку отвлекают европейцев от их главной цели. Они часто упрекают американцев в местничестве и сосредоточенности на собственных проблемах. Но изоляционистские тенденции нарастают и в самой Европе. Доминик Муази в своей статье в «Файнэншл таймс» от 11 марта 2002 года замечает, что в недавней предвыборной президентской кампании во Франции практически «не затрагивались… события 11 сентября и их далеко идущие последствия». Никто не задался вопросом: «Какую роль призваны сыграть Франция и Европа в новой конфигурации сил, возникшей после 11 сентября? Следует ли Франции пересмотреть свой оборонный бюджет и военную доктрину, с тем чтобы добиться некоторого паритета между Европой и США или, по крайней мере, между Францией и Великобританией?» Ситуация на Ближнем Востоке обсуждалась в ходе предвыборной кампании только потому, что во Франции проживает немало арабов и мусульман — значимость этой проблемы для страны и подчеркнул относительный успех Ле Пена. Но Ле Пен популярен отнюдь не потому, что он внешнеполитический «ястреб». Он им попросту не является. Дело в том, что, как пишет Муази, «для большей части французского электората в 2002 году проблемы безопасности никак не ассоциировались с отдаленными геополитическими абстракциями. Французы скорее выбирали, какой политик с большим успехом защитит их от преступности, захлестнувшей улицы их города или района».
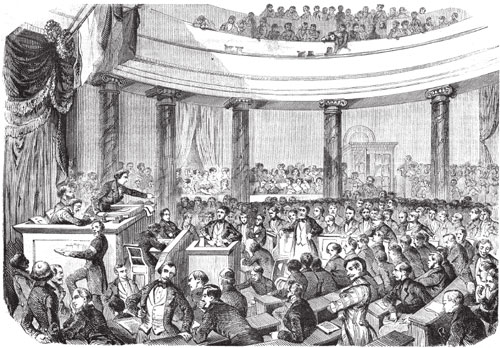
Сможет ли Европа изменить курс и повысить свой статус на мировой арене? Подобные лозунги постоянно звучат из уст европейских лидеров. Сегодняшняя внешнеполитическая слабость Европы сама по себе еще не означает, что она останется столь же немощной завтра, — ведь Евросоюзу не раз удавалось преодолеть свои слабости в иных областях. И все же налицо явная нехватка политической воли к усилению Европы. Это вполне объяснимо: для той миссии, которую она себе уготовила, сила ей вовсе не нужна. Европа призвана противостоять силе. Показательно, что если сейчас кто-нибудь из европейцев и призывает наращивать военную мощь, то не ради расширения стратегических возможностей Европы. Чаще всего приводится иной довод: это необходимо исключительно для обуздания США и привития им «многостороннего» подхода. Как писал проамерикански настроенный британский исследователь Тимоти Гартон Эш в «Нью-Йорк таймс» за 9 апреля 2002 года, «сила Америки слишком велика, чтобы обернуться благом для кого бы то ни было, включая и саму Америку». Выходит, что единственная причина, побуждающая Европу укрепляться, — это необходимость спасти мир и сами Соединенные Штаты от опасностей, которые неизбежно породит возникший ныне перекос.
Оправдана такая забота или нет, но и она не слишком волнует европейцев. Даже Ведрин прекратил рассуждать о необходимости уравновесить мощь США. Сегодня он предпочитает пожать плечами и заявить: «Европе незачем равняться на страну, которая способна одновременно сражаться хоть на четырех фронтах». Одно дело 90-е годы, когда Европа увеличила свои совокупные расходы на оборону со 150 до 180 миллиардов долларов, при том что военный бюджет США составлял 280 миллиардов. Теперь он приближается к 500 миллиардам, и европейцы совершенно не намерены продолжать эту гонку. Европейские аналитики сетуют на «стратегическую легковесность» своего континента. Генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, пытаясь устыдить европейцев и заставить их тратить на оборону больше и с умом, даже осмелился обозвать Европу «военным пигмеем». Но кто может всерьез рассчитывать, что европейцы пересмотрят свою принципиальную линию поведения? У них полно причин этого не делать.
Ответ США
Оценивая свои расхождения с европейцами, американцы не должны упускать из виду главного: новая Европа — поистине благодатное чудо, которым должны радостно восторгаться по обе стороны Атлантики. Для европейцев это воплощение давней и несбыточной мечты об избавлении их континента от государственной вражды и кровавых междоусобиц, от военного соперничества и гонки вооружений. Ныне почти невозможно представить, чтобы между какими-либо европейскими державами разгорелась война. После многовековых несчастий, от которых страдали не только европейцы, но и другие, так или иначе вовлеченные в их раздоры (американцы оказались в таком положении дважды на протяжении прошлого столетия), новая Европа обернулась подлинным раем. Ее нужно холить и лелеять — в том числе и американцам, которым уже доводилось обагрять своей кровью европейскую землю, а придется пролить еще больше, если вдруг новая Европа рухнет.
Не следует забывать и о том, что сегодняшняя Европа — во многом плод американской внешней политики, последовательно проводившейся на протяжении более шестидесяти лет. Именно США после Второй мировой войны замыслили проект европейской интеграции. И вспомним, они же планировали ослабление Европы. На заре холодной войны некоторые американцы вроде Дина Ачесона[15] рассчитывали в будущем получить в лице Европы могущественного союзника в борьбе против СССР. Но далеко не во всех политических программах Европе отводилась именно эта роль. Еще раньше Франклин Делано Рузвельт мечтал о таком положении вещей, когда стратегическое значение Европы фактически сошло бы на нет. По словам историка Джона Ламбертона Харпера, Рузвельт хотел «решительно снизить удельный вес Европы» и в итоге «отправить ее на политическую пенсию»[16].
Те американцы, чья зрелость пришлась на период холодной войны, в своем подавляющем большинстве разделяли идеи Ачесона: для них Европа была важнейшим форпостом борьбы за свободу против советской тирании. Но жившие в эпоху Рузвельта думали по-другому. В конце 30-х расхожее мнение состояло в том, что «европейская система прогнила насквозь, европейцы не могут жить без войн и должны винить в своих несчастьях только самих себя»[17]. В начале 40-х в Европе видели не что иное, как перегретый котел, то и дело вскипающий мировыми войнами, которые слишком дорого обходятся США. Во время Второй мировой войны американцы, подобно Рузвельту, смотрели не вперед, а назад, и потому искренне считали, что тот, кто раз и навсегда лишит Европу ее стратегического значения, сослужит человечеству величайшую службу. Рузвельт многозначительно спрашивал: «После разоружения Германии — какой смысл Франции наращивать свои вооруженные силы?» Шарль де Голль считал подобные вопросы «тревожным сигналом для Европы и Франции». И хотя на протяжении холодной войны США придерживались идей Ачесона, в американской политике всегда находилось место и для последователей доктрины Рузвельта. Поведение Эйзенхауэра по отношению к Великобритании и Франции во время Суэцкого конфликта — лишь наиболее яркая из многочисленных попыток США поставить Европу на место, окончательно подорвав ее и без того пошатнувшееся влияние.
Но самый серьезный вклад в нынешнюю самоустраненность Европы от мировых дел США внесли своими не анти-, а проевропейскими усилиями. Ведь когда в первые послевоенные годы США решили сохранить свое военное присутствие на континенте и создать НАТО, они были движимы не враждебностью, а, наоборот, ощущением своих обязательств по отношению к Европе. Наличие американских войск в качестве гарантии безопасности стало, как и было задумано, важнейшим фактором, обеспечившим успех европейской интеграции.
Европа пришла к своему нынешнему состоянию под сенью американских гарантий безопасности и без них никогда не смогла бы его достичь. И дело не только в том, что США в течение полувека служили надежным щитом как от внешней, советской угрозы, так и от угроз внутренних, которыми могли бы стать этнические конфликты вроде балканского. Еще важнее то, что США сыграли и, быть может, до сих пор играют ключевую роль в решении германского вопроса. Министр ФРГ Фишер в вышеупомянутой речи выделил два «исторических решения», обеспечивших создание новой Европы: «решение США остаться в Европе» и «приверженность Франции и Германии принципам интеграции, начавшейся с установления экономических связей». Понятно, что без первого не было бы и второго. Рискуя допустить новое вхождение Германии в Европу, Франция (а французы, мягко говоря, испытывали большие сомнения по этому поводу) рассчитывала на постоянное участие Америки в европейских делах как на залог того, что милитаризм снова не поднимет голову в Германии. Точно так же и немцы после войны вполне отдавали себе отчет в том, что их будущее в Европе целиком зависит от умиротворяющего присутствия американских войск.
Короче говоря, США разрешили за европейцев парадокс Канта. Кант утверждал, что единственным избавлением от кошмарной безнравственности гоббсовского мира может стать учреждение мирового правительства. Но он также опасался, что «состояние вечного мира», которого таким образом можно добиться, окажется для человеческой свободы еще большей угрозой, чем мировой порядок по Гоббсу, поскольку такое правительство, получив монополию на власть, может обернуться «самой ужасающей деспотией»[18]. Кант так и не смог решить проблему, как достичь вечного мира, не ущемляя свободы личности. А для Европы ее решили США. Став внешним гарантом безопасности, Соединенные Штаты избавили надгосударственные органы управления Европы от необходимости обеспечивать эту безопасность. Для обретения мира Европе не потребовалась сила, и для его поддержания она ей тоже не нужна.
В сложившейся ситуации есть своя ирония. Отказ Европы от силовых методов, ее нежелание считать военные решения действенным инструментом международной политики были обеспечены присутствием американских войск на европейской земле. Расцвет нового европейского порядка «по Канту» наступил под покровом американской мощи, взращенной по законам старого, гоббсовского мира. Сила Америки позволила европейцам уверовать, что сила более не в счет. И наконец последняя ирония судьбы: именно то, что военная мощь США позволила решить проблемы Европы, прежде всего «германский вопрос», теперь дает европейцам возможность утверждать, что эта самая мощь и «стратегическая культура», ее породившая и умножившая, отжили свой век и стали опасными.
Большинство европейцев не способны осознать этот впечатляющий парадокс: они вступили в «постисторическую» эру только благодаря тому, что США не совершили такого перехода. Поскольку у Европы не было ни желания, ни возможностей блюсти свой новоприобретенный рай, охранять его от духовных и физических посягательств остального мира, где еще не воцарилось «этическое сознание», единственным залогом ее успеха в борьбе с этим миром поборников старой силовой политики стала решимость США использовать свою военную мощь.
Кое-кто в Европе все же разобрался в этой головоломке. Не удивительно, что самыми проницательными оказываются британцы. Так, Роберт Купер предлагает признать нелегкую правду: хотя «в мире постмодерна [т. е. в сегодняшней Европе] не осталось угроз для безопасности в прежнем их понимании», тем не менее на остальной части планеты — разделяемой Купером на «зоны модерна и предмодерна» — угроз хватает. Если мир постмодерна не будет себя защищать, он погибнет. Но как Европе спасти себя и в то же время не отступить от идеалов и принципов, на которых зиждется ее пацифистское мировоззрение?
«Общество постмодерна, — считает Купер, — должно привыкнуть к использованию двойных стандартов». В своем кругу европейцы могут «строить безопасность на основе законов открытого общества». Но выходя за пределы Европы, «мы вынуждены по мере необходимости возвращаться к более грубым методам предшествующей эпохи — силе, упреждающим ударам, обману». Вот в чем Купер видит залог безопасности нового общества: «У себя мы придерживаемся закона, но, оказавшись в джунглях, мы должны и жить по законам джунглей».
Рецепт Купера адресован Европе, и вполне естественно, что ему сопутствует призыв к европейцам впредь не пренебрегать обороной — «как в физическом, так и в психологическом отношении». Но ведь Купер в действительности описывает не будущее Европы, а настоящее Америки. Именно Соединенным Штатам выпала сложная задача: они лавируют между двумя мирами, пытаясь поддерживать, защищать и распространять принципы более совершенного устройства цивилизации, в то же время употребляя военную силу против тех, кто эти принципы игнорирует. США уже проводят предложенную Купером политику двойных стандартов, и по тем же самым причинам. Американские лидеры, как и он, полагают, что международная безопасность и либеральные ценности — так же, как рай европейского «постмодерна», — недолго продержатся, если США не будут опираться на свою мощь в условиях гоббсовского мира, все еще торжествующего за пределами Европы.
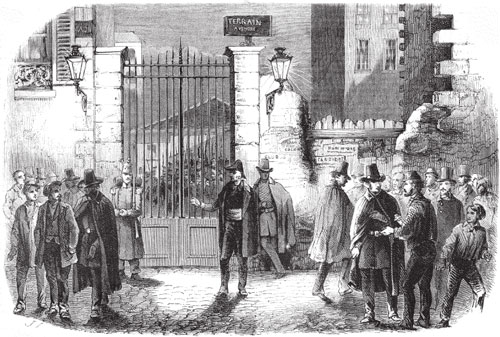
Но это означает, что хотя США и сыграли ключевую роль в обретении Европой кантовского рая и продолжают обеспечивать его существование, сами они в нем пребывать не могут. Они обороняют его стены, но не могут войти в его врата. При всем своем невероятном могуществе США увязли в трясине истории: им приходится иметь дело с Саддамами и аятоллами, Ким Чен Ирами и Цзян Цзэминями, а отрадная прибыль достается другим.
Приемлемый расклад?
Могут ли США смириться с таким положением вещей? Во многих отношениях — да. Вопреки распространенному мнению, США способны вынести бремя расходов по поддержанию международной безопасности без особой помощи со стороны Европы. Сегодня США тратят на оборону чуть больше трех процентов ВВП. Если военный бюджет возрастет, скажем, до четырех процентов, что превосходит 500 миллиардов долларов в год, расходы американцев на оборону все равно составят меньшую долю их национального достояния по сравнению с затратами, которые они несли на протяжении последнего полувека. Даже Пол Кеннеди[19], изобретший в конце 80-х термин «имперский перерасход» (тогда США тратили на оборону более семи процентов ВВП), согласен с тем, что США в течение еще весьма длительного времени смогут поддерживать уровень своих военных расходов и, как следствие, играть ведущую роль в мире. И все же: смогут ли США справляться со всем остальным миром без существенного содействия Европы? Да так уже и происходит. США самостоятельно удержали стратегическую стабильность в Азии. В Персидском заливе помощь Европы была чисто символической; так же обстояло дело недавно в Афганистане, где европейцы опять «мыли посуду»; таким же будет и предстоящее вторжение в Ирак для смещения Саддама. С конца холодной войны Европа мало что может предложить США в стратегическом и военном отношении — за исключением, конечно, одного наиважнейшего стратегического преимущества: мирной Европы.
Так что ресурсов, по крайней мере материальных, у США хватит. Не следует опасаться, что американский народ захочет сбросить с себя это вселенское бремя: ведь он уже десять лет его несет, а после 11 сентября, как кажется, готов терпеть его еще очень долго. Пожалуй, американцы и не особо расстроены тем, что им не нашлось места в утопии «постмодерна»; похоже, большинству не очень-то туда и хотелось. Отчасти это тоже следствие их могущественности: они гордятся военной мощью своей страны и особой ролью, которую она играет в мире.
Американцы не готовы полностью разделить идеалы и принципы, которые ныне вдохновляют Европу. У них просто нет к тому достаточных предпосылок, ведь их мировоззрение основано на совершенно другом историческом опыте. В первой половине XX века американское общество слегка поддалось обаянию схожего идеализма. Прошло десятилетие после Вильсоновской «войны, которая положит конец войнам», и госсекретарь США поставил подпись под договором о запрещении войн[20]. В 30-е годы Рузвельт доверял пактам о ненападении и лишь просил Гитлера не вторгаться в страны, список которых он ему представил. Но пришло время Мюнхена и Перл-Харбора, а затем, после недолгого возрождения идеализма, грянула холодная война. «Мюнхенский урок» надолго укоренился в стратегическом мышлении американцев, и хотя впоследствии к нему добавился другой, «вьетнамский урок», все равно его определяющее значение не вызывает сомнений и сейчас. Пусть небольшая часть американской политической элиты все еще мечтает о «мировом правительстве» и предостерегает от применения силы — большинство, от Мадлен Олбрайт до Дональда Рамсфельда, от Брента Скоукрофта до Энтони Лэйка, все еще помнит Мюнхен, если не в буквальном, то в переносном смысле. А у новых поколений американцев, для которых Мюнхен и Перл-Харбор ничего не значат, теперь есть 11 сентября. После 11 сентября даже многие американские поклонники глобализации требуют крови.
Американцы тоже идеалисты, но им не довелось воплощать свои идеалы в жизнь без опоры на силу. Разумеется, у них нет и никакого опыта успешного надгосударственного управления — так что, как бы они того ни хотели, американцам мало просто уверовать в международное право и международные институты; еще менее понятны им европейские призывы к преодолению и отвержению силы. Американцы — верные сыны и дочери Просвещения, они продолжают верить в способность человека к совершенствованию и надеяться, что мир тоже поддается улучшению. Но они остаются реалистами в том смысле, что попрежнему убеждены в необходимости рассчитывать на силу в мире, который все еще далек от совершенства. По их мнению, любой закон сможет регулировать международные отношения только в том случае, если США будут защищать его силой оружия. Другими словами, европейцы правы: порой американцы строят из себя героев и воображают себя эдаким Гарри Купером в зените славы. Они защитят мирных обывателей, просят ли те помощи или нет.
Таким образом, проблема состоит не в наличии у Америки политической воли или достаточных возможностей, а в том особом нравственном напряжении, которым характеризуется нынешняя международная ситуация. Как часто бывает у людей, все в конечном счете сводится к неосязаемым материям: речь идет о страхах, пристрастиях и убеждениях. Проблема в том, что США временами должны играть по правилам гоббсовского мира, тем самым нарушая нормы поведения, приемлемые для европейцев. США должны отказываться от определенных международных договоренностей, если те мешают им эффективно действовать в джунглях Роберта Купера. Они должны выступать за контроль над вооружениями, но не всегда ему подчиняться. Они должны жить по двойным стандартам. И подчас действовать односторонне — не потому, что односторонность им особенно по сердцу, но потому, что в условиях, когда слабая Европа отвергла силовую политику, у Америки попросту не остается другого выбора.
Мало кто в Европе готов допустить — как косвенно признает Купер, — что подобное поведение американцев может обернуться великим благом для цивилизованного мира, что американская мощь, пусть и используемая в политике двойных стандартов, может стать для человечества наилучшим, а может быть, и единственным подспорьем в его движении вперед. Вместо этого европейцы сегодня именуют Америку преступным, порочным монстром. Они сетуют на «односторонность» президента Буша, но постепенно приходят к более глубокому осознанию того факта, что проблема не в Буше и не в каком-то одном американском президенте. Кризис носит системный характер. И он непреодолим.
Если США не готовы поступиться своим могуществом, а Европа не намерена всерьез наращивать собственные силы или с большей готовностью их применять, то в будущем мы наверняка столкнемся с ростом трансатлантической напряженности. Угроза — если это и впрямь можно счесть угрозой — состоит в том, что США и Европа окончательно разойдутся. Нападки европейцев на США будут становиться все жестче, американцы будут еще меньше к ним прислушиваться, а то и вовсе не обращать на них внимания. Придет (если уже не пришел) день, когда заявления от имени Евросоюза будут значить для Америки не больше, чем декларации АСЕАН или Андского пакта[21].
Тем, кто вырос в условиях холодной войны, стратегический раскол между Европой и США внушает страх. Столкнувшись с рузвельтовской концепцией мироустройства, в которой Европе отводилась маргинальная роль, де Голль содрогнулся и заявил, что она «ставит под угрозу весь западный мир». Если для США Европа «второстепенна», то «не подрывает ли тем самым Рузвельт само дело, которому он призван служить, — дело цивилизации?» Без Западной Европы, настаивал де Голль, «немыслим Запад как таковой. Ничто не сравнится с ее ценностями, ее мощью, наследуемыми ею блестящими образцами древних культур». И не преминул подчеркнуть: «Все это в высшей степени характерно для Франции». Оставляя в стороне типично французское чувство amour propre[22], нельзя не признать: в рассуждениях де Голля что-то есть. Если бы американцы стали считать Европу чем-то вроде досадной, но мелкой помехи, разве американское общество не начало бы постепенно терять связь с тем, что мы теперь именуем Западом? А это серьезная опасность, с которой стоит считаться на обоих берегах Атлантики.
Так что же делать? Ответ очевиден: вняв призывам Купера, Эша, Робертсона и других, Европа должна медленно, но верно приступить к развитию своего военного потенциала. Конечно, надежд на это немного. Но, в конце концов, как знать? Может статься, обеспокоенность чрезмерным могуществом Америки и пробудит в европейцах какую-то жажду действия. Вдруг удастся пробудить атавистические инстинкты, которые еще дремлют в душах немцев, британцев и французов, и сыграть на воспоминаниях о былом могуществе и международном влиянии, чувстве национальной гордости. Кое-кто в Великобритании еще не забыл времена империи; некоторых французов все еще манит gloire; иные немцы все еще ищут места под солнцем. Сейчас все эти чаяния сливаются воедино в величественном проекте новой Европы, но ведь они могут принять и более привычные формы. Другой вопрос — следует ли этого желать или бояться? Было бы еще лучше, если бы европейцы преодолели собственный страх и раздражение, которое вызывает у них это неуправляемое чудовище, и вновь вспомнили о том, как жизненно необходима сильная Америка и для мира в целом, и в особенности для самой Европы.
Американцы могут помочь. Да, Буш с первого дня в Белом доме то и дело лез в бутылку. Его правительство вело себя по отношению к новой Европе враждебно (впрочем, схожие настроения, пусть и в меньшей степени, были характерны и для администрации Клинтона), видя в ней не столько союзника, сколько нахлебника. Даже после 11 сентября, когда европейцы предоставили свои, весьма ограниченные, силы в распоряжение Америки для операции в Афганистане, США воспротивились из опасения, что это лишь уловка для того, чтобы связать их по рукам и ногам. Историческое решение НАТО оказать помощь США в соответствии с пятой статьей Североатлантического договора показалось администрации Буша скорее западней, нежели даром судьбы. Тем самым была без всякой нужды упущена возможность вовлечь Европу, хотя бы во вспомогательной роли, в совместную битву, которая разворачивалась на просторах чуждого ей мира Гоббса.
Американцы настолько сильны, что им незачем бояться европейцев, даже дары приносящих. Американским лидерам пора перестать представлять свою страну в виде Гулливера, опутанного лилипутскими нитями, и осознать наконец, что вряд ли кто вообще способен ограничить действия США, а уж Европа просто не в силах этого сделать. Если США удастся преодолеть ложное беспокойство, порождаемое мнимым ощущением скованности, они сумеют лучше понять чувства других, проявить известное великодушие. Вполне ведь можно отдать дань «многосторонности», уважительно отнестись к международному праву и тем самым заработать политический капитал, который очень пригодится тогда, когда многосторонний подход окажется невозможным, а односторонние действия — неизбежными. Короче говоря, Америке стоит приложить усилия и выказать то, что ее отцы-основатели называли «приличествующим уважением к мнению человечества».
Все это незначительные меры, и с их помощью сразу не преодолеть глубокие разногласия, ныне разделяющие две стороны Атлантики. Но, в конце концов, утверждение, что Европу и США объединяют общие идеалы западной цивилизации, — это не просто расхожая фраза. И Европа, и США хотят для человечества одного и того же, даже если сегодня вопиющее неравенство сил и разводит их в разные стороны. Возможно, тот, кто считает первый небольшой шаг к лучшему взаимопониманию началом длинного совместного пути, не такой уж наивный оптимист.
[*] Robert Kagan, “Power and Weakness,” Policy Review Online [http://www.policyreview.org/JUN02/kagan.html]. Copyright ї 2000 by Policy Review. Перевод с английского Николая Гринцера.
[1] Один видный французский обозреватель описывает «американский образ мыслей» следующим образом: «склонность отдавать предпочтение односторонним военнотехническим решениям международных проблем в ущерб методам политического сотрудничества». См.: G. Andreani, “The Disarray of U. S. Non-Proliferation Policy”, Survival (зима 1999–2000).
[2] Ситуация в Боснии в начале 90-х может служить примером того, как некоторые европейцы, прежде всего премьер-министр Великобритании Тони Блэр, временами настаивали на военном вмешательстве гораздо решительнее, чем администрация Буша-старшего, а затем и Клинтона (Блэр также одним из первых заговорил о необходимости применения военновоздушных и даже наземных сил для разрешения кризиса в Косово). В Боснии был размещен европейский (а не американский) воинский контингент — правда, это были миротворцы ООН, чьи функции оказались совершенно недостаточными в момент эскалации конфликта. Новогодний прием в Елисейском дворце
[3] Samuel P. Huntington, “The Lonely Superpower,” Foreign Affairs (май-апрель 1999 года).
[4] «Восточная политика», провозглашенная канцлером ФРГ (1969–1974) В. Брандтом и направленная на установление более тесных взаимоотношений с социалистическим блоком, прежде всего — с СССР и ГДР. — Примеч. перев. Церемониал выхода Президента Национальной ассамблеи
[5] Государственные интересы (франц.). — Примеч. перев.
[6] Steven Everts, “Unilateral America, Lightweight Europe? Managing Divergence in Transatlantic Foreign Policy,” Centre for European Reform working paper (февраль 2001 года).
[7] Политика силы (нем.). — Примеч. перев.
[8] Кстати, эту точку зрения можно зачастую обнаружить и в американских учебниках.
[9] Даже несмотря на то, что британцы участвуют в патрулировании зон, запретных для полета иракской авиации.
[10] Видный американский дипломат (в прошлом посол США в СССР и Югославии), политик и политолог, один из идеологов политики «сдерживания» Советского Союза, автор многих книг. В 1974 году вместе с Дж. Биллингтоном основал Кеннановский институт, ставший одним их главных центров американской советологии. — Примеч. перев.
[11] См. выше примеч. 6.
[12] Цивилизаторская миссия (франц.). — Примеч. перев.
[13] Популярные в Америке рассуждения о том, что европейская политика по отношению к Ираку и Ирану продиктована финансовыми соображениями, справедливы лишь отчасти. Разве европейцы корыстнее американцев? Разве американские корпорации не влияют на политику США в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке? Разница в том, что стратегические приоритеты США иногда вступают в противоречие с этими финансовыми интересами и заставляют пренебречь последними. В настоящей статье я пытаюсь объяснить, почему в Европе такие расхождения возникают гораздо реже.
[14] Charles Grant, “A European View of ESDP,” Centre for European Policy Studies working paper (апрель 2001 года).
[15] Государственный секретарь США в 1949–1953 годы, один из создателей НАТО. — Примеч. перев.
[16] John Lamberton Harper, American Visions of Europe: Franklin D. Roosevelt, George F. Kennan, and Dean G. Acheson (Cambridge University Press, 1996), 3. В дальнейших рассуждениях о взглядах американских политиков на Европу я во многом опираюсь на эту замечательную книгу.
[17] William L. Langer and S. Everett Gleason, The Challenge to Isolation, 1937–1940 (Harper Bros., 1952), 14.
[18] См. Thomas L. Pangle and Peter J. Ahrensdorf, Justice Among Nations: On the Moral Basis of Power and Peace (University Press of Kansas, 1999), 200–201.
[19] Известный британский историк и политолог, ныне профессор Йельского университета в США. Среди его многочисленных работ особую популярность снискала книга «Взлет и падение супердержав». — Примеч. перев.
[20] Имеется в виду т. н. Парижский пакт, или договор Бриана — Келлога (Аристид Бриан — тогдашний министр иностранных дел Франции, а Фрэнк Келлог — госсекретарь США), заключенный в 1928 году и провозглашавший отказ от войны как от инструмента международной политики. Этот договор был подписан 65 странами. — Примеч. перев.
[21] Торгово-экономический союз стран Латинской Америки, в который входят Перу, Боливия, Эквадор, Колумбия и Венесуэла. — Примеч. перев.
[22] Бескорыстная любовь (франц.) — Примеч. перев.