Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2003
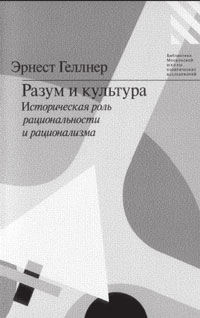 Эрнест Геллнер. Разум и культура: Историческая роль рациональности и рационализма / Пер. с англ. Е. Понизовкиной. М.: Московская школа политических исследований, 2003. 252 с.
Эрнест Геллнер. Разум и культура: Историческая роль рациональности и рационализма / Пер. с англ. Е. Понизовкиной. М.: Московская школа политических исследований, 2003. 252 с.
Книга Эрнеста Геллнера (Ernest Gellner, 1925–1995) “Reason and Culture” (Blackwell: Oxford UK & Cambridge USA, 1992) рассказывает об истоках и трудной судьбе европейской рациональности. Первым на сцену повествования выходит Декарт. Он провозглашает суверенитет Разума и блистательно, как истинный француз, излагает программу освобождения от культуры, от «примера и обычая». Декарт очищает себя сомнением до тех пор, пока не растворяется в воздухе, однако вскоре весьма удачно воплощается в новом, преображенном с помощью ratio теле. На глазах у изумленной публики Декарт по заранее приготовленным чертежам возводит грандиозную конструкцию, в качестве основания используя самого себя, а для подсветки — lumen naturale. Конструкция называется «мир». Геллнер так комментирует происходящее: «…Декарт глубоко буржуазен. <…> [Он] является выдающимся практиком и проповедником когнитивного индивидуализма собственника» (с. 18–19). Как и все буржуа в то время, Декарт глубоко страдает. Он боится впасть в заблуждение. Источником заблуждения является культура. Для избавления от культуры разум должен опираться на «такое внутреннее принуждение, которое способно подвинуть на продуцирование ясных и отчетливых идей» (с. 23). Особое качество — достоверность — подобных принуждений обеспечивается божеством. Это божество «в высшей степени буржуазно. Удостоверяя что-либо, оно действует весьма осторожно и избирательно… <…> Оно санкционирует внутренние принуждения только тогда, когда они правильны, ясны, отчетливы, систематичны — короче, подчинены Разуму. Это Бог порядка, умеренности и разума» (с. 26–27). Геллнер делает вывод, что Декарт — пелагианец. Пелагий, как известно, учил, что человек сам грешит, сам и спасается, пестуя и совершенствуя свою добрую природу, изначально вложенную Богом.
Проходит сто лет. На сцену выходят эмпирики во главе с Юмом. Они производят замену нескольких кирпичей в кладке здания, возведенного Декартом, однако фундамент — индивидуализм — не трогают. Геллнер замечает: «…По большому счету Юма можно определить как рационалиста: перед нами индивидуалистская попытка рационально установить границы и природу подлинно познаваемого мира» (с. 31). Различие между Декартом и Юмом в следующем: Декарт полагал, что его «мир» завершен и что в нем так же хорошо и уютно, как и в традиционных исторически сложившихся общностях; Юм же рассматривал этот картезианский проект как красивую, но принципиально неосуществимую мечту, полагая при этом, что надежность и комфорт не являются внутренними свойствами системы знания, а порождаются привычкой, т. е. культурой.
Между тем мир, построенный Декартом, все это время не пустовал: «На протяжении всего XVIII столетия он становился все более понятным и поддающимся манипуляциям… Постижимость его продемонстрировал Ньютон. Он показал, что мир состоит из абсолютно твердых и устойчивых предметов со строго определенными свойствами; собственно, это и сделало возможным развитие науки и… современного промышленного производства. Именно в таком мире желает видеть себя респектабельный в гносеологическом и производственном отношении индивид…» (с. 41). Мир этот не пустует и сегодня, несмотря на то что жители проникают в него не через царские врата рационального самообоснования, к сожалению, навсегда закрытые, а с черного хода, посредством обычая и примера.
Кант дал надежду нелегальным иммигрантам, заявив, что наш ум в силу самого своего устройства должен порождать мир, описанный Декартом и Ньютоном. Однако ему не удалось выяснить, каким образом ум обретает эту конструктивную способность. Спустя еще сто лет ответ предложил Дюркгейм: посредством ритуала. Именно коллективный ритуал делает нас кантианцами, т. е. людьми в точном смысле слова. «Общественно необходимые принуждения внедряются в нас посредством ритуала и служат голосом социума внутри нас. И если Дюркгейм прав, то Декарт, желая освободиться от общественных предрассудков, в ходе своего бегства от социальности не случайно, видимо, использовал в качестве ориентира и средства спасения именно то, что в действительности является голосом общества внутри нас! <…> Убегая от дьявола, он сам бросался в его объятья» (с. 59). Тут на сцену как ни в чем не бывало выбегает Декарт и, вытирая окровавленную шпагу о кожаные штаны, с дьявольской улыбкой произносит: «Мой дорогой Эмиль, …вы заявляете, что глубинные принуждения, которые организуют наше мышление и нашу жизнь, — не что иное, как плоды ритуала. <…> В таком случае, будьте добры ответить, действию какого ритуала я должен был подвергнуться, чтобы так глубоко осознать связь между моей мыслью и моим существованием. По-видимому, это произошло в ходе некой никому не известной оргии! <…> Но, уверяю вас, трудно даже представить, чтобы рассудительные иезуиты, воспитывавшие меня в Ла-Флеш и, конечно же, совершавшие там католические обряды, довели меня до экстаза, заставляя подпрыгивать и распевать: cogito sum, cogito sum, cogito sum! Ректор, отец Шарль, никогда не допустил бы такого. Любой, кто нашел бы удовольствие в таких действиях, был бы немедленно и безжалостно исключен» (с. 61–62).
Дюркгейм теряется с ответом, и тогда ему на помощь приходит Макс Вебер. Представьте, говорит он, некое сообщество, устроенное по-дюркгеймовски. Представьте также, что волею случая оно вольется в более крупное сообщество, исповедующее монотеизм, и вы увидите, что магия и ритуалы «по случаю» постепенно уступят место распространению ритуальной торжественности на все аспекты жизни. «Вся жизнь становится торжественной и подчиненной правилам, ко всем утверждениям относятся с уважением, и в итоге все люди начинают походить на духовенство» (с. 65). Кроме того, эта централизованная вера имеет книжный характер и интенсивно использует Писание, что приводит к доминированию «культуры правил» и интериоризации принуждений. Теперь допустим, что это сообщество действует в новой социально-политической среде, где широко распространены рыночные связи, хорошо развито разделение труда и установлен стабильный политический режим, основанный на верховенстве права. Такая среда благоприятствует установлению единообразия в отношениях и укреплению внутреннего сознательного контроля, необходимого для соблюдения контрактов. Акцент делается на дисциплине ума, на общих формальных признаках поведения и мышления. Установление универсальных закономерностей во всех сферах жизни исключает упование на божественную благодать. Бог как верховный методист давным-давно должен был равномерно распределить жребии между людьми. Нет какой-то особой жизненной стратегии, приближающей нас к знанию о своем уделе. Все занятия равно священны, если они осуществляются планомерно и методично. А поскольку упорядоченное бездействие немыслимо, следует назначать себе реальные задачи, требующие организаторского таланта и не оставляющие времени для одиночества и внутренних мук. «Однако ирония… в том, что преданность работе в сочетании с отсутствием экономической заинтересованности — наилучшее средство экономического успеха. <…> …Члены нашей новой секты будут первыми, кто честен не из расчета, …а потому, что их честность является чем-то вроде побочного эффекта их… духовных страданий. <…> Если таких людей достаточно много и все они исполнены решимости, они вполне способны изменить моральный климат общества и, в конце концов, вынудить остальных последовать их примеру» (с. 69). Таким образом, капиталистическая рациональность возникла на абсолютно иррациональных основаниях, Разум родился из Абсурда, а сверхприбыли — из отказа от жажды прибыли.
Итак, Вебер без зазрения совести пересказывает Декарту свою «Протестантскую этику», которой тот, разумеется, не читал. Смысл его возражения в том, что к тому времени, как юный Рене попал в иезуитский коллеж, самым действенным ритуалом, организующим ум так, что он обучается порождать мир буржуазной рациональности, становится воздержание от ритуала. Оно состоит в том, что всем объектам и событиям в мире приписывается равный статус и каждый раз используются одни и те же универсальные техники и процедуры. «Монотонный, размытый ритуал размеренного упорядоченного существования вселяет в нас инвариантные правила — в отличие от таинственных и театральных ритуалов дикарской общинной религии» (с. 74). Рождение европейской рациональности означало не «освобождение от культуры», но возникновение новой культуры, отличной от всех традиционных культур, вместе взятых.
Мы не успеваем выслушать ответ Декарта, вероятно, как всегда, остроумный и точный, ибо на сцену выходят многочисленные враги Разума в карнавальных костюмах. Вот Гегель, разодетый под Мефистофеля. Его реплики представляют собой «нечто вроде вербального эквивалента трубного гласа» (с. 107). Вот Шопенгауэр, «философ неутоленной сексуальности» в костюме Приапа (с. 119). Вот Фрейд с жезлом в виде змеи. Он занят возрождением «таинственных коллективных ритуалов древности» (с. 126). Из прочих обратим внимание, пожалуй, на Витгенштейна в маске носорога. Он попирает свой ранний либерально-универсалистский «Трактат», воспевает языковые Gemeinschaften и предлагает всему человечеству «коллективно возвратиться в состояние инфантилизма» (с. 168). Все враги Разума исповедуют ту или иную форму «внутриприродного шовинизма»: они отдают пальму первенства не автономной денатурированной рациональности, но некой силе внутри мира, будь то демон истории, бессознательное или естественная языковая общность.
Парад безумцев, очевидно, далек от финала, и Геллнер решает отвлечь публику рассказом о рациональности в современном мире. Проникновение рациональности в сферы производства и познания на заре современности выразилось в «доходящей до безжалостности жесткости в выборе средств» (с. 190), абсолютизации власти голых фактов и создании «невероятно холодного социального мира» (там же). Однако если в те далекие времена была возможна «рациональность путем естественного отбора», то современное общество «в силу присущей ему исключительной “функциональной взаимозависимости” его составляющих напоминает традиционное — соответствуя тем его особенностям, которые, как утверждалось, препятствовали развитию рациональной экономики» (с. 192). Ограничение классической рациональности в сфере трудовых отношений означает исчезновение «прежней безжалостной рациональной эксплуатации» (с. 193). Потребление становится все менее рациональным и все более символическим. Так, использование автомобиля в целях перемещения по современному мегаполису иррационально, ибо «движение на улицах блокировано транспортом, а парковка, в сущности, невозможна» (с. 198), однако количество личных авто продолжает расти. Объединение людей в сообщества также происходит далеко не на рациональных основаниях. «Сообщество — это не предприятие… <…> Здесь уместно вести себя как в танцах: надо чувствовать, какое движение будет верным, а не вырабатывать стратегию исходя из соображений эффективности» (с. 208). Стремление к автономии, образующее сердцевину европейской рациональности, практически не осуществимо, и тем не менее, замечает Геллнер, «…мы есть те, кто мы есть, именно в силу глубокой укорененности в нашем мышлении этого странного стремления» (с. 215). Более того, судьба западного Разума имеет, как считает Геллнер, всемирное значение: «Переход от рациональности в ее первоначальной, родовой, описанной Дюркгеймом форме к той более специфичной, мысль о которой так захватила Вебера, — вероятно, величайшее событие в истории человечества» (с. 240). Тем более важно помнить, что событие это носит случайный характер, что наш мир — вовсе не закономерный итог какого-то естественного развития. Мир держится на хрупких и далеко не достаточных основаниях. Под занавес Геллнер предлагает публике оставить самодовольство и манию величия гегельянцам, принять рациональность как неотъемлемую часть самих себя и по возможности справедливо относиться друг к другу.