Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2003
| В начале следующего века «асеанская десятка», как ее иногда называют, будет динамичным, рыночным регионом с населением в 500 миллионов человек. Уже сейчас ASEAN пользуется колоссальным внешнеполитическим влиянием, самостоятельно или вместе с другими силами направляя действия APEC, ARF и ASEM[1]. Wall Street Journal[2] |
В 1500 году до н. э. на планете было около 600 000 автономных политических образований[3]. Сегодня, после множества слияний и завоеваний, их осталось 193. При таких темпах планете недолго ждать единого правительства.
Мировое правительство? Традиционно идею мирового правительства поддерживали левые пацифисты. В других идеологических секторах она вызывала отторжение в различных формах, две из которых следует упомянуть особо. Первая школа считает эту идею безнадежно нереалистической — и приклеивает левым пацифистам ярлык «недоумки единого мира». Вторая школа считает идею реализуемой, но кошмарной — и предрекает приход зловещего «Нового мирового порядка».
Грубо говоря, разница между этими школами обусловлена тем, какую сторону в антитезе «Джихад против МакМира»[4] они экстраполируют. Многие представители первой школы, глядя в будущее, видят, как ширится чума трайбализма: гражданские войны, этнические конфликты, терроризм — и все это вооруженное новыми и смертоносными технологиями и во взрывчатом контексте перенаселения и экологического кризиса. Так, согласно публицисту Роберту Каплану, «на смену четкой структуре национальных государств придет крошево городов-государств, городов-трущоб, смутных и анархических регионализмов». Повсюду распространятся частные армии и наркокартели, а «криминальная анархия» превратится в «реальную “стратегическую” угрозу»[5].
В сценарии номер два главная проблема — не хаос, а, наоборот, жуткий вариант порядка. Порядок этот складывается отчасти благодаря многонациональным корпорациям и кругосветным финансистам, которые заправляют МакМиром. Они присягнули не какой-нибудь стране, а исключительно барышу и внедрили свои ценности в такие наднациональные организации, как Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация, щупальца которых грозят медленно опутать, а затем раздавить всякую национальную независимость. С этой точки зрения, в питательном бульоне наднациональных аббревиатур — МВФ, ВТО, ООН, NАFТА и т. д. — выводится грядущая планетарная власть, сокрушающий суверенитеты Новый мировой порядок. В апокалиптических видениях христианских фундаменталистов такие организации буквально служат Антихристу[6].
Важное различие между двумя этими школами — между теми, кто боится хаоса, и теми, кто боится порядка, — заключается в том, что вторые более безумны. Например, они частенько принимают вертолеты непритязательно темной раскраски за боевую авиацию ООН.
Как правило, здравомыслящие люди — более надежные проводники в будущее, чем психи. Но здесь, возможно, случай обратный. Если история — хоть сколько-нибудь добросовестная наставница, то большая доля власти, сейчас сконцентрированная на уровне национального государства, действительно перейдет к международным институтам. Мировое правительство (government) — единый, централизованный, общепланетарный орган власти — может быть, и не возникнет, но нечто достаточно прочное, чтобы носить имя органа мирового управления (governance), — вещь вполне вероятная[7]. Можно сказать, что мировое управление — это просто судьба человечества, очередной этап многовековой экспансии ненулевости[8].
Но это не значит, что теоретики «хаоса» целиком заблуждаются. Более того, по крайней мере в двух аспектах история подтвердит их правоту. Во-первых, разобщенность и «трайбализм», входящие в сценарий хаоса, действительно растут и будут расти. Колоссальное чистое сокращение числа политических образований — с 600 000 до 193 — фактически маскирует попятное движение последнего времени. За истекший век число политических единиц как раз возросло. Но, как мы увидим, и это, и другие проявления «трайбализма» не просто совместимы с органами мирового управления — странным образом, они неразрывно с ним связаны.
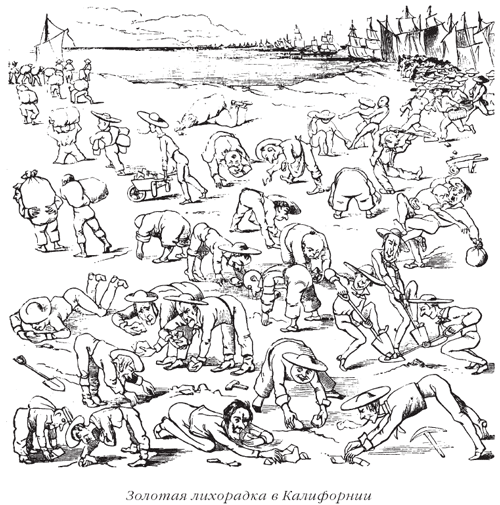
Во-вторых, хаос, составляющий суть хаотического сценария, — не чья-то выдумка. Но, как мы также увидим, именно этот хаос помогает вести мир к последней ступени политической организации, на глобальном уровне.
Логика единства
Расчеты на стратегическое торжество глобального управления основаны на трех наблюдениях. Управление всегда имело тенденцию расширяться до географических масштабов, необходимых для решения тех ненулевых проблем, которые рынки и моральные кодексы не могут разрешить сами. В наши дни многие ненулевые проблемы наднациональны и касаются многих — а иногда и всех — наций[9]. Силы, стоящие за этой экспансией ненулевости, — это силы технологические, и, по очевидным причинам, они будут только нарастать.
Вспомните долгое, медленное восстановление экономики в средневековой Европе, когда торговля начала выходить за локальные рамки. Растущей торговле между немецкими городами угрожали разбойники и пираты. Как мы видели, купцы этих городов решили проблему, создав Ганзейский союз — не полноправное национальное правительство, но все же орган управления. В то же время в других областях Европы дорогу торговле прокладывали короли: подавляя смуты, упорядочивая законы, строя национальное государство. Работал здесь общий принцип: расширяясь и охватывая все больше и больше людей, торговля делает их заинтересованными в защите самой торговли от трений и разрывов.
Сегодня, когда торговля стирает границы национальных государств, возникает много потенциальных источников трения и разрывов. Один из них — торговые споры, грозящие перерасти в торговые войны. Другой, ярко проявившийся во время азиатского финансового кризиса в конце 1990-х годов, — это нехватка «прозрачности», надежных финансовых данных о внешне благополучных странах. Такая непрозрачность в результате может привести к паническому и губительному (для экономики страны) бегству иностранных инвестиций.
Эти осложнения воздвигают барьер «доверия» для ненулевых выигрышей. А управление, как правило, так или иначе ломает такие барьеры. В число возникающих институтов мирового управления, решающих эти проблемы доверия, входят Всемирная торговая организация (ВТО) и Международный валютный фонд (МВФ). ВТО регулирует торговые споры (примерно так же, как национальные арбитражные суды решают споры между компаниями, хотя решения ВТО не имеют той же принудительной силы — по крайней мере, пока). Международный валютный фонд ссужает деньги попавшим в беду странам, чтобы предотвратить панику (примерный национальный аналог — страхование вкладов национальными банками), и за это рассчитывает добиться от них честного менеджмента и ясной бухгалтерии — т. е. прозрачности.
Легко смеяться над фанатиками-националистами, которые считают эти организации угрозой для суверенитета всех стран мира и обличают «секретные трибуналы» ВТО. В самом деле, разве ваш дом когда-нибудь обыскивали люди в форме с нашивками «ВТО» или «МВФ»?
Однако раз полномочия этих органов — реакция на рост ненулевых отношений между странами и раз технология, скорее всего, будет работать на эту тенденцию, то не нужно быть безумцем и паникером, чтобы представить, как на глобальный уровень переходит все больший объем полномочий. Действительно, когда азиатский финансовый кризис напомнил миру о его взаимозависимости, то к усилению международных институтов призывали даже такие здравомыслящие люди, как председатель Федеральной резервной системы США[10]. «Нью-Йорк таймс» так сформулировала расхожие выводы из азиатского кризиса: «Лишь самые твердолобые идеологи свободного рынка до сих пор полагают, будто все более единая глобальная экономика может обойтись без наднациональной организации, которая бы служила сторожевым псом, ворчуном, посредником и аварийным кредитором»[11].
Сторожевой пес, ворчун, посредник, кредитор — все это звучит не так уж внушительно. Но служить «аварийным кредитором» — т. е. кредитовать тогда, когда частный сектор в кредитах отказывает, — значит субсидировать, а где субсидии, там и власть. Действительно, власть американского правительства над другими государствами в большой мере состоит не из правового принуждения, а из сопутствующих субсидиям рычагов воздействия. Основные планы реформирования МВФ[12] после азиатского кризиса воспроизводили именно эту модель государственного внешнеполитического контроля — усиление роли аварийного кредитора и более сильные рычаги: больше финансовой открытости, больше налоговой дисциплины, более жесткое регулирование банков.
Когда азиатский кризис миновал, самые масштабные из этих планов ушли в тень. И тем не менее к весне 1999 года МВФ проголосовал за постоянную «аварийную кредитную линию»[13], которую бы в чрезвычайных ситуациях использовали страны, отвечающие стандартам МВФ в отношении прозрачности и бюджетной жесткости. Поскольку странам, принятым в кандидаты на такую помощь, будет, видимо, и вообще легче привлекать иностранный капитал, то, значит, перед нами мощный постоянный стимул для прохождения данного теста. Тем самым «аварийная кредитная линия», сколь бы скромным это нововведение ни казалось, может привести к систематическому расширению власти МВФ.
И следует помнить, что странам, отчаянно нуждающимся в займах, наднациональные кредитные институты даже с менее регулярным влиянием могут казаться вполне авторитарными. Вот цитата из азиатского выпуска “Wall Street Journal”, вышедшего в 1998 году: «Против плана южнокорейского правительства создать фонд для скупки акций кризисных компаний возражает Всемирный банк, что, видимо, обрекает данный план на неудачу»[14]. Южным корейцам такое давление, несомненно, представлялось очень похожим на авторитарные действия наднационального органа власти.
Следует также помнить, что в ходе истории нежесткие структуры, решавшие ненулевые проблемы, очень часто предваряли приход более сильных властных институтов. В XIX веке несколько итальянских государств согласовали таможенные тарифы, углубляя экономическую интеграцию и облегчая переход к политическому единству нации[15]. Кто знает, что в конце концов получится из Всемирной торговой организации?
В определенном смысле это сравнение дурацкое. В Италии XIX века экономика не была единственным действенным фактором. Наряду с ней важную роль играл другой великий смеситель ненулевого цемента — враждебность к общему врагу (Австрии). Разумеется, на эволюцию мирового управления такая враждебность влиять не будет — если только инопланетяне не откажутся от своей нелюдимости.
В самом деле, политическое объединение без войны — либо на заднем плане в виде угрозы, либо на среднем или переднем плане в виде реальности — стало бы новостью не только по сравнению с итальянской или немецкой историей, но и с историческим периодом вообще — да и с доисторическим тоже. Как мы видели, когда социальная организация перемещалась на надпоселенческий клановый уровень, то очень часто — если не всегда — это сопровождалось боевыми действиями. Иногда они имели лишь местное значение — и вождь одного селения основывал клан, победив вождей других селений. Но когда слияние происходило менее насильственно (как, хотелось бы надеяться, будет и в случае мирового управления), то обычно где-то за пределами клана маячил внешний враг.
Правда, Соединенные Штаты перешли от конфедерации к единому государству в мирное время. Но и к самой конфедерации штаты подтолкнула война, и за централизацию «Федералистская газета» тоже агитировала, пугая военной угрозой.
Короче говоря, если пришельцы не нападут на нашу планету, а она все равно будет двигаться к постоянному наднациональному управлению, то такой переход будет исторически беспрецедентным. Тем не менее есть две важных причины не отвергать возможность подобного исключения из правил.
Добровольное сплочение
Во-первых, хотя и верно, что добровольные политические слияния практически никогда не происходили при длительном мире или спокойствии, верно также и то, что, насколько нам известно, длительного мира или спокойствия никогда в истории и не было. Кто знает, какой эффект возымеет экономическая логика сама по себе, без подпорок в виде коллективной ненависти? Если общие враги не сбивают людей в кучу, то, может быть, у людей появится время передохнуть и сбиться в кучу самим — медленнее, но столь же неуклонно.
Примером может служить Европейский союз. Он начинался как зона свободной торговли — в некоторых отношениях похожая на Североамериканское соглашение о свободной торговле (NАFТА). Но посмотрите, сколько власти сегодня уже централизовано. В 1996 году в разгар паники из-за коровьего бешенства ЕС запретил Британии экспортировать говядину — не только в другие страны ЕС, но и во все страны мира! Вот еще чем ЕС занимался в рутинном порядке: запрещал своим членам импортировать иранские фисташки (которые будто бы содержат природный канцероген в высокой концентрации) и говорил своим членам, что они могут — и более того, должны — разрешить продажу средства от импотенции «Виагра»[16].
Если национальное государство не вправе решать, куда экспортировать говядину, какие фисташки безопасны и какие лекарства должны быть доступны его импотентным гражданам, то оно уже не вполне суверенно в традиционном смысле слова. Как это случилось? Как вышло, что еще минуту назад вы — всего лишь зона свободной торговли, а в следующую минуту — или, по крайней мере, в следующие полвека — уже запрещаете ввоз фисташек? Как Европейское объединение угля и стали трансформировалось в Европейское сообщество, а из него — в Европейский союз? На самом-то деле переход этот поразительно логичен: одна ненулевая игра ведет к другой, та, в свою очередь, к следующей, и так далее. Эту логику стоит описать подробнее, отчасти потому, что Всемирная торговая организация, судя по некоторым симптомам, идет по следам ЕС.

Во-первых, страны торгуют друг с другом (ненулевая игра номер один). Затем они замечают, что взаимное понижение тарифов даст дополнительный выигрыш (игра номер два). Затем они решают, что всем будет лучше, если избавиться от свар относительно того, что именно считать нарушением тарифного договора, и вводят способ улаживания споров (игра номер три). Переход последнего рубежа (образование рудиментарного арбитража) и превратило Всеобщее соглашение по тарифам и торговле во Всемирную торговую организацию.
Но арбитраж неизбежно оказывается связан со сложными вопросами. Например: что делать со скрытыми торговыми барьерами? Если страна законодательно запрещает импорт креветок, пойманных сетями, которые убивают морских черепах, то что это — действительно природоохранный закон (как заявляет данная страна) или же замаскированный протекционизм? С подобными вопросами сталкиваются и ЕС и ВТО. Так, ВТО порекомендовало Соединенным Штатам снять запрет на импорт креветок из нескольких азиатских стран. Теоретически, США могли бы это решение проигнорировать. Единственная мера наказания, которую ВТО могла бы применить, — это одобрить введение штрафных тарифов со стороны потерпевших стран, т. е. тарифов, которые эти страны могли бы ввести и без благословения ВТО. Однако США так часто выигрывали от решений ВТО, что им выгодно поддерживать уважение к этой организации[17]. Фактически это и составляет суть любой системы управления: добровольное подчинение индивидуальных игроков властному органу, который, решая ненулевые проблемы, приносит игрокам больше выгод, нежели издержек. Этой чистой прибылью объясняется, почему решения ВТО могут стать более обязательными — вследствие ли просто обычая или на основе нового договора.
Из-за того, что наднациональное управление поощряет международную торговлю, возникают новые вопросы. Если в каждой стране свои пищевые тесты и своя пищевая номенклатура, то не вредит ли это всеевропейским производителям пищи — более того, их потребителям? Далее, если у каждой страны свои пищевые законы, не превращаются ли они в скрытые торговые барьеры?[18] Не захотят ли французские фермеры поддержать законы, которые объявят португальские пищевые технологии несоответствующими стандарту или дадут «сыру» такое узкое определение, что некоторые импортные продукты лишатся этого наименования? Одним словом, разве единообразные пищевые законы не упростят и не удешевят жизнь для большинства населения? Упростят, отвечает ЕС (игра номер четыре) и тем самым приобретает новую функцию. (Упростят, в начале XX века ответили Соединенные Штаты; именно рост торговли между штатами перевел регулирующие функции такого рода с уровня штата на уровень федеральный.)
Как уже доказала Европа, цепочка ненулевых игр не кончается на регулирующих и арбитражных полномочиях. С ростом международной торговли все национальные валюты превратились в помеху. Тут и издержки при обмене валюты, тут и неприятная неопределенность обменных курсов. Разве большинство европейцев не выиграют от единой валюты? Выиграют, решил ЕС. Но одна валюта означает один центральный банк. И вот каждая страна лишилась своего центрального банка и, в символическом плане, своей валюты (или, как остроумно говорят в Британии, своего соверена). В этот момент — когда страны уступили центральному органу контроль за денежной политикой — граница между свободной ассоциацией стран и настоящей конфедерацией, очевидно, была перейдена[19].
Пришло время для оговорок. Конечно же, европейская интеграция с самого начала не была строго экономическим проектом. Она была задумана как способ «навязать мир» — объединить расколотый войной континент экономическими связями, которые бы сделали новую войну немыслимой (и похоже, этот план удался). Но все-таки в сближении играла роль и чисто экономическая логика — именно поэтому за него выступали европейские корпорации и ему рукоплескали фондовые рынки. Более того, как раз в тот момент, когда Европа унифицировала свою валюту, “Economist” напечатал статью под названием «Один мир, одна валюта», в которой указывалось, что столь же мощная экономическая логика требует и глобального валютного союза[20]. В статье признавалась политическая невозможность такого союза в ближайшей перспективе; некоторые экономисты сомневаются и в его чисто экономической разумности. Тем не менее, когда вследствие азиатского кризиса затряслись обменные курсы, и в Аргентине, и в Мексике начали всерьез обдумывать переход на американский доллар как на официальную валюту.
Так или иначе, мораль истории ЕС проста: вперед! Международная торговля сама по себе, путем самодвижущейся ненулевости, может расширить масштабы единого управления. Никаких инопланетян не нужно! Поскольку технология продолжает сокращать экономические расстояния, логически сферой наднационального управления мог бы стать весь земной шар. Сейчас, наверно, это трудно вообразить, учитывая культурное и языковое разнообразие мира и кипящую ненависть между многими нациями. Но помните: если бы девяносто, даже шестьдесят лет назад вы бы предсказали, что когда-нибудь у Франции и Германии будет общая валюта, то в ответ вы услышали бы: «А кто кого завоюет?»
Вынужденное сплочение
Даже если инопланетяне-убийцы и не составляют обязательного условия для глобального управления, они сэкономили бы нам уйму времени. Даже если чисто экономические силы теоретически и могли бы заставить людей забыть об их мелких различиях (очень большое «если»), ничто по этой части не сравнится с угрозой общей смерти.
И оказывается, что конец второго тысячелетия подарил нам аналог враждебных пришельцев — не угрозу однократной агрессии, но множество разных угроз, которые в совокупности складываются в большую глобальную проблему безопасности. Диапазон широкий — от террористов (с их арсеналом все более зловещего оружия) до новой породы международных преступников (многие из которых будут совершать преступления в принципиально международной сфере — киберпространстве), от экологических проблем (глобальное потепление, озоновая дыра и масса региональных — но все же наднациональных — проблем) до медицинских (эпидемии, распространяющиеся по современным каналам). Ни одна из этих проблем по отдельности не обладает живительным эффектом космических агрессоров, но все они внушают страх и все они так или иначе требуют глобального управления. Они угрожают многим странам общими бедствиями, с которыми разумнее всего бороться с помощью кооперации.
Момент очень удобный. Если организация экономики переходит на глобальный уровень, а управление постепенно движется в ту же сторону, то великий традиционный катализатор единого управления — внешний враг —исчезает по определению. Но зато возникает целая серия проблем, очень похожих на внешнего врага; они не собирают людей ради общей выгоды, а сгоняют их в кучу ради спасения от общего бедствия[21].
Зачатки новых структур управления уже видны. Они еще слабы, но в самой их слабости видна будущая сила. Взять, например, Конвенцию о запрещении химического оружия. Конвенция предоставляет международному органу беспрецедентное право устраивать внеплановые инспекции в любом государстве-участнике по требованию любого другого государства-участника. В 1997 году, когда в Сенате США обсуждался этот договор, его противники говорили, что с его ратификацией Америка потеряет суверенитет. Сторонники договора оказались в странном положении: им в ответ пришлось подчеркивать принципиальную слабость договора — если инспекция попытается обыскать ваш гараж, американское правительство может ставить ей палки в колеса, а если обыск покажется неконституционным, то и прекратить его. Наверное, так оно и есть. Однако если другие страны смогут поступать так же, тогда львиная доля ценности Конвенции для США — право требовать инспекции в других странах — отправляется на помойку. А если США хотят эту ценность — это право — реализовать, если они хотят, чтобы другие страны отказались от частицы суверенитета, тогда им самим придется отказаться от частицы суверенитета. Так работают эти игры.
Вопрос, следовательно, в том, возместит ли когда-нибудь право на жесткую инспекцию цену утраченного суверенитета. И ответ почти несомненно утвердительный. Распространение технологической информации — включая и военную — всегда оказывалось неодолимым в длительной перспективе, а новые средства коммуникации, прежде всего Интернет, перспективу эту сильно сокращают.
На самом деле, химическое оружие — третьестепенная проблема. На шкале опасного оружия массового уничтожения химическое оружие едва заметно. Главная опасность — биологическое и ядерное оружие: именно они гарантируют, что к 2200 году каждая хорошо финансируемая террористическая группа будет обладать технологией, позволяющей убить 50 000 человек в каком угодно городе.
Биологическое оружие гораздо проще производить и хранить, чем ядерное оружие. Защита от него потребует такого сокращения суверенитета, какое сегодня вызвало бы у нас шок. Придется проводить мониторинг любых промышленных и медицинских производств. Личное владение определенной аппаратурой, вероятно, будет запрещено, внеплановые инспекции станут необходимостью. Такая перспектива — что какой-то наднациональный орган сможет потребовать обыска у вас в подвале или в холодильнике — сейчас показалась бы большинству американцев абсолютно немыслимой, даже при условии, что местная полиция предотвращала бы злоупотребления[22].
Но травма умеет превращать немыслимое в тривиальное. В середине Второй мировой войны историк Арнольд Тойнби встретился в Принстоне (штат Нью-Джерси) с группой видных политиков, чтобы обсудить послевоенное устройство мира. К концу встречи Тойнби убедил Джона Фостера Даллеса — непреклонного консерватора, который впоследствии стал госсекретарем у Эйзенхауэра, — что мировое правительство необходимо. Даллес подписался под резолюцией, где говорилось, что «будучи христианами, мы обязаны указать на моральные выводы из фактической взаимозависимости, к которой сегодня пришел мир. Мир превратился в единое сообщество, и члены этого сообщества уже не имеют морального права держаться за “суверенитет” или “независимость”, которые сегодня стали не более чем юридическим оправданием для действий без оглядки на причиняемый другим ущерб»[23].

А Вторая мировая война, и это следует иметь в виду, для среднего американца была совсем не такой страшной, каким будет биологическое оружие. В 1942 году не было опасности уничтожения десятой части городских жителей Америки. А как только такая угроза станет реальна, значительные уступки суверенитета будут рассматриваться как наименее болезненное решение проблемы. (И самое гуманное. Репрессии против целых категорий населения, например мусульман, сейчас кажутся маловероятными, но вспомните интернирование японцев во время Второй мировой войны. Разве наднациональное управление не лучше?)
Множество ненулевых проблем обнаруживают ту же логику: ключевые технологические тенденции делают рост этих проблем фактически несомненным, а для их решения потребуется реальное расширение наднационального управления. Глобальное законодательство по выписыванию антибиотиков? Разумеется — раз их беспорядочное использование приводит к образованию штаммов супербактерий, способных пересечь океан на любом самолете. Ограничения на национальные квоты морского рыболовства, наряду с внеплановыми инспекциями любого траулера и строгими штрафами? Разумеется — поскольку запасы мирового океана истощаются. Международный валютный фонд с регулирующими полномочиями, сравнимыми с полномочиями современных национальных правительств? Вполне возможно, вслед за всемирной депрессией.
А ведь есть еще и пресловутый враг суверенитета — киберпространство, которое населяют офшорные беглецы от налогов, офшорные инфотеррористы, офшорные нарушители авторских прав, офшорные пасквилянты. (А иногда сам нарушитель — добропорядочный резидент, а офшорный у него только компьютер.) Странам будет все труднее применять все большее число законов, если только они не скоординируют как исполнение законов, так и — в некоторых случаях — само законодательство.
Взятые по отдельности, разные пласты наднационального управления могут казаться не очень внушительными. Но они суммируются. Мы не можем предсказать, какие именно проблемы будут решаться на наднациональном уровне, но можем сделать более широкое предсказание: чем больше технологическая эволюция будет делать то, что делала всегда, — т. е. расширять и углублять ненулевость, — тем настоятельнее будет необходимость в наднациональном управлении.
Итак, в итоге сценарии «хаоса» и «порядка» в каком-то смысле примиряются. Действительно, появятся новые разновидности хаоса, но они приведут мир к новому уровню политической организации, который — если будет функционировать успешно — принесет порядок. Теоретики «хаоса» не замечают одной простой вещи: хаос — всего лишь одна из ненулевых проблем, которые люди прекрасно умеют решать.
Хороший трайбализм
Некоторые теоретики хаоса переживают и из-за искаженного представления о современном «трайбализме». Они волнуются из-за его разрушительных последствий, не сознавая, что на каждый самоопределившийся взрывчатый «этнос» приходятся десятки других оформляющихся «этносов», вполне безобидных, если не благотворных, — этносов, которые помогут ввести порядок в новый мир.
Чтобы понять, в чем тут дело, в первую очередь нужно вспомнить, что главный стимулятор трайбализма — это коммуникационные технологии. Для ирландцев, серьезно относящихся к своей ирландскости, имеется гэльский телеканал (Teilifis Gaelige)[24]. И фактически все этносы — от квебекских сепаратистов до сепаратистов Северной Италии, от корсиканских сепаратистов до баскских сепаратистов в Испании (и во Франции) — используют для координации Интернет.
Та же информационная технология, которая обслуживает эти традиционные «этносы» — объединенные языком или религией, культурой или историей, — обслуживает и «этносы» нового типа, объединенные общими интересами — от политических до развлекательных. Эта тенденция намного старше и Интернета и кабельного телевидения. Возникшая в начале 60-х годов, компьютерная почта так снизила организационные издержки, что никому не ведомые группы вроде Американской ассоциации пенсионеров превратились в мощную политическую силу.
С тех пор издательские и другие компьютерные технологии настолько облегчили самоорганизацию, что практически любой общий интерес может легко мобилизовать сторонников. «Небрасский Бетти-клуб» объединяет женщин по имени Бетти, живущих в Небраске, и старается возродить уважение к этому имени, которое, к сожалению, вышло из моды[25]. «Общество молодых и взрослых христиан — Титаник» «пропагандирует первоочередное спасение женщин и детей при катастрофах». Название «Национальной ассоциации за прогресс в отношении к толстякам» говорит само за себя.
Чем проще и дешевле становятся дальние контакты, тем больше возникает транснациональных групп такого типа. Европейская федерация мигрени, согласно “Wall Street Journal”, была основана в 1990-х годах, чтобы «бороться за признание мигрени тяжелой болезнью» — частью ее активности является издание «Мигрень — Желтые страницы»[26].
У многих транснациональных групп и географический охват, и влияние больше, чем у Европейской федерации мигрени. Экологические группы одними из первых стали организовываться с помощью Интернета, используя EcoNet, GreenNet и другие маршруты в киберпространстве. Сторонники сценария хаоса, такие как Роберт Каплан, любят подчеркивать вредоносность трайбализма и экологической деградации. Но та самая технология, которая отчасти стимулирует трайбализм, помогает и разрешать экологические проблемы; она формирует наднациональные экоэтносы (терминологически говоря, «неправительственные организации», НПО), которые влияют на политику на наднациональном уровне, для этой политики очень часто единственно и адекватном[27]. Они оказали реальное влияние на международные соглашения в диапазоне от глобального потепления до рыболовства и заставили прислушиваться к себе в штаб-квартирах корпораций по всему миру. Протестуя против хищнических вырубок, проводимых автомобильной компанией Mitsubishi, Сеть за спасение тропического леса (Rainforest Action Network) призвала активных граждан мира посылать через ее сайт факсы на адрес компании — и эта акция привела к такому расходу бумаги (месть за деревья?), что компании пришлось сменить номер факса[28]. (Параллельно Mitsubishi столкнулась и с наднациональным феминистским этносом. Группы японок пикетировали собрание акционеров, протестуя против сексуальных домогательств на заводе Mitsubishi в Иллинойсе.)
Наднациональные «этносы» стали очень активны и в такой традиционно национальной сфере, как условия фабричного труда. Своей деятельностью они доказывают, что для управления не всегда нужны правительства[29]. Подумайте об успехе Международного фонда трудовых прав (International Labor Rights Fund), Комитета юристов за права человека (Lawyers Committee for Human Rights) и других неправительственных организаций, которые составили кодекс, регулирующий заработок, рабочее время и детский труд на швейных фабриках[30]. «Nike», «Liz Claiborne», «L. L. Bean» и другие производители одежды согласились соблюдать этот кодекс, за что получили право ставить на свои товары знак, подтверждающий гуманный характер их производства. Одновременно «Nike» — как член Федерации производителей спорттоваров (Federation of Sporting Goods Industries) — обсуждала с такими НПО, как «Unisef» и Христианская помощь Оксфордского комитета по борьбе с голодом (Oxfam Christian Aid), условия труда на фабриках спорттоваров[31]. А Южно-Азиатская коалиция против детского рабства (South Asian Coalition on Child Servitude) в сотрудничестве с религиозными, профсоюзными и потребительскими группами добилась согласия на внеплановые инспекции фабрик от некоторых производителей ковров в Индии, которым эта договоренность дает право ставить на свою продукцию знак, подтверждающий, что ковры сотканы взрослыми работниками, получающими не меньше минимальной ставки для данного региона[32].
Это не то правительство, к которому мы привыкли; тут нет ни выборных должностных лиц, ни долларов от налогоплательщиков. Но — в той мере, в какой эта деятельность успешна, — это все же управление, примерно в том же смысле, в каком был органом управления объединявший купцов Ганзейский союз. И это управление пытается решить некоторые из проблем, стоящих в черном списке теории хаоса, — например, культурный кризис, вызванный стремительной индустриализацией традиционных обществ.
Чтобы слезы умиления добродетелями Международного фонда трудовых прав и других международных заступников не затуманили нашего взгляда, примем небольшую дозу цинизма. Американские профсоюзы не тратили так много времени на оплакивание тяжелых условий труда в других странах, пока зарубежные рабочие не начали отнимать работу у американских. Зато теперь профсоюзные лидеры сильно переживают из-за тяжелых условий — ведь из-за них рабочая сила в этих странах стоит так дешево, что члены американских профсоюзов не могут с ней конкурировать.
С другой стороны, лоббирование всегда было эгоистическим. Это нормально для любой системы правления. Интереснее действительно новая черта современного лоббирования — оно транснационально. В наши дни Карла Маркса мало кто считает великим провидцем, и его призыв «пролетарии всех стран, соединяйтесь» уже не в моде. Но экономическая логика приближает это пророчество к пусть скромной, но все же реализации.
В конце концов, даже когда американские рабочие стараются сделать безработными некоторых жителей Азии (например, детей с очень низким заработком), эти же американцы имеют общие интересы с другими азиатскими рабочими — например, такими, которые в результате транснационального урегулирования будут — вместо детей — получать больше работы, и притом за более высокую плату. А когда американские профсоюзы лоббируют включение статей по трудовым договорам в международные торговые соглашения (когда они требуют от NАFТА предоставить мексиканским рабочим право на организацию профсоюзов), то они поют в унисон с большинством мексиканских рабочих. В целом у рабочих в странах с высокой и низкой оплатой труда есть общий интерес — поднять зарплату в странах с низкой оплатой (если только такое повышение не превратится фактически в запретительную пошлину для большого числа зарубежных производств — но эта угроза не кажется очень вероятной).
В устав NАFТА не вошли сколько-нибудь серьезные статьи о трудовых договорах; в Конгрессе США он принимался голосами правоцентристского большинства, поэтому его структура довольно консервативная. Но это верно не для всех торговых блоков[33]. Европейский союз очень активно занимается регулированием трудовых отношений — и вообще доказывает, что торговое объединение вполне может иметь левую идеологию.

Пойдет ли когда-нибудь Всемирная торговая организация по пути Европейского союза? Попадет ли когда-нибудь в условия членства в ней что-нибудь, кроме низких таможенных тарифов? Например, законы о детском труде? Законы о гарантиях занятости? Законы о праве на профсоюзы? А может быть, и законы об охране окружающей среды? Сможет ли участие в глобальных природоохранных соглашениях стать условием для постоянного членства в ВТО?
Ни одно из этих предположений не является фантастическим, особенно если американские левые — и левые других стран — сделают такие изменения условием для принятия тех поправок в ВТО, которые поддерживает крупный бизнес. В один прекрасный день мы вполне можем увидеть, как рабочие всех стран действительно объединяются — подобно экологам всех стран. Старые политические дискуссии (как уравновесить экономическое равенство и эффективность) продолжатся — но вестись они будут в наднациональных органах управления, региональных или глобальных.
Более того, в 1999 году заря этого будущего уже забрезжила во время споров о том, кому быть следующим директором Всемирной торговой организации. Как отметила «Нью-Йорк таймс», Соединенные Штаты — при левоцентристском руководстве, связанном с профсоюзами и экологическими группами, — поддерживали кандидата, который собирался «защищать экологические и трудовые интересы». Франция тоже его поддержала, хотя ее фермеры боялись, что он срежет сельскохозяйственные субсидии. О французской позиции один европейский дипломат сказал: «В этом случае профсоюзы, которые боятся конкуренции с дешевой рабочей силой, оказались сильнее аграрных интересов». В подобной борьбе групп интересов нет ничего нового. Но обычно она не охватывала такие организации, как ВТО[34].
Еще один признак грядущего глобального управления — то, что гостиницы рядом со штаб-квартирой Всемирной торговой организации в Женеве превратились в постоянное место сборищ для профессиональных лоббистов — из «Этны» (“Aetna”), Ситибанка (Citibank), Международной федерации бухгалтеров (International Federation of Accountants) и так далее. Интенсивное лоббирование сопровождало в 1996 году и подготовку соглашения 160 стран — чуть ли не всей планеты — об авторском праве, достигнутого под эгидой Всемирной организации по интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization) при ООН[35]. Параллельно лоббисты Интернационала потребителей (Consumer International) обратились в Кодификационный комитет по пищевой маркировке (Codex Committee on Food Labeling) при ООН по вопросу о маркировании генетически модифицированных продуктов. Потерпев там неудачу, они переключились на Конвенцию о биоразнообразии (Convention on Biodiversity) — транснациональную группу, включающую ЕС и Японию.
Обратите внимание на вырисовывающуюся схему: раз за разом наднациональные «этносы» — экологические группы, профсоюзные группы, правозащитные группы, торговые группы, транснациональные корпорации — раздувают не хаос, а порядок. Их узконаправленное, но далеко хватающее влияние продвигает законодательство к глобальной гармонии. Эти разнообразные этносы не составляют парадоксального контраста с глобализацией — точно так же, как мириады разных клеток не составляют парадоксального контраста с тем организмом, который они образуют. В обоих случаях детализированное разнообразие необходимо. Политические органы не смогут выйти на глобальный уровень, если туда сперва не доберутся группы интересов. Говоря, что социальная сложность растет вглубь и вширь, мы имеем в виду, что такое разделение труда, включая разделение и труда политического, становится более детализированным, но более широким по охвату. В этом смысле наднациональный «трайбализм» — это естественное продолжение всей истории человечества.
Плохой трайбализм становится хорошим
Ну а как же обстоит дело с более традиционными, более опасными формами трайбализма? Как быть с грубым национализмом или с этнической балканизацией государств? Обычно их считают какими-то ожившими призраками прошлого — что и понятно в эпоху конца холодной войны и победного марша технологий. Но иногда и они подчиняются новым формам наднационального авторитета. Дважды в течение 1990-х годов межгосударственные конфликты о спорных островах решались не оружием, а в Международном суде (World Court)[36]. А в 1998 году один руандийский мэр был приговорен к пожизненному заключению за подстрекательство к геноциду — приговорен не победившими противниками, а трибуналом ООН[37].
Действительно, все больше оснований полагать, что даже если трайбализм, взбодренный микроэлектроникой, будет дробить государства, он прекрасно встроится в Новый мировой порядок. Сепаратисты Квебека поклялись, что как только отделятся от Канады, сразу же вступят в NАFТА и Всемирную торговую организацию. И это было бы разумным политическим ходом — Квебек привязал бы себя к Соединенным Штатам, Мексике и всему миру, ослабив зависимость от бывшего партнера. Но какими бы ни были мотивы такого шага, эффект останется тем же — Квебек вольется в наднациональные организации.
Та же логика действует и по другую сторону Атлантики. Накануне введения единой европейской валюты опросы показывали, что ни одна страна не поддерживает ЕС сильнее, чем Ирландия[38]. А дело здесь в том, что членство в ЕС позволяет Ирландии экономически отдалиться от ненавистной Британии. И точно так же, если любое из европейских сепаратистских движений когда-нибудь добьется независимости — в Северной Италии, Каталонии, на Корсике, — не сомневайтесь: их заявления о приеме будут лежать в ЕС уже на следующее утро.
Столкнувшись с такой картиной, мы снова окажемся в недоумении — кто же выигрывает, «Джихад» или «МакМир»? Будет ли наш мир более трайбализованным или более глобализованным? Или, если вернуться к самому началу главы, — как нам подсчитывать очки? Если в 2025 году Италия разделится пополам, но обе половины будут подключены к сети более прочного, чем все, что есть сегодня, наднационального управления — более того, если, вступив туда, они откажутся от больших порций суверенитета, — то вырастет или сократится при этом число независимых политических образований в мире? Есть черта, за которой наднациональное управление становится настолько сильным, что нынешние государства превращаются в своего рода провинции. Что же это за черта?
Этот вопрос помогает избавиться от отмеченной выше исторической аномалии: тогда как в течение почти всей истории человечества число политических образований сокращалось, в XX веке — когда мировые империи испустили дух — оно возросло. Теперь мы можем различить непрерывную тенденцию за этим внешним отклонением. Дело в том, что хотя число «суверенных» политических образований в XX веке выросло, объем их суверенитета постоянно сокращался. В конце концов, это было уже не старое доброе Средневековье, когда государства разбойничали на морских путях и безнаказанно расправлялись с иностранными гостями. К XIX веку пустила крепкие корни идея международного права и неприкосновенности его норм.
В основе этого стремления к наднациональным правилам лежала, прежде всего, растущая экономическая взаимозависимость, все больше превращавшая войну в игру с обоюдно негативным исходом. Более того, война стала не просто двухсторонне негативной, но даже трехсторонне негативной игрой — вредной и для обеих воюющих сторон, и — все в большей степени — для их соседей. Кант понял логику этого развития уже в конце XVIII века и сделал из нее смелые выводы: «Воздействие, которое потрясение каждого государства в нашей, благодаря промышленности столь тесно спаянной части света, оказывает на другие государства, так заметно, что эти государства под давлением грозящей им самим опасности, хотя и без законного основания, предлагают себя в качестве третейских судей и таким образом издалека готовятся к будущему великому государственному объединению, примера для которого мы не находим [нигде] в прошлом»[39].
Вскоре после того, как Кант обрисовал грядущие судьбы человечества, Наполеон доказал, что судьбы эти еще не настали. Но причиненные им опустошения имели, как оказалось, и обратную — позитивную — сторону. Мирный договор был заключен в 1814–1815 годах на Венском конгрессе — беспрецедентном собрании, на котором все европейские государства попытались создать структуру для поддержания прочного порядка. Впоследствии эту структуру использовали не столько для предотвращения войны, сколько для подавления либеральных восстаний 1848 года, поэтому Венский конгресс часто называют реакционным. Но он создал принципиально важный прецедент. Договорившись о созыве регулярных конференций по европейской стабильности, он стал самым первым вариантом того «великого политического органа», который предвидел Кант[40].
И, видимо, это принесло пользу. Девятнадцатый век в целом оказался для Европы мирным временем. Более того, по мере того как развитие техники поднимало торговлю на новый уровень, многим стало казаться, что будущее неизбежно будет мирным. Как всем известно, в 1910 году Норман Энджел в своей книге «Великая иллюзия», сразу переведенной на множество языков, объяснил, что во взаимозависимом мире война утратила смысл как инструмент политики. Всем известно и то, что человечество его не послушалось.
После Первой мировой войны для поддержания мира была создана Лига наций — усовершенствованный вариант «великого политического органа». Она потерпела неудачу. Но сегодня, после еще одной мировой войны, экономическая взаимозависимость сделала войны еще более иррациональными, чем тогда. И эту иррациональность дополнительно повышает ядерное оружие.
Внушает оптимизм то, что люди, кажется, понимают всю эту ненулевую логику. Ядерные державы избегают военных конфликтов друг с другом. Что касается экономической взаимозависимости, то в последнее время войны ограничены регионами (такими как Балканы), где исторические факторы помешали развитию насыщенной, детализированной взаимозависимости, — «недоглобализированными» регионами, если можно так выразиться. В поразительном противоречии с традиционными историческими моделями мы все больше думаем о войнах как о занятии бедных стран; богатые страны вмешиваются лишь затем, чтобы войну прекратить, а не чтобы ее выиграть. И разрыв с освященными временем схемами будет становиться все глубже по мере того, как бедные страны будут богатеть и война будет делаться все менее вероятной во все большей части планеты.
«Великий политический орган» номер три — ООН — самый на сегодняшний момент грандиозный проект. Нет спору, у этой организации не получилось охранять мир так успешно, как надеялись идеалисты. Но у нее было больше отдельных успехов, чем у Лиги наций, и она уже просуществовала вдвое дольше, чем Лига[41].
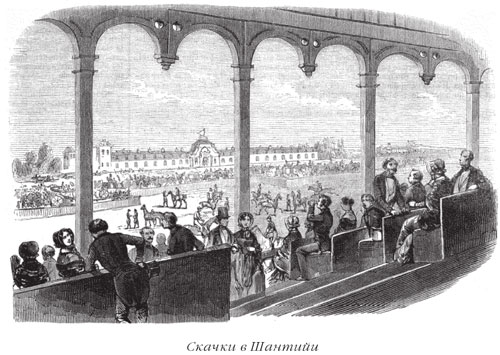
Более того, за это же время экспансия ненулевости распространила необходимость наднационального управления далеко за рамки миротворчества. Все — от налоговой политики до бухгалтерских стандартов, от экологических норм до поддержания правопорядка — переползает понемногу на наднациональный уровень[42].
Придем ли мы в итоге к единому «мировому правительству», о котором давно мечтают «недоумки единого мира», — предсказать невозможно. Другой вариант — и возможно, более благоприятный — это множество пересекающихся органов: одни региональные, другие глобальные; одни экономические, другие экологические; одни с участием национальных правительств, другие с участием неправительственных организаций; и так далее. Промежуточный вариант — переход этих органов под патронаж ООН (как уже происходит со многими возникающими институтами).
Можно представить самые разные виды сценариев. Но очень трудно представить, что этот переход управления на наднациональный уровень не превратит национальные государства в своего рода провинции. Этот переход обусловлен четкими технологическими тенденциями, имеющими за собой тысячелетнюю историю и не проявляющими никаких симптомов замедления. Технический прогресс — информационный, транспортный, военный и т. п. — делает отношения между политическими образованиями все более ненулевыми. Эта логика приведет «этносы» в Новый мировой порядок, даже если они яростно утверждают свою независимость от порядка старого.
Разумеется, одни «этносы» хотят присоединяться меньше, чем другие. Но вряд ли хоть какая-то нация — сколь бы радикальным ни было ее возникновение — будет вечно сопротивляться глобализации. Возможно, самый антиглобалистский режим в современном мире — это фундаменталистское исламское правительство Афганистана, правительство талибов. Однако в 1999 году талибы договорились о самых крупных за последние двадцать лет западных инвестициях для создания новой телефонной системы, которая должна обеспечить прямую международную связь. Как сообщалось в «Вашингтон пост», талибанские власти рассчитывают, что новая телефонная система «поможет развитию внешней торговли, привлечет инвестиции, восстановит связи с афганскими специалистами, эмигрировавшими за границу, подключит систему образования к Интернету и улучшит имидж Афганистана в мире»[43]. Это отнюдь не рецепт для продолжения джихада.
Рассредоточение судьбы
Во многих развивающихся государствах движение в сторону мирового управления вызывает сильное недовольство. Национальное государство, негодуют националисты, жертвует своим суверенитетом. Это правда; любые правительственные структуры — в том числе и наднациональные — всегда уменьшают свободу своих сочленов. Но в то же время правительственные структуры свободу и увеличивают. Если городское правительство работает хорошо, горожане приобретают свободу ходить по улицам, не опасаясь нападения. Однако в условия сделки входит и утрата свободы нападать на других горожан. Если вам нравится идея правительства, значит свободу от нападения вы цените больше, чем свободу нападать.
Так же обстоит дело и с наднациональным управлением. Хотите ли вы освободиться от страха перед глобальной депрессией? Или вы предпочитаете свободу вашего государства произвольно поднимать пошлины и укрывать свои финансовые институты от международного контроля? Цените ли вы свободу жить без страха перед смертью от биологической атаки? Или вы предпочитаете свободу жить без страха перед тем, что ваш холодильник будет обыскивать международная инспекция в поисках спор сибирской язвы — в том маловероятном случае, что подозрения укажут на ваш дом?
Или, если поставить эти же вопросы с другого конца: какой суверенитет вы предпочитаете потерять? Суверенитет над вашим холодильником или суверенитет над вашей жизнью?
Потеря суверенитета — не какая-то новая выдумка бюрократов ООН или ВТО. Если определить суверенитет достаточно широко — как верховный контроль над своей судьбой, — тогда постоянное сокращение суверенитета — это исторический факт, один из самых фундаментальных, упрямых фактов во всей истории. В самом деле, сказать, что история постоянно уменьшает суверенитет, — значит просто переформулировать тезис этой книги: история постоянно увеличивает ненулевость. Ведь оказаться в ненулевой ситуации — уже значит потерять односторонний контроль над своей судьбой: ваша судьба в какой-то мере перешла из ваших рук в чужие руки, точно так же как чужая судьба отчасти оказалась в ваших руках. И вы, и другие люди сможете вернуть себе какую-то долю контроля, какую-то часть утраченного суверенитета — но только с помощью кооперации, подразумевающей, в свою очередь, определенный отказ от суверенитета. Вопрос не в том, сможете ли вы сохранить весь ваш суверенитет целиком; история утверждает, что не можете; судьбой человечества всегда было рассредоточение судьбы. Вопрос в другом — в какой именно форме вы предпочитаете потерять ваш суверенитет.
Разумеется, даже разумный ответ на этот вопрос не означает мгновенного наступления нирваны. Даже осознав необходимость глобального управления, мы еще должны попасть отсюда туда. А это будет делом рискованным. В конце концов, история — и доисторическое время — свидетельствует, что переход от одного уровня политической организации к другому всегда влечет за собой «нестабильность переходного периода». Например, Элман Сервис отмечает, что «обычно превращение племенных теократий в государство совершалось или со страшными катаклизмами, или даже в результате полномасштабной гражданской войны»[44].
Сумеем ли мы перейти с национального на наднациональный уровень организации без катаклизмов? Какую цену придется за это заплатить? Придется ли, чтобы сохранить порядок во время опаснейшей переправы, пожертвовать личными и гражданскими правами? Это предмет следующей главы.
[*] “New World Order.” Глава из книги: Robert Wright, Nonzero: The Logic of Human Destiny (New York: Pantheon Books, 2000), 209–228. Copyright ї 2000 by Robert Wright. Перевод с английского Григория Дашевского.
[1] ASEAN (Association of South East Asian Nations) — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии; APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) — Организация азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества; ARF (ASEAN Regional Forum) — Азиатский региональный форум; ASEM (Asia-Europe Meeting) — институт регулярных встреч между руководителями стран Восточной Азии и Евросоюза. — Примеч. ред.
[2] Wall Street Journal, (January 31, 1977).
[3] Robert Carneiro, “Political Expansion as an Expression of the Principle of Competitive Exclusion,”in: Elman Service, ed., Origins of the State, Institute for the Study of Human Issues, 1978, 205–223.
[4] Отсылка к книге: Benjamin Barber, Jihad vs McWorld (Times Books, 1995), в которой «джихад» и «МакМир» — ярлыки для религиозного, культурного, языкового и пр. сепаратизма и фундаментализма и для экономической глобализации, соответственно. «МакМир» — ироническое обозначение Запада, символами и форпостами которого в развивающихся и бывших социалистических странах нередко выступают закусочные «Макдоналдс». — Примеч. перев.
[5] Robert Kaplan, “The Coming Anarchy,” The Atlantic (February 1994); Robert Kaplan, The Ends of the Earth (Vintage Books, 1997). Роберт Каплан признает, что в конце концов эти проблемы можно будет решить, но в ближайшие десятилетия, по его мнению, нас непременно ждет хаос, и он подчеркивает, что на протяжении истории человечества мирные и спокойные периоды были крайне редкими и кратковременными.
[6] Объявление на правах рекламы в New York Times (October 14, 1997) гласит: «Новый мировой порядок. Растущая централизация мировой финансовой и политической власти — прелюдия к системе мировой власти в руках “Антихриста”, который будет воплощением Сатаны и прельстит большинство людей (Даниил 7:12, Матф. 24:15, Откр. 13)».
[7] См., например: J. Rosenau and E.-O. Czempiel, eds., Governance Without Government (Cambridge, 1992).
[8] «Ненулевость» — собственный термин Роберта Райта, необходимость которого он так обосновывает в особом послесловии: «Я всерьез предполагал назвать эту книгу “Ненулевость (Non-zero-sumness)”. Но люди, к мнению которых я прислушиваюсь, сказали, что “ненулевость” — очень уродливое слово… Однако я вполне сознательно уснастил книгу как этим термином, так и родственными выражениями: “ненулевая сумма”, “отрицательная сумма” и так далее. Почему я так привязан к терминологии теории игр?.. Нельзя ли, например, сказать попросту, что игры с нулевой суммой соревновательны, а с ненулевой — кооперативны? Есть несколько обстоятельств, из-за которых я полагаю, что заменить теорию игр в качестве подхода к истории нашего вида нельзя ничем. Во-первых, во многих случаях, когда люди применяют ненулевую логику, слово “кооперация” неуместно. С японцами, которые построили мой пикап “Хонда”, меня связывают ненулевые отношения, но ни я, ни они и не думали кооперироваться друг с другом. И уж тем более индивидуальные гены в моих хромосомах не считают, что кооперируются друг с другом, хотя и ведут себя по ненулевой логике. Один из тезисов данной книги — в том, что логику биологической и социальной интеграции можно объединить общим аналитическим аппаратом… Еще одно достоинство аналитического аппарата теории игр — наличие в нем проверенных принципов, применимых к теме данной книги. Самый важный из них заключается в том, что если две эгоистические сущности хотят добиться выигрыша в ненулевой ситуации, то им надо решить две главные проблемы — коммуникации и доверия… Но, наверно, главный довод в пользу понятия “ненулевой суммы” — тот, что, как ни растягивай значение слова “кооперация”, даже если применять его и к генам, и к отношениям между мной и производителями “Хонды”, два эти слова все же означают разные вещи. Ненулевые отношения — это не отношения, при которых кооперация непременно имеет место. Это (обычно) отношения, при которых, если бы кооперация имела место, выиграли бы обе стороны. А вот имеется ли она, то есть добиваются ли стороны выигрыша, — это уже совсем иное дело. И кроме “ненулевой суммы” я просто не знаю другого слова, которое бы выражало суть таких отношений» (Robert Wright, Nonzero, 337–338). — Примеч. перев. Золотая лихорадка в Калифорнии
[9] Одна из классических работ на эту тему — R. Keohane and J. Nye, Power and Interdependence, (Harper-Collins, 1989).
[10] New York Times (May 11, 1998).
[11] New York Times (February 12, 1998). D2.
[12] См., например: George Soros, “Empower the IMF,” Civilization (1999, June/July).
[13] Wall Street Journal (April 26, 1999). Эта инициатива МВФ оказалась не такой радикальной, как многие надеялись; хотя страны должны заранее проверяться на пригодность, тем не менее в момент самого кризиса им придется снова пройти проверку, которая и будет решающей. То есть они не будут автоматически считаться «победителями отборочных соревнований» — а такой статус, возможно, стал бы более сильным стимулом для участия страны в программе (Barry Eichengreen, личное сообщение). Когда эта книга сдавалась в печать, детали реформы МВФ еще не были окончательно утверждены.
[14] Wall Street Journal, Asian online edition (April 17, 1998).
[15] То же самое, стремясь к объединению, сделали немецкие государства в XIX веке. См.: Charles Kindleberger, A Financial History of Western Europe (Oxford, 1993) 120, 137.
[16] New York Times (September 24, 1998).
[17] США обжаловали это решение, но оно было в главной своей части подтверждено (хотя сам природоохранный закон США был признан правомерным, США было указано на пристрастную выборочность его применения). К концу 1998 года США, как сообщается, собирались подчиниться этому решению ВТО и позволить импорт креветок из соответствующих азиатских стран. См. The Statesman (India) (December 27, 1998).
[18] Разумеется, когда регулирование пищевых продуктов перейдет на наднациональный уровень, группы интересов в каждой стране по-прежнему будут с ним бороться. Французские фермеры, например, по-прежнему будут требовать, чтобы португальские продукты объявлялись не соответствующими пищевым стандартам, а нефранцузские сыры объявлялись не сырами. Но такие маневры будет труднее осуществлять. И даже если закон, протекционистский по отношению к какой-то стране, все-таки пройдет на наднациональном уровне, его соблюдение обойдется дешевле всеевропейским компаниям, чем соблюдение набора разношерстных национальных законов.
[19] Daniel Elazar (Constitutionalizing Globalization (Rowman and Littlefield, 1998), 14), считает ЕС конфедерацией, а ВТО — «конфедеративным соглашением».
[20] “One World, One Currency,” The Economist (September 26 — October 2, 1998). Скептический взгляд на транснациональную единую валюту см. в: Paul Krugmann, “Monomoney mania,” Slate (April 15, 1999). Радужный взгляд см. в: Zanny Minton Beddoes, “From EMU to AMU,” Foreign Affairs (July—August, 1999), 8–13.
[21] Фактически некоторые формы экономической ненулевости имеют тот же «принудительный» характер — например, когда МВФ дает кредиты отдельным странам, чтобы предотвратить глобальную эпидемию коллапса. Как отмечалось выше, различие между «добровольными» и «принудительными» силами при близком рассмотрении исчезает, однако оно полезно для изложения.
[22] Это не означает, что каждый американский дом будет законной мишенью для ордера на обыск, выписанного любопытными бюрократами где-нибудь в Гааге. Инспекция имела бы реальную власть, но была бы во многих отношениях ограничена. Например, американские должностные лица могли бы сопровождать международных инспекторов, чтобы гарантировать, что никакие улики не будут подброшены. И существовали бы ограничения на число внеплановых проверок в год для каждой страны. И так далее.
[23] William H. McNeill, Arnold J. Toynbee: A Life (Oxford, 1989), 183–184. Добыча золота
[24] New York Times (October 21, 1996).
[25] New York Times (April 28, 1998).
[26] Wall Street Journal (June 17, 1996).
[27] См.: Jessica Matthews, “The Rise of Global Civil Society,” Foreign Affairs (January, 1997).
[28] New York Times (May 24, 1997).
[29] См.: Matthews, “The Rise of Global Society,” Robert Wright, “We’re All One-Worlders Now,” Slate (April 24, 1997), Rosenau and Czempiel, Governance Without Government.
[30] New York Times (November 5, 1998).
[31] New York Times (December 25, 1996).
[32] Washington Post (December 8, 1996).
[33] New York Times (May 15, 1999).
[34] New York Times (December 13, 1997).
[35] New York Times (December 21, 1996).
[36] Wall Street Journal (October 18, 1996).
[37] Associated Press (August 2, 1998).
[38] Wall Street Journal, online edition, September 18, 1998.
[39] Immanuel Kant, Political Writings (Cambridge, 1991), 51.
[40] См. R. R. Palmer and Joel Colton, A History of the Modern World (Alfred A. Knopf, 1965), 447–48.
[41] В некоторых отношениях война в Персидском заливе была образцовым применением принципов коллективной безопасности, как они изложены в хартии ООН. Совет безопасности одобрил силовой отпор агрессору, а получившие санкцию ООН многонациональные силы этот отпор осуществили. Вмешательство в Боснии, которое привело к Дейтонским соглашениям, тоже было — хотя и в более узком смысле — акцией с одобрения ООН для прекращения внешней агрессии (к тому моменту Босния была признана независимым государством).
[42] Умение транснациональных корпораций использовать разницу налоговых законов в разных странах для уклонения от налогов давно служило доводом в пользу унификации налоговых законов, которая уже начала осуществляться внутри Европейского союза. Наличие киберпространства только подкрепляет эти доводы, поскольку с его помощью уклоняться от налогов стало еще легче. В то же время Всемирный банк призывает к принятию общемировых бухгалтерских стандартов и обращается к аудиторам из стран «большой пятерки» с призывом не подписывать аудит, если отчетность этим стандартам не соответствует (Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree (Farrar, 1999). Относительно правопорядка: в дополнение к таким мелким шажкам по направлению к наднациональному поддержанию правопорядка, как Договор о химических вооружениях, развивается обмен данными и координация между национальными силами правопорядка, прежде всего — в рамках Интерпола. И в международном природоохранном законодательстве, в дополнение к растущему числу соглашений, растет понимание необходимости санкций за несоблюдение этих соглашений.
[43] Washington Post (May 8, 1999).
[44] Elman R. Service, Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution (W.W. Norton, 1975), 158.