Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2003
[*]
Юргену Хабермасу и мне приятно совместно подписать это эссе, в то же время являющееся воззванием. Сегодня мы считаем необходимым и неотложным, чтобы, несмотря на разделявшие нас в прошлом противоречия, немецкие и французские философы могли выступить совместно. Этот текст написан Юргеном Хабермасом (в чем легко убедиться). Сам я в связи с личными обстоятельствами не смог написать собственного текста, хотя охотно сделал бы это. Тем не менее я предложил Юргену Хабермасу поставить и мою подпись под этим воззванием. Я разделяю его основные предпосылки и выводы: характеристики новых видов европейской политической ответственности за пределами всякого европоцентризма; призыв к новому подтверждению и эффективному изменению международного права и его институтов, в особенности — ООН; новую концепцию и новую практику разделения государственных властей в духе, а иногда даже в смысле, восходящем к кантовской традиции. Впрочем, замечания Юргена Хабермаса по многим пунктам пересекаются с соображениями, которые я недавно высказал в книге «Voyou — Deux Essais sur la raison» (Galilee 2002)[1]. В ближайшие дни в США выйдет книга, содержащая два интервью Юргена Хабермаса и мое, которые мы порознь дали в НьюЙорке вскоре после 11 сентября 2002 года. При всех очевидных различиях в наших подходах и аргументации наши взгляды относительно будущего институтов международного права и новых задач для Европы имеют точки соприкосновения.
ЖАК ДЕРРИДА
Мы не должны забывать две даты: день, когда газеты сообщили своим ошарашенным читателям о том проявлении лояльности, к которому премьер-министр Испании призвал стремящиеся к войне европейские правительства за спиной других коллег по Евросоюзу; но также и 15 февраля 2003 года, когда ответом на этот внезапный удар стали массовые демонстрации в Лондоне и Риме, Мадриде и Барселоне, Берлине и Париже. Одновременность этих грандиозных демонстраций — крупнейших с конца Второй мировой войны — могла бы впоследствии войти в учебники истории как примета рождения общеевропейской публичности.
В гнетущие месяцы перед началом иракской войны морально непристойное разделение труда будоражило душу. Крупная операция по тыловому обеспечению неудержимого военного наступления и лихорадочная хлопотливость организаций гуманитарной помощи, подобно шестеренкам, цеплялись друг за друга зубцами. Это зрелище неумолимо разыгрывалось и перед глазами населения, которое — будучи лишенным права на собственную инициативу — было обречено стать жертвой. Нет сомнений в том, что сила чувств подняла на ноги граждан всей Европы. Но одновременно война донесла до сознания европейцев давно вырисовывавшийся провал их общей внешней политики. Как и во всем мире, бесцеремонное попрание международного права вызвало спор о будущем международного порядка и в Европе. Но нас сеющие раздор аргументы задели глубже.
Благодаря этому спору рельефнее обозначились известные линии разлома. Непримиримые позиции относительно роли единственной сверхдержавы, мирового порядка в будущем, актуальности международного права и ООН способствовали прорыву латентных противоречий на поверхность. Углубилась пропасть, с одной стороны, между континентальными и англосаксонскими странами, а с другой — «старой Европой» и восточноевропейскими кандидатами на вступление в Евросоюз и НАТО. В Великобритании special relationship[2] с США не подвергаются ни малейшему сомнению, но, как и прежде, стоят на первом месте в списке приоритетов Даунинг-стрит. Что же касается восточноевропейских стран, то они хотя и стремятся в Евросоюз, но все-таки не готовы вновь позволить ограничить свой только что обретенный суверенитет. Иракский кризис стал здесь лишь катализатором. В брюссельском конституционном Конвенте тоже наличествует противоречие между нациями, которые действительно хотят углубления Евросоюза, и теми, что имеют понятный интерес к тому, чтобы заморозить или в лучшем случае косметически изменить существующий модус межправительственного управления. Но очень долго сохраняться это противоречие не может.
Грядущая конституция подарит нам европейского министра иностранных дел. Но что проку в новой должности, если правительства не ведут согласованную политику? Ведь Фишер, хотя должность его будет называться иначе, останется столь же безвластным, как и Солана. Пока же наделить Евросоюз известными государственными свойствами готовы, пожалуй, только страны ядра Европы. Что делать, если по поводу определения «собственных интересов» могут объединиться лишь эти страны? Во избежание распада Европы на части эти страны теперь должны воспользоваться механизмом «усиленного сотрудничества», о котором было принято решение в Ницце, — чтобы положить начало общей внешней политике, политике безопасности и оборонительной политике в «Европе разных скоростей». Отсюда будет исходить всасывающее воздействие, от которого на длительный срок не смогут уклониться другие члены Евросоюза — в первую очередь, в зоне евро. В рамках будущей европейской конституции не должно и не может быть никакого сепаратизма. «Идти впереди» не означает «исключать». Находящееся в авангарде ядро Европы не вправе окапываться как некая малая Европа; оно обязано (как весьма часто было) быть локомотивом. Более тесно сотрудничающие страны — члены Евросоюза будут держать двери открытыми уже из собственных интересов. Через эти двери приглашенные войдут тем скорее, чем раньше ядро Европы будет дееспособным в том числе и во внешней политике и докажет, что в сложно устроенном мировом сообществе будут существовать не только разногласия, но и цивилизованная сила переговоров, отношений и экономических выгод.

В этом мире зацикленность политики на столь же глупой, сколь и дорогостоящей альтернативе войны и мира нерентабельна. Европа должна бросить весь свой вес на чашу весов международных отношений и в организациях ООН, чтобы сбалансировать стремящиеся к односторонней гегемонии США. На всемирных экономических форумах и в учреждениях Всемирной торговой организации, Всемирного банка и Международного валютного фонда Европа должна оказывать влияние на формирование контуров грядущей мировой внутренней политики.
Однако же политика дальнейшего расширения Евросоюза продвигается сегодня не дальше, чем позволяют ей средства административного управления. До сих пор функциональные императивы создания общего экономического и валютного пространства способствовали продвижению реформ вперед. Эти движущие силы исчерпаны. Формообразующая политика, которая требует от государств — членов Евросоюза не только устранения препятствий для конкуренции, но и общей воли, вынуждена опираться на мотивы и настроения самих граждан. Постановления большинства, касающиеся судьбоносных перемен во внешней политике, могут быть приняты лишь в случаях солидарности подчиняющихся большинству меньшинств. Но ведь это предполагает чувство политической взаимозависимости. Народы должны в известной степени «надстраивать» собственные национальные идентичности и расширять их до общеевропейского измерения. И по сей день весьма абстрактная гражданская солидарность, которая не ограничивается представителями собственной нации, в будущем должна простираться на граждан Европы, относящихся к другим нациям.
Это ставит вопрос о «европейской идентичности». Только осознание общей политической судьбы и убедительные перспективы общего будущего могут удержать побежденные большинством голосов меньши.нства от обструкции в отношении воли большинства. В принципе граждане одной нации должны рассматривать гражданку другой нации как «одну из нас». Это пожелание наталкивает на вопрос, муссируемый многочисленными скептиками: существуют ли исторический опыт, традиции и достижения, которые способствуют осознанию европейскими гражданами совместно выстраданной и требующей совместного формирования политической судьбы? Привлекательное и даже заразительное «видeние» будущего Европы не упадет с неба. Сегодня оно может появиться только из тревожного ощущения беспомощности. Но оно может возникнуть и из бедственного положения, когда мы, европейцы, оказались отброшенными назад к самим себе. И еще: будущее Европы должно слышаться в буйной какофонии многоголосой публичности. Если же эта тема до сих пор даже не стоит на повестке дня, то здесь виноваты мы, интеллектуалы.
Можно легко прийти к соглашению, если оно ни к чему не обязывает. Всем нам грезится образ Европы мирной, кооперативной, открытой другим культурам и способной к диалогу. Мы приветствуем такую Европу, которая во второй половине XX столетия нашла образцовые решения двух проблем. Евросоюз уже сегодня предлагает себя в качестве одной из форм «правительства за рамками национального государства», которое может послужить примером для постнациональной ситуации. Европейские режимы всеобщего благосостояния в течение долгого времени были образцовыми. Сегодня на уровне национальных государств они принуждены к оборонительным действиям. Но и будущая политика укрощения капитализма в мире, где не будет межгосударственных границ, не должна отставать от установленных в этих странах критериев социальной справедливости. Отчего же Европа, разделавшаяся с двумя столь колоссальными проблемами, борясь с конкурирующими проектами, не противопоставит и дальнейшим вызовам защиту и развитие космополитического порядка на основе международного права?
Бушевавшие по всей Европе дискуссии должны были, разумеется, совпасть с общеевропейскими надеждами на стимулирующий процесс самопонимания. Приведенному дерзкому допущению как будто бы противоречат два факта. Разве наиболее значительные исторические достижения Европы не утратили способность формировать идентичность как раз из-за их успеха во всем мире? И что сплотит такой регион, который как никакой другой отличается продолжающимся соперничеством между нациями, наделенными самосознанием?
Из-за того что христианство и капитализм, естественные науки и Кодекс Наполеона, гражданско-городская форма жизни, демократия и права человека, секуляризация государства и общества распространились на другие континенты, эти достижения больше не образуют европейских особенностей. Западному, коренящемуся в иудеохристианской традиции типу духа, разумеется, присущи характерные черты. Но и этот духовный габитус, отличающийся индивидуализмом, рационализмом и активизмом, европейские нации разделяют с нациями США, Канады и Австралии. «Запад» как духовный контур охватывает нечто большее, нежели просто Европу.
Кроме того, Европа состоит из национальных государств, по поводу границ которых продолжается полемика. Национальное сознание, отчетливо выраженное в национальных языках, национальных литературах и национальных историях, длительное время действовало подобно взрывчатому веществу. Однако как реакция на разрушительную силу этого национализма сформировался и образец духовной установки, которая, на взгляд неевропейцев, все-таки наделяет собственным лицом сегодняшнюю Европу в ее несравненном и широчайшем культурном многообразии. Такой культуре, которая на протяжении многих столетий больше, чем все остальные культуры, раздиралась конфликтами между городом и деревней, между церковными и светскими властями, конкуренцией между верой и знанием, борьбой между господствовавшими политическими силами и антагонистическими классами, пришлось в муках учиться коммуникации между различным, институционализации противоречий и напряжений. Даже признание разногласий — взаимное признание другого в его другости — может стать признаком общей идентичности.
Примирение классовых противоречий социальным государством и самоограничение государственного суверенитета в рамках Евросоюза — лишь последние тому примеры. В третьей четверти XX столетия Европа по эту сторону железного занавеса, по словам Эрика Хобсбаума, пережила свой золотой век. С тех пор стали различимыми черты общей политической ментальности, так что другие воспринимают нас в качестве скорее европейцев, нежели немцев или французов — и не только в Гонконге, но даже в Тель-Авиве.
Ведь справедливо, что в европейских обществах секуляризация шагнула сравнительно далеко. Здесь граждане рассматривают проникновение религии в сферу политики скорее с недоверием. Европейцам свойственна сравнительно твердая вера в организационные и управленческие способности государства, тогда как к эффективности рыночной экономики они относятся скептически. Они обладают ярко выраженным чувством «диалектики Просвещения», лелеют несломленные оптимистические ожидания в отношении технического прогресса. Среди их предпочтений — гарантии безопасности, предоставляемые государством благосостояния, а также урегулирование спорных вопросов на основе солидарности.
Порог терпимости в отношении насилия, применяемого против личности, располагается сравнительно низко. Стремление к многостороннему и юридически регулируемому международному порядку сочетается у них с упованием на эффективную мировую внутреннюю политику в рамках реформированной ООН.
Стечение обстоятельств, позволившее попавшим в выгодное положение западным европейцам развить описанную ментальность под сенью холодной войны, перестало существовать в 1989–90 годах. Однако же 15 февраля показывает, что эта ментальность пережила даже контекст собственного возникновения. Этим объясняется еще и то, почему «старая Европа» воспринимает молодцеватую, ориентированную на гегемонию политику сверхдержавы и ее союзников как брошенный ей вызов. И еще то, почему в Европе столь многие из тех, кто приветствует низложение Саддама как освобождение, отвергают противоречащий международному праву характер одностороннего, превентивного, столь же путано, сколь и односторонне обоснованного нашествия на Ирак. Но насколько стабильна эта ментальность? Есть ли у нее корни в глубоком историческом опыте и традициях?
Сегодня нам известно, что многие политические традиции, претендующие на авторитетность под предлогом своей естественности, на самом деле «изобретены». В противоположность им, та европейская идентичность, что смогла бы возникнуть при свете публичности, была бы сконструированной с самого начала. Но печатью произвола может быть отмечено лишь произвольно сконструированное. Политико-этическая воля, обозначившаяся в герменевтике процессов самопонимания, произволом не является. Различие между наследием, перенимаемым нами, и тем, которое мы хотим отвергнуть, требует столько же осторожности, сколько и решительности в интерпретации, с помощью коей мы его усваиваем. Исторический опыт предлагает себя лишь для осознанного усвоения, без которого он не сможет обрести силы, образующей идентичность.
В заключение несколько обобщающих слов по поводу тех «кандидатов», под влиянием которых профиль европейской послевоенной ментальности мог бы обрисоваться отчетливее. Отношения между государством и церковью в современной Европе по-разному складывались по эту и по ту сторону Пиренеев, к северу и к югу от Альп, к западу и к востоку от Рейна. Мировоззренческая нейтральность государственной власти наделена в разных европейских странах разным юридическим обликом. Но в рамках гражданского общества религия повсюду располагается вне политики. Даже если с других точек зрения об этой общественной приватизации веры и можно сожалеть, для политической культуры она привела к одному желательному результату. В наших краях трудно представить себе президента, начинающего свои ежедневные служебные дела с публичной молитвы и ставящего свои судьбоносные политические решения в связь с какой бы то ни было божественной миссией.
Освобождение гражданского общества из-под опеки абсолютистских режимов не повсюду в Европе было сопряжено с вступлением в силу и демократической перестройкой современного административного государства. Но излучение идей Французской революции по всей Европе, среди прочего, объясняет, отчего здесь политика в обоих ее обличьях — и как средство обеспечения безопасности, и как организующая сила — имеет позитивные коннотации. Зато становление капитализма сопровождалось здесь острыми классовыми противоречиями. Воспоминания об этом препятствуют и непредвзятой оценке рынка. Разная оценка политики и рынка может укрепить европейцев в их доверии к цивилизующей и формообразующей власти государства, от которого они ожидают еще и коррекции «рыночных сбоев».
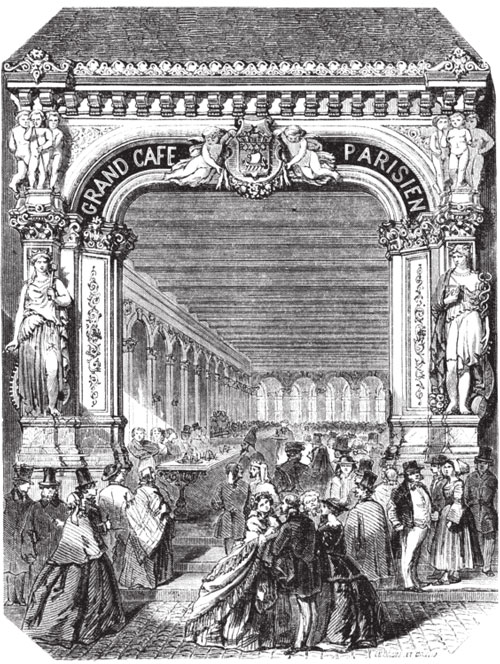
Возникшая в годы Французской революции партийная система часто копировалась. Но только в Европе эта система служит еще и той идеологической конкуренции, которая подвергает социально-патологические последствия капиталистической модернизации долговременной политической оценке. Это обостряет чувствительность граждан к парадоксам прогресса. В споре между консервативными, либеральными и социалистическими его толкованиями речь идет о взвешивании двух аспектов. Перевешивают ли утраты, приходящие вместе с дезинтеграцией традиционных «щадящих» жизненных форм, приобретения химерического прогресса? Или же приобретения, не сегодня-завтра ставящие на повестку дня процессы творческого разрушения, перевешивают болезненные ощущения проигравших в результате модернизации?
В Европе ощущавшиеся с давних времен классовые различия переживались теми, кого они затрагивают, как судьба, которую можно отвести лишь коллективными действиями. Поэтому в контексте рабочего движения и христианско-социальных традиций солидаристский этос, ставящий перед собой цель борьбы за «бoльшую социальную справедливость», взял верх над индивидуалистическим этосом «справедливости в соответствии с достижениями», который смиряется с вопиющим социальным неравенством.
Сегодняшняя Европа отмечена опытом тоталитарных режимов XX века и Холокоста — преследования и уничтожения европейских евреев, в которые национал-социалистский режим втянул и общества завоеванных стран. Самокритичные дискуссии, посвященные этому прошлому, напомнили о моральных основах политики. Повышенная чувствительность к оскорблениям личности и нарушениям физической неприкосновенности, среди прочего, отражается в том, что Совет Европы и Евросоюз выдвинули в качестве условия вступления отказ от смертной казни.
Воинственное прошлое в былые времена впутывало все европейские нации в кровавые столкновения. Из опыта военной и духовной мобилизации друг против друга эти нации после Второй мировой войны сделали вывод о необходимости развивать новые наднациональные формы сотрудничества. Успешная история Евросоюза укрепила европейцев в убеждении, что отказ от осуществления государственного насилия требует и на глобальном уровне взаимного сокращения пространства для суверенных действий.
Каждая из великих европейских наций в свое время пережила расцвет имперской мощи и — что в нашем контексте важнее — должна была осмысливать опыт утраты империи. Закат империи во многих случаях сочетается с утратой колониальных владений. С растущим отдалением от имперского прошлого и от колониальной истории европейские нации, кроме прочего, получили шанс занять рефлексивную дистанцию по отношению к самим себе. Поэтому они сумели научиться — с точки зрения побежденных — воспринимать самих себя в сомнительной роли победителей, которым приходится отвечать за насилие со стороны насильственно навязанной модернизации, которая лишает народы корней. Это могло бы способствовать отказу от европоцентризма и окрылить кантовскую надежду на мировую внутреннюю политику.
[*] Jacques Derrida, Jurgen Habermas, “Unsere Erneuerung,” Frankfurter Allgemeine Zeitung (May 31 2003). ї Copyright Frankfurter Allgemeine Zeitung 2003. Перевод с немецкого Бориса Скуратова.
[1] «Хулиган — два эссе о разуме» (франц.). — Примеч. перев.
[2] Особые отношения (англ.). — Примеч. перев.