Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2003
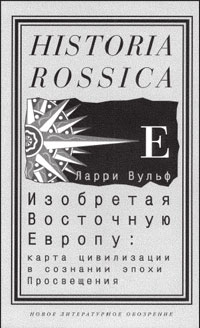 Ларри Вульф. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / Пер. с англ. И. Федюкина. М.: Новое литературное обозрение, 2003. 560 c., ил.
Ларри Вульф. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / Пер. с англ. И. Федюкина. М.: Новое литературное обозрение, 2003. 560 c., ил.
Слова, выбранные мною для заглавия, принадлежат австрийскому канцлеру Меттерниху. Ландштрассе — это центральная улица Вены, так что риторический прием канцлера сходен с нынешними речениями о России, «начинающейся за пределами Садового кольца» (т. е. за пределами центра столицы).
Итак, существует ли Восточная Европа, и если да, то где она расположена и всегда ли была именно там?
Книга Ларри Вульфа «Изобретая Восточную Европу» интересна, по меньшей мере, в трех разных аспектах.
Можно сосредоточиться на остроумном и проницательном рассказе о впечатлениях писателей, философов и путешественников, оставивших потомкам описания подлинных или воображаемых картин жизни дальних стран, расположенных восточнее Пруссии и Габсбургской империи. Этот аспект текста будет интересен многим читателям, даже тем, которые останутся равнодушными к идеологическому (в смысле К. Гирца) пафосу Вульфа.
Можно заинтересоваться этой книгой как рассказывающей об истории становления нескольких наук: географии, в том числе социальной географии и этнографии, отчасти — лингвистики, а также несколько размытой области знания, называемой «историей идей». В этом случае книга Л. Вульфа будет ценной преимущественно для историков науки и эпистемологов.
Вместе с тем «Изобретение Восточной Европы» — это актуальный труд по европейской истории и политологии, и, с этой точки зрения, самым существенным в содержании книги становится ее идеологический посыл. Именно этот третий способ прочтения книги и делает естественным ее публикацию издательством НЛО в серии «Historia Rossica».
В последние десятилетия появилось немало содержательных исследований, демонстрирующих активную роль ментальных установок человека в разметке окружающего мира. Притом сам предмет внимания не так уж важен: традиция изобретается, нации воображаются, пространство структурируется нашим взглядом (точнее говоря — мозгом), история конструируется, тексты деконструируются.
Поэтому неудивительно, что Азия начинается за Ландштрассе, что Прага с точки зрения Вены — «Восток», хотя географически расположена западнее. Дело вовсе не в географии, а в социально-географическом воображении, которое оказывается принципиально историчным.
«Восток» как средоточие «иного» был изобретен уже к тому времени, когда Монтескье писал свои «Персидские письма». Однако вплоть до эпохи Просвещения более актуальным было противопоставление благодатного Юга как области процветания наук и искусств суровому и аскетичному Северу.
При этом как границы между Югом и Севером, так впоследствии и границы между Западом и Востоком имели мало общего не только с географическими реалиями, но также и с политическими границами государств. Вульф, в частности, рассказывает, как всего через двенадцать лет после раздела Польши граф де Сегюр, посол Франции при дворе Екатерины II, именно в момент пересечения новой границы — хотя теперь это была Пруссия, а не Польша, — ощутил себя совершенно «покинувшим Европу». Впрочем, что, собственно, могло измениться на этих землях за тогдашние двенадцать лет?
Путешествия «к Востоку от Ландштрассе» в XVIII веке, как правило, требовали немалых усилий и были сопряжены с риском. Поэтому путешествовали либо дипломаты, либо лица, уполномоченные на то богатыми и властительными особами, — например, философы и писатели, приглашенные ко двору, либо просто искатели приключений. Основные источники Вульфа — это разнообразные мемуарные свидетельства и частная переписка известных исторических лиц. Именно их высказывания, зарисовки и умозаключения позволяют реконструировать процесс «изобретения» Восточной Европы как культурного, а не «натурального» объекта. Привлечение огромного объема авторитетных текстов, сопоставление целей и обстоятельств их сочинения, интепретация оценок в широком социальном, политическом и философском контексте XVIII — начала XIX века — безусловная заслуга Вульфа.
Нередко неожиданность персонажа, неосознанно участвовавшего в «изобретении» иной, странной, незнакомой Европы, заставляет задуматься об ограниченности нашего кругозора. Многие вспомнят Вольтера и Дидро, переписывавшихся с Екатериной II; профессиональные историки наверняка читали тексты, созданные пером графа де Сегюра и принца де Линя, сопровождавших императрицу в поездке в Крым. Но, смею думать, совсем немногие знают, что Моцарт, которого так любили и понимали в Праге, ощущал Богемию настолько чужой и экзотической местностью, что по дороге туда наделил себя и своих спутников не менее экзотическими воображаемыми именами.
Неравенство между Западной и Восточной Европами предстает как культурно сконструированное и потому воспринимаемое как очевидность.
В книге Вульфа, кроме того, собраны свидетельства известных политиков, военных и картографов, задачей которых было превращение мыслительных представлений эпохи в практические инструменты дипломатии и политики, каковыми всегда были (и остались) географические карты. Пространственные представления философов и литераторов, соответственно которым в не ясно где кончающихся чужих землях жили непонятные, полудикие, хоть и живописно выглядящие народы, включали несомненный элемент безответственности, недопустимый для военных и властителей.
Географическая карта — необходимый и весьма мощный элемент политики. Старшее поколение читателей, быть может, помнит ужас, с которым в 1938 году, т. е. после Мюнхена, мы впервые взглянули на карту Европы, где на месте Чехословакии появилась область, названная «Протекторат Чехия и Моравия» (если мне не изменяет память, это сопровождалось закраской соответствующей территории косыми черными полосками).
Так что вполне логично, что Вульф немало внимания уделил картографии Европы XVIII века. Завораживающая наглядность карты нередко перевешивает прагматические соображения: об этом еще Вольтер писал в «Истории Карла XII».
В начале XVIII века Петр I организовывал многочисленные картографические экспедиции, чтобы создать более точные карты России, а в царствование Екатерины сопровождавшие ее в Крым де Сегюр и другие послы получили в подарок медальоны с профилем императрицы на одной стороне и картой их путешествия — на другой.
Глава книги, посвященная картографии, подтверждает, что, рассказывая об «изобретении Восточной Европы», Вульф повествует прежде всего о Европе Западной. Разве не характерно, что знаменитый «Atlas Universel» Робера, изданный в Париже в 1757 году, претендовал на то, что в нем территории Европейской России были представлены точнее, чем в русском атласе, вышедшем незадолго до того. «Картографии культуры» (выражение Вульфа) в книге уделено почти 70 страниц, и это в высшей степени поучительное чтение. Жаль, что старинные карты на иллюстрациях даны в столь мелком масштабе, что их нельзя разглядывать.
Отдельные главы автор посвятил России в сочинениях Вольтера и Польше в сочинениях Руссо. Поскольку у Вульфа все тщательно документировано, то даже относительно известные обстоятельства оживают и прошлое являет нам себя в более объемном виде.
Вот негодующая Екатерина порывает с прежними симпатиями к французам, совершившим революцию, а ее портрет начинает писать знаменитая портретистка Элизабет Виже-Лебрен, эмигрировавшая в Санкт-Петербург в 1795 году. Императрица скончалась годом позже, портрет остался незаконченным, зато Виже-Лебрен повезло с другой моделью: она рисовала лишившегося своего царства прежнего короля Польши Станислава Августа, также прибывшего в Петербург. Можно ли было предвидеть, что свидетельством прежних привязанностей Екатерины останется библиотека Вольтера, приобретенная ею еще в 1778 году и затем размещенная в Эрмитаже, т. е. в известном смысле на «Востоке», который во времена дружбы императрицы и философа так настойчиво стремился быть или хотя бы казаться Западом?
Как известно, историков и путешественников XVIII века весьма занимали проблемы языка и фольклора: в них усматривали глубинные проявления народного духа. Мир продолжал расширяться, попытки наведения порядка в накапливавшихся сведениях об этом мире переживались как насущные. Поскольку история понималась как непрерывность, то генезис явлений, как он был описан еще классическими источниками, оказывался той линзой, через которую неизбежно рассматривались факты, доступные непосредственному наблюдению.
Для Шарля де Пейсоннеля, французского консула в Крыму, увлекавшегося археологией и изучением славянских языков, античная история непосредственно питала формировавшуюся тогда новую науку — этнографию. По мнению Вульфа, именно «Пейсоннель понял, что “славянский” язык может стать структурообразующей особенностью Восточной Европы» (с. 428). ПьерШарль Левек был первым французом, который осознал, что свободное владение славянскими языками Восточной Европы — это условие изучения и древней, и новой истории этого региона. Левек приехал в Россию в 1773 году (одновременно с Дидро) и провел там семь лет, преподавая литературу в СанктПетербурге и занимаясь изысканиями в библиотеках, где он, среди прочего, читал русские летописи. В 1782 году в Париже вышла его «История России», позже дважды переиздававшаяся — второй раз в роковом и для России, и для Франции 1812 году.
Великие историки — Гиббон и Гердер — также не обошли вниманием Восточную Европу. Проживший пять лет в Риге Гердер (тем самым являвшийся в течение этого времени подданным Российской империи) полагал, что для России как Востока подойдут особые законы, поскольку ее населяют «дикие народы на границах империи; полуцивилизованные внутри самой страны и цивилизованные на морском побережье» (с. 451).
В целом же Восточная Европа воспринималась сквозь призму противопоставления цивилизации и варварства даже теми учеными века Просвещения, кто был очарован живописностью костюмов, экзотичностью танцев и гостеприимством незнакомцев. В этом ключе написано «Путешествие в Далмацию» аббата Альберто Фортиса, просвещенного итальянского священника, изучавшего нравы морлахов — так называли в XVIII веке народы, жившие совсем близко от Италии, по ту сторону Адриатики. Труд Фортиса был переведен с итальянского на остальные западноевропейские языки, но большое влияние оказал немецкий перевод, позволивший западноевропейцам — в том числе Гете и Гердеру — открыть поэзию южных славян.
Итак, Восточная Европа описывалась в исторических трудах и записках путешественников, воображалась в частной переписке, изображалась на картах. Об этом Ларри Вульф увлекательно рассказывает нам на пятистах страницах своей книги. Заключение же к рассказу об «изобретении» Восточной Европы возвращает нас к современности, в том числе — к ее драматическим страницам.
Случайно ли «железный занавес» опустился именно там, где проходила традиционная со времен Просвещения граница между Европой Восточной и Западной? Похоронен ли навсегда тот миф о непреодолимых цивилизационных различиях между Россией и остальной Европой, который был сформирован холодной войной? Что реально означают слова Михаила Горбачева, написавшего в 1987 году «Мы — европейцы»?
Вульф заканчивает книгу отсылкой к «Войне и миру» Толстого, формулируя тему романа как «самонадеянность западноевропейского вторжения в Восточную Европу». Автор тем самым призывает своих читателей к осознанию необходимости пересмотра привычного деления и к пониманию неизбежности перспективы культурного и цивилизационного единства — к единой Европе.
Книга Л. Вульфа вышла почти десять лет назад. Впереди была трагедия Югославии и создание Объединенной Европы. О сдвигах в сознании европейских интеллектуалов, произошедших за этот период, можно было бы написать другую книгу. Пока такой труд не создан, читатель может обратиться к содержательному разделу «Ментальные карты: Европа» в «Новом литературном обозрении» № 52 за 2001 год, и в особенности — к обстоятельной статье А. И. Миллера, предварившего книгу Вульфа кратким, но содержательным предисловием.
Любознательный читатель может обратиться также к специальному выпуску журнала «Неприкосновенный запас» №4 за 2003 год, созданному совместно с немецким журналом «Osteuropa».
Восточная Европа, будучи некогда изобретена, продолжает жить по своим законам — как всякий культурный конструкт.