Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2003
[*]
Программа, с которой Романо Проди занял должность президента Европейской исполнительной комиссии, выполнена. Европейский союз расширился за счет десяти новых стран. Ныне следует безотлагательно решить вопрос о конституции и структуре Европейского союза.
До сих пор функцию конституции и структуры выполняли в Союзе многосторонние соглашения. Ими определялось все развитие Союза в течение прошлых десятилетий. Возможности такого развития исчерпаны. Теперь должны пройти, как предусмотрено, парламентские ратификации, а в некоторых странах — народные референдумы.
Однако именно сейчас тот риск, который намечался и прежде, выходит на первый план. Риск в том, что европейское единство из-за расширения как будто «разжижается». Чтобы столь многие государства, по многим параметрам столь несхожие, могли сосуществовать без трений и противоречий, требуется структура, предусматривающая возможность широчайшей автономии. А широчайшая автономия грозит свести на нет те мягкие федеративные связи, которые как раз и должны обслуживаться новой европейской конституцией.
Из-за этого налицо явная двойственность позиций энтузиастов Союза вне зависимости от политического лагеря. Одни в соответствии с программой Проди видят в расширении решающий импульс в пользу крепкого европейского единства. Они считают, что, расширившись, Европа превратится в признанное, авторитетное, главное действующее лицо мировой политики.
Другие надеются, что именно возрастание числа стран-членов от пятнадцати до двадцати пяти вынудит Союз существенно ограничить свои «федеральные» амбиции. Согласно этой позиции, на некоторый срок возобладает так называемый «межправительственный» принцип, тот самый, что был в силе в последнее время в применении к большей части важных политических тем. Это принцип необходимого единогласия в отношении любых значительных решений (оборона, налогообложение, внешняя политика, юстиция и т. д.). При подобном подходе Европа будет еще очень далека от федеральной формулы; а ведь именно федерализация, как всеми признается, необходима для будущего авторитетного присутствия Европы на мировой сцене.
Однако можно рассмотреть и еще один принцип организации Союза, тот самый, который принято обозначать фразой «двойной счет для Европы». Этот принцип присутствует в тех самых соглашениях, которыми до сих пор поддерживались основы европейского объединения. При надлежащей политической мотивированности этот принцип можно активизировать, невзирая на то что у некоторых подобная формула вызывает возмущение.
Она вызывает возмущение, ибо кажется, что европейские страны разделяются этой формулой на первый и второй класс. Но объективный ход вещей доказывает, что эта формула дала немало хороших результатов, прежде всего при переходе на единую валюту. Ведь не все государства Европейского союза вступили в зону евро. Вне ее пределов остались такие гиганты, как Великобритания. Тем не менее евро существует вполне успешно, и ясно, что если эта валюта еще не на такой высоте, как нам бы мечталось, в том неповинно отсутствие Британии. Дело скорее в том, что евро пока не опирается на настоящую федеральную экономическую политику.
Система «двойного счета для Европы» может — и по нашему разумению, должна — быть использована в частности и в первую очередь для налаживания строго федеральных структур в самом узком смысле: прежде всего в сфере внешней политики, обороны, экономики. Безусловно, это предвосхищение тех связей, которым суждено в будущем установиться между всеми членами сообщества. Именно в опыте этой передовой группы остальные члены сообщества найдут для себя основания, чтобы примкнуть к ней.
Однако существует ли европейская общность? Сам исторический опыт Европы накладывает на нас определенные ограничения. Мы — детища истории национальных государств. Эти государства основаны на идее «родины единой оружьем, языком и алтарем». То есть европейские государства самоопределялись в своей тяге к объединению и независимости по «природным» признакам. Не всегда реальность соответствовала «природной» идее, но почти всегда «природная» идея лежала в основе традиционной социальной риторики.
Для объединенной Европы «природное» самосознание непредставимо. Более того, самое привлекательное в идее Европы как единого политического субъекта — это именно почти полное отсутствие «природных» оснований для единого самосознания. Европа может быть только объединением «культурным». В частности и в первую очередь «культурность» в ней должна быть выгодно противопоставлена «природности».
Пытаться построить единство на «природных» основаниях было бы ошибкой, чем-то вроде отката в XIX век с его национальными идеями. Так что, не найдя никаких природных оснований и никаких «органичных» культурных сходств — ни языка, ни расы, ни почвы, ни даже религии, — которые бы делали нас всех вместе европейцами, признаем же это. Признаем и постараемся четко сформулировать причины, по которым, в частности, теперь и даже именно теперь, мы понимаем, что «быть европейцами» — это именно то самое, что отличает нас от других. «Быть европейцами» — это в нас первичнее и фундаментальнее, нежели общая принадлежность к определенной строящейся конструкции — Союзу.
Формулируя это отличие, мы, думаю, вычленяем тот момент — общее европейское самосознание, — без которого самые сильные прагматические причины, побуждающие нас к строительству федеративной Европы, совсем не кажутся такими уж сильными. Они не кажутся ни настолько сильными, ни настолько убедительными, чтобы вызвать тягу к совокупному политическому усилию в ком бы то ни было (кроме людей, кто этим занимается по профессии). Разумеется, эти прагматические причины есть, их никто не оспаривает. Например, есть причина, руководившая отцами-основателями первого европейского сообщества, которое называлось Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). Идея общей Европы началась с ЕОУС, потом был создан Общий рынок, затем был переход на единую валюту. А причина была в основном — сделать невозможными войны между странами континента. Еще одной мощной причиной было желание сделать Европу более конкурентоспособной и более богатой.
Но повторю, что прагматических соображений, соображений чистой выгоды недостаточно. Политике часто приходится примирять очень противоречивые интересы. До такой степени противоречивые, что политика достигает согласия, только если умеет добавить к прагматическим доводам «довесок души», т. е. этические соображения, которые шире подсчетов «то-то выгодно для отдельных лиц, в категориях экономического ли выигрыша или общего выживания».
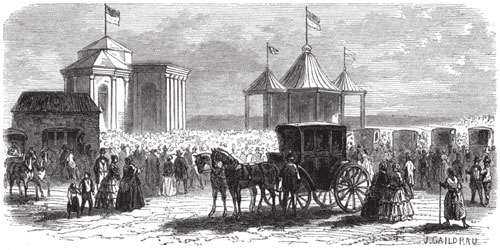
Следовательно, мы ищем нечто сходное с патриотическими ценностями XIX века, ценностями, на которых создавались национальные государства и которыми укреплялась их независимость? И да и нет. Мы не ищем ни природные, ни органические ценности, не ищем знаки первородства. И все же мы ищем что-то, что было бы суперавторитетно не только с точки зрения функциональной рациональности, но для мотивировки этически-политического выбора — за пределами очевидной целесообразности. Эти суперавторитетные ценности для опоры мы можем найти, многообразно продумывая основы нашего самоощущения «европейцами» вопреки всем тем природным несходствам, которые нас разделяют.
Европа vs США
В этом случае невозможно абстрагироваться от недавнего опыта, когда англоамериканские войска вторглись в Ирак. Слышать, как министр обороны США Дональд Рамсфельд говорит, будто есть старая Европа, неспособная идти в ногу со временем, и она должна быть «вне игры», а есть новая Европа, т. е. именно те страны, которые готовы участвовать в коалиции усердных приспешников США… Это взбесило нас как носителей первородства — как представителей тех государств (ныне причисленных, по этой логике, именно к «старой» Европе), которые стояли у самых истоков объединенной Европы. Ее создателями не были ни британцы, ни испанцы, ни поляки. Честно говоря, больше всего нас разозлило именно то, что Европу поделили на «чистых» и «нечистых» именно представители бушевской администрации. Эти бушевские представители исключили из Европы Францию, Германию и даже Италию, страну великих политиков-федералистов Альчиде де Гаспери и Альтьеро Спинелли. То есть они извратили самую суть европейского духа, как мы привыкли представлять его себе. То, что Рамсфельд и Буш называют «Европой», ассоциируется с ценностями, которые мы своими не считаем. Следовательно, в нас формируется «от противного» ощущение того, чем Европа является «на самом деле».
Прежде всего («прежде всего» для меня; другие могут выделять иные приоритеты в зависимости от личных вкусов и даже национальных предпочтений) существуют глубинные различия в том, что касается религиозности.
Современное североамериканское общество имеет религиозные корни. Всем нам известно, сколь значительным элементом формирования американского менталитета было влияние отцов-пилигримов, авторов «Соглашения на Мэйфлауэре», с их поиском абсолютной свободы религиозно вдохновляемой совести. Однако в версии Буша и его друзей это глубинное и свободолюбивое религиозное измерение американского духа вырождается в то, чем оно, страшно подумать, уже стало: вырождается в прочное убеждение, что-де «С нами Бог», и это-де «доказывается нашим экономическим и военным превосходством».
В то же время частью фундамента общей Европы является глубоко выстраданная нерелигиозность. Под ее влиянием формируется совершенно иное чувство государства и иное представление о его задачах. Упрощая, можно это выразить так: в генотипе Европы заложен ген социализма, который США абсолютно чужд.
Существуют серьезные исторические причины этой разности менталитетов. В Соединенных Штатах централизация местных, региональных (на уровне штата) и федеральных властей завершилась относительно поздно, центральное управление надстраивалось над первобытными формами самоорганизации первых поселенцев. Поэтому Америка скорее «терпит» государственные институты, контролирующие и управляющие жизнью на различных уровнях, нежели считает их активным фактором общественной жизни. От школы до здравоохранения и до мира бизнеса — всюду преобладает известная ориентация американского общества: поощрять частную инициативу и самоорганизацию частных лиц. Думаю даже, что подобная крайне либеристская (т. е. основанная на экономическом либерализме) модель общественного устройства — это ответ на вызов огромного пространства, в том числе реального, физического пространства, которым располагают американцы.
Европа, перегруженная историческими прецедентами и скудная жизненным пространством, не может мыслить государство только в этой вспомогательной функции. У нас даже самые крайние сторонники либеризма понимают, что пространство свободной конкуренции в Европе не может быть сохранено без сильного регулирующего присутствия государственных институтов. Тут и проявляется тот ген «социализма», который, невзирая на всевозможные злоключения «социализма» реального, Европа хранит в своей культурной основе. Одно из логических последствий работы этого гена заключается в том, что в европейских обществах (а эти общества большей частью — республики, возникшие в результате свержения монархий) социальное соперничество с самого начала и по существу, не только вспомогательно, не только дополнительно, регулировалось государственными институтами. Согласен, обратной стороной медали стал известный дефект европейцев: всегда ждать себе всего, или хотя бы многого, от правительства. Но благодаря этому чувству государства мы все-таки обладаем и не столь жестко дарвинистским пониманием общественной жизни.
Готов признать, что при подобном подходе «развитие» становится более «вялым». Но думаю, уже и в США сознают, что «развитие» у них сделалось каким-то чересчур уж количественным критерием. Настолько количественным, что приходится делать невеселые выводы относительно достижимости индивидуального счастья, хотя она даже записана в американской конституции. Продолжая и углубляя размышление о том, почему мы считаем себя европейцами, а не американцами, мы фатально выявляем в конце концов, насколько расходятся наши экзистенциальные взгляды, как различаются представления о том, что представляет собою «хорошая жизнь». Насколько отличается наша программа гражданской демократии, исключающая жесткость, от тех иерархий, которые устанавливаются (почти) обязательно в обществах, в которых естественные различия не корректируются влиянием государства, а культивируются и эксплуатируются во имя «развития» системы. И по причинам, логически связанным с теми, которые я тут перечислил, пусть точечно, но широко присутствующим в сознании европейцев, мы, как сказал бы наш философ Бенедетто Кроче, «не вправе не признавать» себя европейцами, в частности и прежде всего поскольку в нас есть чуждость духу, который преобладает сегодня в американском обществе. И мы себе желаем, чтоб эта чуждость сделалась вдохновляющим принципом политики, способной придать Европе достоинство и вес, на который она заслуживает право в мировом масштабе.
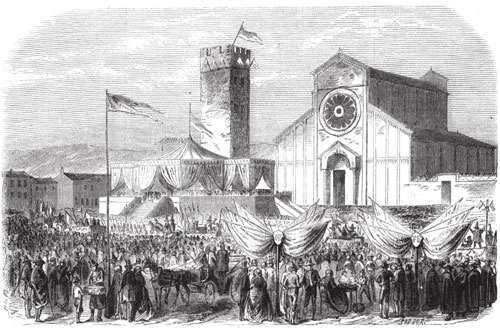
[*] Gianni Vattimo, “Casa Europa,” La Stampa (May 31, 2003). ї Copyright La Stampa 2003.
Перевод с итальянского Елены Костюкович.