Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2003
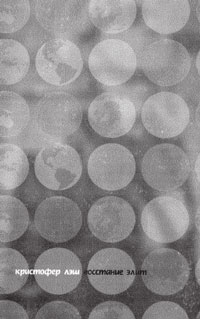 Кристофер Лэш. Восстание элит и предательство демократии / Пер. с англ. Дж. Смити, К. Голубович, О. Никифорова. М.: Логос; Прогресс, 2002. 220 с. (Серия «VS.»)
Кристофер Лэш. Восстание элит и предательство демократии / Пер. с англ. Дж. Смити, К. Голубович, О. Никифорова. М.: Логос; Прогресс, 2002. 220 с. (Серия «VS.»)
Книга Кристофера Лэша (Christopher Lasch, 1932–1994) “The Revolt of the Elites” (New York; London: W. W. Norton & Company, 1995) составлена из эссе, большая часть которых ранее публиковалась в различных периодических изданиях. Во «Введении» подчеркивается, что все эти тексты так или иначе касаются темы «будущее американской демократии». Это будущее видится автору довольно плачевным: демократия предстает в книге как незавершенный проект, у которого остается все меньше и меньше шансов осуществиться. Лэш определяет демократию как такое устройство общества, при котором «мужчины и женщины сами занимаются своими собственными делами, с помощью своих друзей и соседей, вместо того чтобы зависеть от государства» (с. 10–11). Основу такого общества составляют не индивиды, а самоуправляемые общины. Для существования общины необходимо публичное пространство, потому что люди должны иметь возможность живого обмена идеями и мнениями. Лэш утверждает, что ближе всего к демократии была Америка маленьких городков первой половины XIX века. Сегодняшней Америке чужд дух демократического эксперимента. Современный мегаполис лишен публичного пространства. Современный журнализм исходит из того, что рядовой гражданин не способен к рассуждению на общественно значимые темы. Политика СМИ состоит в придании высокого статуса экспертному знанию и небрежении общественным мнением. Это приводит к тому, что «в отсутствие демократического обмена большинство людей не имеет побудительного мотива к овладению знанием, которое бы сделало их полномочными гражданами» (с. 14). Да и само знание, производимое университетом, запуталось в картезианских силках самообоснования и утратило все связи с практикой. И сторонники традиционной академической системы образования, и их противники исходят из следующего тезиса: если нет надежных оснований (а их, вероятно, нет), то все позволено. Для первых это плохо, а для вторых — хорошо: отсутствие единой системы убеждений дает дорогу бесчисленным догматизмам «меньшинств». Мнение, вместо того чтобы обсуждаться в рамках свободной демократической дискуссии, «оказывается функцией расовой или этнической идентичности, гендерного или полового предпочтения» (с. 19). Обособляются, однако, не только некогда подавлявшиеся группы. Обособляется и элита, и это выражается в том, что политика принимает все более искусственный характер, управленцы одержимы идеями эффективного контроля и «социального конструирования реальности», экономическое неравенство растет, а общественное мнение склонно во всем оправдывать тех, за кем стоят большие деньги. Если в XIX веке богатые семьи, из поколения в поколение жившие в старых городах на побережье, добровольно принимали бремя гражданских обязанностей (финансирование библиотек, музеев, парков, оркестров, университетов, больниц etc) и в результате оказывались вовлеченными в жизнь местного сообщества, то сегодняшние элиты чрезмерно подвижны. Они скапливаются в новых мегаполисах, где их ничто не связывает с окружением, и вливаются в глобальный рынок скорого оборота, роскоши, моды и поп-культуры. Они исповедуют мультикультурализм и смотрят на мир глазами туриста. Именно они, новые элиты, представляют собой самую большую угрозу демократии.
Эти общие положения раскрываются в отдельных главах-эссе. В главе «Восстание элит» пересматривается формула Ортеги «восстание масс», описывающая выход «масс» на широкий исторический простор в первой трети ХХ века и уничтожение границ, установленных для них элитами. Лэш указывает на тот факт, что «массы» (т. е. рабочий класс и умеренно-средний класс) «обладают более высокоразвитым чувством границ, чем стоящие над ними. Они понимают, как этого не понимают стоящие над ними, что бывают естественные границы человеческому контролю над ходом социального развития, над природой и телом, над трагическими началами в человеческой жизни и истории» (с. 25). В то время как «молодые специалисты» уповают на занятия спортом, отфильтрованную воду и антитабачные запреты, обыкновенные люди «принимают телесное разрушение как нечто, бороться с чем более или менее бесполезно» (там же). Неслыханная демократизация комфорта, имевшая место во времена Ортеги, вновь отступает перед имущественным расслоением. Это сочетается с высокой социальной мобильностью, которая ошибочно считается симптомом демократии, а на деле упрочивает влияние меритократических элит, стремящихся не столько к власти, сколько к «ускользанию от общей судьбы» (с. 36). Ускользая в виртуальное пространство сверхбыстрых коммуникаций и сверхприбылей, элиты подтачивают фундамент национального государства — средний класс. «Основатели современных наций… обращались к этому классу за поддержкой в борьбе против феодальной знати. <…> Понятно, что средний класс оказывается наиболее патриотичным… и милитаристским элементом в обществе. Но непривлекательные черты национализма, присущего среднему классу, не должны заслонять того положительного, что он привносит в виде высокоразвитого чувства места и чувства уважения к истории как непрерывности времени — печать чутья и вкуса… <…> …национализмом среднего класса обеспечивалась общая почва, общие мерки, некая общая система отсчета, по утрате которой общество попросту распадается на соперничающие группировки…» (с. 42).
В главе «Открытые возможности в стране обетованной: социальная подвижность или демократизация компетентности?» исследуется генезис идеи социальной мобильности, которую новые элиты приравнивают к демократии. Лэш сообщает, что в Америке XIX века термины «труд» и «капитал» означали не то, что в наши дни. «Капиталистом» считался тот, кто ничего не производил и жил доходами от спекуляций, в отличие от «трудящихся» — фермеров, ремесленников, предпринимателей, рабочих и торговцев. В этом контексте «выйти за пределы своего круга» означало не «подняться по лестнице доходов», как это понимается сегодня, но «стать вровень со всеми», «приобщиться к более широким взглядам», «отправлять права и обязанности гражданина». Это и определяет американское демократическое общество — «не столько наличие шанса подняться по социальной шкале, сколько полное отсутствие какойлибо шкалы, четко отличающей простолюдинов от благородных. <…> Открытость возможностей… была скорее делом интеллектуального, нежели материального обогащения» (с. 49). Новое понимание мобильности возникает вместе с отменой «фронтира заселения» в 1890 году. Примерно в это время устанавливается четкая иерархическая структура американского общества, а классовые различия становятся объектом рефлексии. Термином «трудящиеся» отныне обозначается «устойчивый класс наймитов, удавшееся бегство из числа которых теперь представляется единственным безусловным определением открытости возможностей» (с. 59). Демократия из способа повышения общего уровня добродетели и грамотности превращается в технологию обеспечения кругооборота элит.
Эта новая демократия основана на централизации и тотальной взаимозависимости. Человеческое участие, гражданская доблесть, высокие нравственные идеалы — все это только мешает гладкому функционированию демократической машины, приводимой в движение либеральными установлениями. Механизм всеобщей релятивизации требует воздержания от этического суждения. Пониманию демократии с позиций этики противостоит традиция популизма (глава «Заслуживает ли демократия того, чтобы выжить?»). «Независимость, а не взаимозависимость — вот популистский пароль. Популисты считали полагание на собственные силы… самой сущностью демократии. <…> Сила движения за гражданские права, которое может пониматься как часть популистской традиции, в том и заключалась, что оно принципиально отказывало жертвам угнетения в притязании на привилегированное моральное положение» (с. 67). Для популиста демократия не является самоцелью; смысл демократии в том, чтобы произвести, по словам Уолта Уитмена, «целокупность героев, нравов, подвигов, страданий, удачи или несчастья, славы или позора, общих всем, для всех типичных» (с. 70). То, что производит демократия, — это образцы достойной жизни, единые для всех граждан. «Для демократического общества абсолютно необходимы общие нормы. Общества, построенные на иерархии привилегий, могут себе позволить множественность норм, но демократия — нет. Двойственность норм предполагает наличие гражданства второго сорта» (с. 71). В главе «Коммунитаризм или популизм? Этика сострадательности и этика уважения» подчеркивается антидемократический характер призывов к «социальной ответственности» и «сочувствию» со стороны противников свободного рынка: «Идеология сочувствия, как бы она ни ласкала наш слух, сама по себе оказывается одним из главных факторов подрыва гражданской жизни, которая не столько зависит от сострадательности, сколько от взаимного уважения» (с. 85–86). Принцип уважения — это стержень популизма. Популизм отвергает сочувствие к бедным и терпимость, замешанную на двойном стандарте. Популист не принимает аргумента «каждый имеет право на свое мнение». Демократия строится на том, что никакое мнение не является легитимным до тех пор, пока оно не прошло проверку на соответствие всеобщим гражданским нормам, осуществляемую в порядке свободной публичной дискуссии.
Вторая часть книги, «Упадок демократического дискурса», объединяет пять глав. Глава «Беседа и искусство жить в городах» рассказывает об исчезновении разнообразных местечек (кафе, бары, пивные, мелкие лавки etc), в которых была возможна «общая беседа поверх классовых границ», и о распространении идеологии privacy. Странно, что Лэш не упоминает книгу Ричарда Сеннета «Падение публичного человека», которая посвящена именно этим темам и при этом выпущена тем же издательством, что и книга Лэша, причем ее переиздание пришлось на 1992 год, когда Лэш, вероятно, уже начинал работать над «Восстанием элит».
Главы «Расовая политика в Нью-Йорке» и «Начальные школы: Хорас Манн и преступление против воображения» несколько отклоняются от основной сюжетной линии, и мы не будем на них останавливаться. Глава «Утраченное искусство спора» посвящена СМИ. Лэш выступает против обожествления информации: «Что нужно демократии, так это энергичные общественные дебаты, а не информация» (с. 130). Лэш сообщает, что в XIX веке журналистика была продолжением городского собрания, а печатная культура основывалась, прежде всего, на остатках устной традиции и живого спора. Современная «беспристрастная» журналистика возникла вместе с современной индустрией рекламы: рекламодатели сотрудничали в первую очередь с теми изданиями, тон которых был более «ответственный» и «объективный», рассчитанный на обеспеченного читателя. В главе «Университетский псевдорадикализм» повествуется о ситуации в американской высшей школе, которая de facto отказалась от своей исторической миссии — «демократизации либеральной культуры» (с. 142). Университетские «левые радикалы» ратуют за «культурный плюрализм», на деле означающий полный хаос в учебных планах и господство эзотерического жаргона на лекциях. В итоге выпускники «не могут распознать аллюзии на Шекспира, античность, Библию или историю их собственной страны» (с. 144). Дело еще в том, что если белых студентов вынуждают познавать «цветную инаковость», то цветных старательно ограждают от встречи с «белой инаковостью» (т. е. со всей западной культурой), изолируя их в искусственно созданных когнитивных гетто. «Сегодня беда с гуманитарными науками не в том, что люди хотят пересмотреть канон, а в том, что слишком многие из них не хотят утруждаться спором о включении или исключении конкретных произведений» (с. 153). Отсутствие публичной дискуссии по поводу университетских программ и методов преподавания тесно связано с усилением корпоративного контроля над вузами, который тем более не обсуждается.
Ключевые слова третьей части книги: стыд, душа, религия. Лэш рассматривает влиятельное ревизионистское течение в психоанализе и доктрину «социального евангелизма», для которых общество предстает как пациент и которые заложили основы современной «терапевтической политики» американского государства. Суть ее в том, чтобы повысить самооценку представителей различных «меньшинств» и подавить стыд, связанный с сознанием собственной неполноценности. Лэш утверждает, что такая политика «создала нацию иждивенцев» (с. 166) и узаконила неравенство, а лежащая в ее основе психотерапия изрядно преуспела в медикаментозном лечении симптомов — в ущерб самоанализу и внутреннему прозрению. Забвение гражданского долга и трудовой этики, одержимость «самореализацией», «самооценкой» и «самооправданием», крах механизмов внутреннего самопринуждения, массовая культура бесстыдства — все это связано с упадком религии в атмосфере попустительства и снисходительности, царящей в кабинете психотерапевта. Религия самоотречения и самодисциплины уступила место культу самости и свободы от условностей. Теоретики «духовного состояния эпохи», как правило, полагают, что опыт сомнения, разочарования и морального релятивизма является однозначно современным, ибо человечество еще недавно пребывало в младенческом состоянии, а потом вдруг резко повзрослело и столкнулось с трудностями пубертатного периода. В младенчестве мы были невинны и чисты, а защитой от грозного мира нам была религия. Лэш выступает против подобного отношения к религии. Он утверждает, что религия во все времена бросала вызов самодовольству и гордыне, что никогда она не снабжала человека простыми и однозначными ответами на этические вопросы, а, напротив, была неиссякаемым источником экзистенциального отчаяния. На этой высокой ноте книга обрывается, так что финальный аккорд придется озвучить нам самим: если у демократического проекта вообще и у американской демократии в частности есть хоть какое-то будущее, то это будущее намертво спаяно с религией.