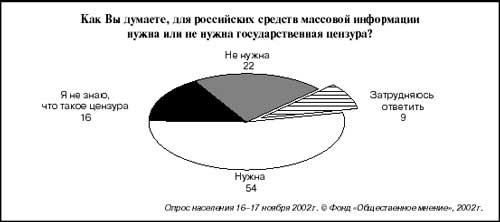Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 4, 2003
Глеб Павловский. Я не знал о существовании средств массовой информации до эпохи гласности и перестройки. То, что существовало, я не считал средствами массовой информации, хотя это была вполне законченная коммуникативная схема со всем набором соответствующих атрибутов, включая тождество сообщающего с сообщением. Но это не были средства массовой информации. И только в конце 80-х я обратил внимание на существование этого явления, когда начали происходить политические флуктуации, вызывавшие иррациональные массовые реакции. Иррациональность эта каким-то образом находилась в странной связи с той чушью, которую, с моей точки зрения, тогда несли по радио и печатали в прессе. Здесь была своего рода конгениальность, и мне казалось очевидным, что умные люди не могут так во все это верить. А в особенности если они причисляют себя к оппозиции, потому что в наше время это предполагало повышенную недоверчивость к интерпретациям. Здесь же, наоборот, была готовность заимствовать любые интерпретации. Эти СМИ вызывали у меня отвращение. К примеру, «Огонек». Телевидение я практически не смотрел. Таков был обычай самиздатской среды — в принципе не смотреть телевизор. Мы даже не знали, что там показывают. Поначалу СМИ существовали как пресса, потом на глазах начало возникать телевидение. Поначалу до Первого съезда народных депутатов оно не было сильным инструментом.
Еще один элемент этой же реальности, который обращал на себя внимание, — устойчивость группы персонажей, которые постоянно упоминались в прессе и дальше через эту упоминаемость сцеплялись друг с другом именно в тех сочетаниях, в которых они и упоминаются. Уже в конце 80-х я зафиксировал формирование группы несменяемых лидеров общественного процесса, не связанных с теми партиями, которые их создают. Эта группа, ориентировавшаяся на Ельцина и демократов, существовала, мало меняясь, до выборов 96-го года, да и сейчас отчасти существует. Получается, что интерпретации создают какуюто фиктивную общность, которая становится реальным хозяином положения. Работа этой машины как системы построения и поддержания доминирования — вот первое, что обратило мое внимание.
И тогда же я понял, что гласность была определенной коммерческой операцией, точнее говоря, управленческим решением. Были назначены несколько человек в средства массовой информации. Они не просто получили освободившиеся посты, но получили на основании постов полный контроль за машиной, в том числе за машиной производства стоимости. Контроль над СМИ. Они получали полностью субсидируемые предприятия, а весь извлекаемый при этом доход оказывался их личной собственностью. В этом смысле у Егора Яковлева, Старкова, Коротича было одинаковое положение.
Эта была машина доминирования, создававшая устойчивую группу управляющих, которые одновременно производят интерпретацию, сбиваются в сообщества и извлекают ренту из этого положения. Для меня это было очевидным фактом, и я не мог понять, почему об этом не говорят. Об этом не было ни одной публикации до середины 90-х годов. СМИ не писали о СМИ, т. е. писали о СМИ как об идеологических субъектах, но никогда не писали об их устройстве и их финансовой стороне. Когда кому-то урезaли бюджет, то обычно это трактовалось как грубое идеологическое вмешательство власти в свободу прессы. Тогда же я обратил внимание и на то очевидное обстоятельство, что все это происходит внутри советской машины. Грубо говоря, внутри агитпропа, который не подвергся никаким изменениям, за исключением кадровых перестановок. Агитпроповская гласность была, в сущности, первой волной приватизации. Возникла ситуация, где реальность можно было переописывать таким образом, чтобы твое положение было прочно вмонтировано в новое описание реальности. Ты получал права администратора сети и мог назначать другим пароли. Союза нет, а агитпроп остался. И для того, чтобы остаться, он ликвидировал Союз. И в каком-то смысле был период, когда именно эта система назначала новые социальные классы, новые социальные категории.
И в то же время я близко наблюдал за Егором Яковлевым, а также за Володей Яковлевым, который тогда строил принципиально новые СМИ с чистого листа. Он не хотел даже брать людей, закончивших журфак. Это была антирекомендация. Он не хотел ничего получать от государства. В период с 87-го по 92-й я был занят созданием по информационной идеологии сектора СМИ, которые не были бы инструментами власти. Интересно, что первый раз мы с Яковлевым обсуждали идею создания ежедневной газеты после моей поездки в Мюнхен, на радио «Свобода». Меня крайне заинтересовало там именно устройство управления. Там существовал очень элегантный механизм мягкого управления многочисленными редакциями. Был информационный центр радио «Свобода», своего рода внутреннее агентство, который выпускал ежедневно развернутую и комментированную сводку новостей. Каждая редакция была совершенно свободна, она могла делать все, что угодно, но только а) в пределах этих десяти новостей и б) в пределах предложенных интерпретаций. И туда же был вмонтирован список ньюсмейкеров. Эта механика ужасно увлекла Володю. И, собственно говоря, «Коммерсант» строился тоже вокруг информационного центра.
Мне трудно объяснить, почему меня это интересовало. Практического применения я этому не находил, в отличие от Яковлева я не стремился делать какое-то большое СМИ. Но меня интересовало, как устроена вся система сна, в который было погружено общество в начале 90-х, и каким образом оно может, например, потерять память и называть бог знает кого «шестидесятниками», хотя «шестидесятники» совсем другие люди, их в помине не было на тех местах, где их находили. Почему общество напрочь забыло 70-е годы, например? Каким образом можно забыть материю социальности и оперировать какими-то совершенно простыми понятиями? Набор этих простых категорий начала 90-х тоже, в свою очередь, был забыт, не будучи проанализирован. Все это я стал называть проблематикой СМИ. Я не смотрел телевизор в это время и не читал газет. Хотя я иногда писал статьи. Потом произошла известная история с «Версией № 1», которая создала мне дурную славу. Поскольку я не следил, что происходило в прессе, то я даже долго не знал, вокруг чего разворачивается скандал. Вдруг выяснилось, что все это из-за текста, который вышел из наших кругов. И когда я попытался в своем стиле короткого эссе объяснить, что это значит, поднялась следующая волна, еще выше. Вот это и натолкнуло меня на мысль, что с этим, пожалуй, можно работать.
Я понял, что опять столкнулся с той же реальностью, что и гласность, только на микроуровне. Я стал собирать материал и читать. И тогда я понял, что СМИ — это механизм помрачения, вроде сна в полдень. Он создает ясность там, где ее на самом деле не должно быть, для тех, кто в этом нуждается. А потом в 94-м, когда возник Фонд эффективной политики, буквально первый же клиент (это был Григорий Алексеевич Явлинский) сказал: «Если ты сделаешь четыре-пять таких штук, как “Версия № 1”, то мы договорились». Я подумал, что это несложно. Но потом оказалось, что это сложно. Я стал разбираться в том, как устроены российские СМИ уже как схема. Я все равно включился в реальную кампанию, которую делал ФЭП с Конгрессом русских общин. И уже к концу 1995 года я представлял себе, как эта система работает, она и сегодня так же работает.
Иван Засурский. Мне была интересна ваша авантюра с Интернетом, я за ней следил. Когда Интернет начинался, было понятно, что это большая вещь, которая многое меняет: растет механизм сна в полдень, который по сути есть механизм фильтрации и контроля, маскирующийся под информационную систему. Это какая-то расширяющаяся впадина. Вроде бы открывается окно возможностей. Однако если человек привык спать в полдень, то возможности, которые перед ним открываются, возможности реализовать тягу к знаниям в режиме реального времени или получить основание для какого-то мотивированного действия, не могут быть реализованы. Такой человек ждет, что кто-то другой ему задаст интерпретации. Сейчас зона актуализированных людей, актуализированной информации, зона пробуждения, в принципе расширяется. Собственно, вопрос состоит в том, где ее границы. Упрется ли она в ограниченное число людей, способных к активному поиску информации, к активным действиям, или она сама способна преобразовывать поведение людей, когда они в нее включаются.
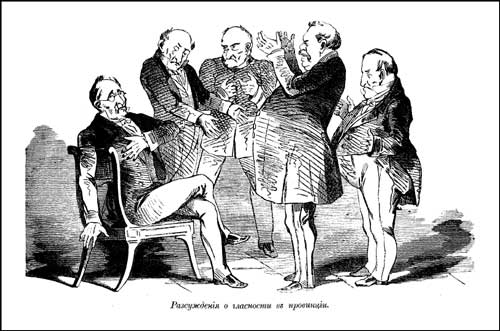
Мне интересно, насколько наличие той или иной технологической возможности способно изменить поведение людей. Сейчас я вижу, что граница, хотя и рваная, проходит по возрасту и по образованию. Способность к активному поиску информации, желание двигаться в нужном направлении возникает, вопервых, у людей, которые проходят социальную адаптацию уже после конца Советского Союза. А во-вторых — у людей с образованием, которое работает как система первичного конструирования знания, без которой человек не может правильно ориентироваться. Пассивному пользователю, который просто наслаждается или плюется, но смотрит, противопоставляется некий идеальный активный человек, который действует только в соответствии с собственными интересами, движется в известном ему направлении. Пользуясь при этом новыми технологическими штучками, дающими ощущение всеведения и всеприсутствия, он просто движется с максимально возможной скоростью. В принципе количество таких людей растет. И рост этот совпадает с приростом пользователей Интернета. Видите ли Вы эти процессы?
Г. П. Интернет я мог понимать только по аналогии с самиздатом. У них общая черта — активность пользователя. Что такое, собственно говоря, самиздат? Самиздат — это поиск не вообще информации, а поиск экзистенциально значимой для тебя информации, за которую ты готов на каждом промежуточном рубеже взять ответственность. Система самиздата не говорила, что в мире уже есть вся необходимая для тебя информация. Но в процессе движения ты встречал других людей — и это было гарантировано, ты иначе не мог просто двигаться в этом пространстве, — которые обладали новыми возможностями, входами в какие-то другие разветвления траектории. Они давали линки. И все эти люди образовывали сообщество, в котором все заведомо свои. Это была некая община. Они так же относятся к информации в силу того, что так же рискуют, участвуя в этом, они так же относятся к базовым ценностям, как и ты. Без этого самиздат был бы невозможен совершенно. Предельная утопия самиздата — бесконечный и лавинообразный процесс. Собственно, утопия эта практически почти была реализована: одного арестуют, тут же вылезают новые неизвестные трое, которые пишут протест против ареста того первого. Они пишут хроники текущих событий, хронику печатают, и они уже находятся внутри этой хроники…
Я сразу почувствовал это и в Интернете. Моя заявка, поданная в фонд Сороса в 1989 году, носила официальное название «Информационная среда». Я не читал никаких книг, никаких слов специальных не знал. Просто была идея, что должна быть сеть, обеспечивающая возможность производства какой-то экзистенциально значимой информации и ее трансляции. Отсюда — компьютер, факс и ксерокс. Мечта самиздатчика. И Джордж Сорос сказал: «Да». Были выборы 90-го года. Единственное, что он мне сказал: сделайте так, чтобы на выборах победили нужные люди. Мы же одинаково понимали, кто нужен, и здесь не было даже никакого вопроса. И он выделил тогда миллион, который разбили на мелкие гранты. Накупили ксероксов, компьютеров, факсов, принтеров и разбросали по стране в большом количестве. Тогда же я узнал об Интернете, который был тогда не этим Интернетом, он существовал как некая локальная система доставки почты, которую во время известных событий 1991 года активно использовали для трансляций. В моем представлении это был совершенный самиздат. Интернет мне показался реваншем. Во-первых, реваншем человека словесной культуры по отношению к человеку визуальной культуры. Во-вторых, это было оснащение субъекта, беззащитного перед всей этой машиной доминирования, дешевой технологией сопротивления. В начале 90-х годов я искал способ борьбы с рекламой. Если есть, например, такой фактор, как жизнь, то можно найти и такой фактор, как ядерное оружие, которое может решить проблему. Если есть такой фактор, как реклама, должен найтись такой фактор, который уничтожает ее без возможности восстановить. Интернет мне показался именно этим инструментом. Это была ошибка.
Виталий Куренной. Получается, что СМИ в России возникли там, где осколок прежнего агитпропа начал поворачивать вокруг себя все общество и всю страну таким образом, что он сохраняет сам себя и даже увеличивает значение своей роли, порождая все те эффекты, которые относятся к понятию «СМИ». В какой-то момент Вы нашли способ воспроизводить этот эффект в локальном масштабе. Вы востребованы как человек, который умеет это делать. Но не является ли сама эффективность этого механизма неким инертным наследием старой агитпроповской системы? Она, может быть, приобрела какие-то черты рыночного характера в том смысле, что более не имеет тотального, целостного облика. Она может находиться в руках отдельного, частного субъекта. Но она работает, производя эти сны в полдень, лишь по инерции тех рефлексов, которые возникли в рамках старой системы.
Г. П. У меня не было возможности серьезно исследовать все это поле. Но для меня очевидно, что нельзя понять возникновение СМИ в этом качестве в Советской России вне связи с ликвидацией церковных приходов в 1920-е годы. Я думаю, что церковь, взятая как институт, как система приходов, играла роль чего-то вроде средств массовой информации. Именно поэтому война с ней была такой ожесточенной. Причем пик военной акции против приходов пришелся на период, когда власти искали компромиссы с церковной иерархией и очень хорошо их находили. Но в отношении приходов они были беспощадны, потому что они боролись со своего рода враждебными «телеканалами». И они не сразу нашли, чтo поставить на место церковного прихода. В конце концов они собрали и свинтили жуткую, но эффективную систему. Единственное, чего в ней не было достроено, как я сейчас понимаю, так это Голливуд. Система не догадалась достроить фабрику, производящую товар вовне, — и это при наличии глобальной аудитории, дружественной и готовой глотать все, что угодно. Кстати, тогда вообще исчезла бы проблема рентабельности советской экономики. Практически весь период существования Советского Союза, за исключением немногих периодов, был сверхспрос на его идеологическую продукцию. Но он не умел этим торговать.

Машина была построена, и она действовала. Иначе нельзя объяснить роль толстых журналов, причем в некоторых случаях, даже еще в 80-е годы, они становились центром реальной внутриаппаратной борьбы. Была выстроена действительно законченная система. Она, возможно, и не была вполне тоталитарна, если подходить к ней с определением тоталитаризма, данным Ханной Арендт, но в чем-то она была даже более законченной, чем ее идеальная цель — тоталитаризм. Гласность и перестройка были, конечно же, чисто тоталитарными процессами. Мотивы, причины, по которым они возникли, не были тоталитарными, но весь инструментарий и контент (язык) был тоталитарным. Что мы получили в итоге? В итоге мы получаем систему, которая сегодня производит только разные технологии обращения с информацией. Она неспособна производить информацию. Она не хочет ее производить. Задача производства информации не ставится, а возникает всегда как исключение в каких-то особых случаях. Она возникает, как правило, как проблема выживания субъекта. Когда надо действительно, любой ценой знать, что происходит. Но как только проблема выживания снята, интерес к информации исчезает. Соответственно, система производства информации просто разбирается, используется для решения каких-то других задач. Эта система все время производит элементы конструкта для того, чтобы можно было обращаться с информацией и так или иначе ее использовать для доминирования или чего-то еще. В этом смысле мы серьезно отличаемся от близких систем Восточной Европы. Там никогда не исчезали системы производства информации, даже в период диктатуры.
И. З. Но это только один из срезов. Например, я не смотрю телевизор. Для меня важнее формирование параллельной культуры, которая не является монолитной. Это формирование сообществ вокруг интересов и лидеров мнения. При этом лидер мнения в каждом сообществе свой. Во всех сообществах, которые я наблюдаю, даже весьма многочисленных, есть какая-то группа людей, которая пользуется авторитетом, которые фактически ведут других людей. Но, вместе с тем, они все на равных. Там даже нет цели, просто они на равных участвуют в этом процессе. Потенциал Интернета интересен для меня с точки зрения полууправляемой социальной инженерии. Как происходит самоорганизация этого пространства, как происходит отбор участников и каким образом эту систему в принципе можно описать. И сейчас я все больше склоняюсь к тому, что в противовес системе фильтрации, доминирования, «снов в полдень» идет процесс пробуждения. Он намного менее массовый, с одной стороны. С другой стороны, к этому процессу подключается все большее число людей, подключается через «горизонтальное» обсуждение, через болтовню в «чатах»… Так возникает инфраструктура. Мне кажется, не за горами тот момент, когда произойдет какая-то визуализация этого образа в реальности, когда средства массовой информации начнут его описывать. В этом смысле утопия самиздата оказалась, как видите, не совсем утопией. Возникает вопрос, утопия ли это самиздата. Может быть, утопия самиздата тоже часть какой-то другой утопии, которая, по большому счету, всё и держит?
Г. П. Утопия в моем представлении — это не оценочное понятие. Задача большевиков также заключалась в создании целого ряда значимых ресурсов, каждый из которых должен был собрать вокруг себя аудиторию. Необходимо было собрать как можно бoльшую аудиторию, чтобы ее продать. Только продать ее не на свободном рынке, а продать ее монопольному покупателю. Естественно, нельзя было создать один и тот же ресурс для бедноты и для писателей, которые учились в гимназии, — для них создавался Союз советских писателей. Но в принципе всё это были ловушки. Задача каждой из которых состояла в том, чтобы собрать аудиторию и дальше ею так или иначе манипулировать. А в момент очередной священной войны — объединить, консолидировать несколько аудиторий. Поэтому то, чем сегодня занимается Интернет, мне вообще не кажется новым. Вы видите в Интернете систему, дающую опору для субъекта, который намерен не быть просто транслятором, проводником предложенных интерпретаций. Я не вижу сегодня в Интернете этой опоры. Но я вижу достаточно развитый инструментарий, который позволяет в известном смысле лавировать. Сегодня у человека, который движется в Интернете, есть возможность рассмотреть набор претендентов для выбора суждения и информации, но очень незначительная возможность.
И. З. А здесь дело не в этом. Если говорить с точки зрения системы, то мы всегда видим систему. А мне интереснее смотреть, каким образом каждый конкретный, индивидуальный человек является точкой сборки, центром, вокруг которого группируется информация. Есть ли в его движении по жизни какая-то внутренняя логика? Потому что если его что-то ведет и он может идти правильно, то Интернет позволит ему поддержать контакт с теми, кто ему нужен. Ему могут быть не нужны информационные ресурсы Интернета. Может быть, ему нужна просто электронная почта как способ синхронизации — пространственной и временной. То есть для меня это, скорее, инструмент, который находится вне медийной зоны, это инструмент, с помощью которого можно сделать свой путь более комфортным. Можно получать поддержку и совет от реальных людей, а не от информационных систем, не от информационных продуктов — книжек, или газет, или статей. Это какая-то система личной поддержки. В принципе, низкая популярность, например, политических сайтов в сети, с моей точки зрения, свидетельствует о том, что Интернет — это в первую очередь пространство личной коммуникации, в котором все информационные ресурсы носят вспомогательный характер.

Г. П. В Интернете вы имеете дело с бесчисленным множеством своего рода аннотаций и рефератов. Двигаясь между аннотациями и рефератами, вы не повышаете свою способность ни в чтении, ни в считывании. То же самое и с людьми. Это не взаимодействие. Вы не встречаетесь с личностями, вы встречаетесь с рефератами людей, «шкурками». Это шкурки персон, крайне условные маски, которые выстраиваются в определенном порядке. Вы можете до бесконечности бродить среди них. Личная информация, которую вы при этом извлекаете для самого себя или для передачи ее кому-то, крайне тривиальна. Это принципиальное отличие от непосредственного общения.
И. З. Нет, просто подлинность здесь ситуативна. Если вы что-то ищете и человек дает вам знания, то не так уж важно, насколько знание это реферативно и вторично. Важно то, что оно нужно вам именно в этот момент. Для меня Интернет в первую очередь среда личная. То есть переписка с известным мне человеком — это и есть сам способ общения: он мне поможет тем, что даст какую-то ссылку на книгу. Но эта книга является примечанием или дополнением к тому, что он хочет мне сказать.
Г. П. Конечно, все это не закрывает для вас возможность движения, выхода к своим целям, или к нечаянному результату вашей деятельности, или просто к нечаянному человеку. Но это есть в любой системе, в том числе и вне Интернета. Я просто обращаю внимание на то, что так же, как и в системе традиционных СМИ, здесь есть сектор в каком-то смысле одноканального вещания, некая серая зона, где личность может встречаться или рассчитывать на встречу. Их устройство различно, но это есть и в Интернете, и в офлайне. Никто не закрыт полностью. У каждого есть возможность приобрести аутентичные знания. Для того чтобы встретиться, необходимо осознать, что ты имеешь дело с встречей. Необходимо назвать это так для себя. Каким-то образом обозначить на своем языке, этот язык должен присутствовать как язык к этому моменту. Но возможность приобрести свой язык не увеличилась с появлением сети.
В. К. Можно я вернусь к вашему тезису о том, что еще не нашелся субъект, который собрал действительно информационную машину, что она возникает в исключительных ситуациях и так далее. Вопрос в следующем. Я не очень-то верю в абстрактного активного человека. Но существует набор групп, для которых информация жизненно важна. Это группы, принимающие решения. В бизнесе в первую очередь. Во вторую очередь — в политике. Тот факт, что механизм производства информации до сих пор не собран, на Ваш взгляд, это признак того, что у нас отсутствуют соответствующие группы, либо же эти группы функционируют в каком-то специфическом режиме, отличном от того, в котором функционирует нормальный рынок?
Г. П. Скорее второе. Решение все равно приходится принимать. Вопрос только в технологии принятия решений. Если вы должны принять решение, а у вас нет релевантной информации, то вы эту релевантную информацию творите. Вы ее создаете из ничего — из болтовни шофера, из случайной заметки в газете, из любого обрывка. Я много раз наблюдал, как крайне серьезные, ответственные и часто правильные решения принимаются на основе не только дефицита информации, а вообще при отсутствии чего-либо напоминающего информацию по предмету, по которому надо принять решение. Тем не менее они принимаются. Это значит, что существует система массовой информации-2, которая может быть не менее эффективна. Но принятие решений в условиях отсутствия системы контроля релевантности информации ведет к прогрессирующему снижению культуры принятия решений.
В. К. Но есть развитые самодеятельные, ремесленные формы работы с информацией: аналитические и информационные отделы при отдельных структурах…
Г. П. Каждый такой отдел является гадалкой при вожде. Его главная задача выстроиться, вчувствоваться в логику шефа, в систему его придурей и научиться говорить на этом языке. Это личная пристройка, которая не может быть транслирована. Нельзя сравнить аналитические отделы Березовского и Гусинского. Они не просто по-разному устроены, они будут взаимно бессмысленны.
В. К. Но такая система не может быть эффективной. Насколько долго она может функционировать в таком режиме?
Г. П. Система находит способ как-то отбиться от реальности. Но она становится все более шаткой. В принципе достаточно сильного удара по ней, в том числе информационного, чтобы озадачить ее настолько, что она не сможет собраться. Выяснилось, что можно довольно простыми способами обрушить советскую систему. Имеется в виду не систему власти, а систему интерпретаций. Нынешняя система не более устойчива, чем советская.
И. З. Вы говорите о медийной системе или о политической системе?
Г. П. Я говорю сейчас не о политической системе. Политическая система может смениться, а информационная сохраниться. А может быть и наоборот.
В. К. В политической системе сложнее применять понятие эффективности, в отличие от рыночной.
Г. П. Кроме случая войны. Собственно говоря, сегодня война — наиболее надежный измеритель эффективности, в том числе и экономической.
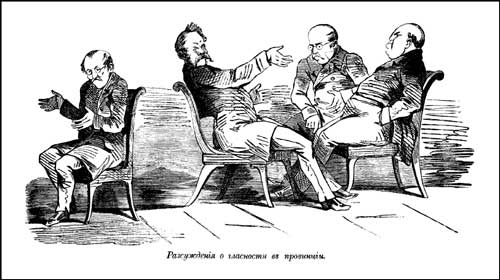
И. З. Война — важнейший современный национальный ритуал. И это важнейшее событие в иерархии медиасобытий. Есть такое ощущение, что современная медийная система и медиаполитическая система порождают войны. Аудитория медиа постоянно ускользает, растет сопротивляемость аудитории к манипуляциям. В этой ситуации война является идеальным коммуникационным событием для любой осознанной стратегии: политика, или продавца, или кого угодно. Это событие, которое возвращает нас к архетипу общества.
Г. П. Да, это очевидно. Клип живет две недели, а затем нужно перепрограммирование канала. Война выступает в этом смысле в качестве своего рода системы клипов, особого рода культуры перепрограммирования. Но война, помимо того что она перепрограммирует, может иногда существовать и на самом деле.
Есть запрос на настоящее. Нужны реальные жертвы. Я бы предостерег от того, чтобы превращать какой-нибудь институт современной жизни в творца всех остальных институтов. СМИ не являются тотальным демиургом всего.
И. З. Мне кажется, что основной процесс, который происходит последние две-три сотни лет и который можно использовать как матрицу для анализа или объяснения, — это процесс урбанизации. Идет процесс фрагментации, когда гомогенное общество становится гетерогенным. Это процесс новой стратификации, когда на месте более-менее однородного субъекта, созданного массовым производством или теми же СМИ, которые появились в XVIII — начале XIX века, возникает нечто иное, более сложное. И тот же Интернет я рассматриваю как продолжение процесса сегментации, который сам по себе бесконечен. Но это, на мой взгляд, позитивный процесс, поскольку я человек городской культуры. Главное отличие этой культуры состоит, во-первых, в интерактивности среды. Если деревенская среда — это среда, из которой трудно вырваться, и даже если ты гений, то становишься просто чудаком, вроде Шукшина или Циолковского, то городская среда дает возможность человеку довольно быстро находить себе комьюнити по интересам. В этом смысле телевидение — это тоже деревня, где ты можешь наблюдать, но не можешь реагировать. В то же время происходит формирование нового цифрового города. Это как бы система, в которой сигналы движутся уже и туда, и обратно. Возможно, это сигналы, может быть, нужны не такой большой аудитории, для которой нужен какой-то ритуал, или смерть принцессы Дианы. Это сигналы для маленьких групп, зато это сигналы предельно конкретные, и когда проходит какая-то информация, то 20 человек начинают действовать очень интенсивно в каком-то одном направлении и достигают заметного результата. Конец СМИ для меня в принципе означает прежде всего вот это многократное расслоение и усложнение информационной среды, в которой появляется интерактивный компонент, и когда из СМИ пропадает буква «М». То есть это просто становится системой информации. «Массы» исчезают, массы становятся все более и более призрачными. И на самом деле, это сейчас чувствуют даже те, кто заказывает телевизионную рекламу, так как потребитель всегда успевает ускользнуть, нажать на пульт телевизора, а Интернете это еще более очевидно, потому что там есть статистика в реальном времени, что люди делают.
Г. П. Я бы подтвердил тезис о том, что в СМИ исчезает «М» в старом смысле слова, и, собственно говоря, нужда в самом «М» носила временный характер. Сейчас вам предлагают индивидуальный пульт — и это уже не мечты. Вы будете получать на дисплей автомобиля рекламу именно того, что вы ищете и что находится за ближайшим поворотом. Но вы понимаете, что это не упрощает задачу принятия решения. Это иллюзия упрощения. Истинность утверждения, что ускорение является усовершенствованием, она, если вдуматься, неочевидна. Быстрее всего социализацию проходят те, кто брошены в теплушку с представителями других классов или в камеру с малолетками. Социализация идет здесь очень быстро, но крайне неприятным способом. Происходит кража времени, предназначенного для выработки решений. И в результате — снижение качества. И даже ускорения не происходит, потому что ускорение происходит именно в тех узких сегментах, которые ему даны, что исключает возможность построения собственной траектории.
И. З. Интернет — это как раз расширение, потому что там нет границы. Там вы сами выбираете траекторию. Интернет дает возможность наколдовать любую вещь, если вы знаете правильное слово. Интернет как джинн. Если вы назовете вещь правильно, она появится. Парадокс в том, что люди действительно не умеют сформулировать то, что они хотят.
Г. П. В турецких гостиницах стоят пластмассовые кубы, куда можно бросить монетку и получить возможность выбрать между синей пластмассовой свистулькой, сломанным маленьким танком и чем-то еще — совершенно свободно. Здесь имеет место оперирование некоторыми мнимостями. В этих действиях самих по себе нет ничего плохого. Если вы предаетесь этому занятию, значит это ваш выбор, это и есть принятое вами решение. Но нельзя называть это решением, принимаемым на основе информации. В идее о том, что система массовой информации стремится избавиться от «М», есть ценное зерно. Но эта персонализация амбивалентна, в ней есть и новые возможности, и новые угрозы. И я не берусь сказать, чего больше. Но мы действительно находимся в процессе перехода к персонализованному информационному пространству. Я отношусь, наверное, к одному из последних поколений, которое просто умрет, тогда как последующие оставят в Интернете свою полную историю от детских фотографий до хромосомного кода. Жизнь, из которой ничего не пропадает, все остается в информационных слепках, — это совсем другая жизнь.
И. З. В Интернете вообще присутствие — главное понятие. Вы должны присутствовать, чтобы быть доступным и востребованным другими, и вы должны быть алертны для того, чтобы получить то, что ищете сами, потому что подсказки могут прийти в любой момент и быть самыми неожиданными.
В. К. Только теперь я понимаю, почему для перевода «Dasein» — категории, обозначающей у Хайдеггера существование человека, Бибихин избрал вариант «присутствие»…
Г. П. Иногда присутствовать очень хочется, а иногда очень приятно, но постоянно присутствовать — это пытка. Я думаю, конец СМИ, лучший конец для СМИ — это возможность нажать на Off.