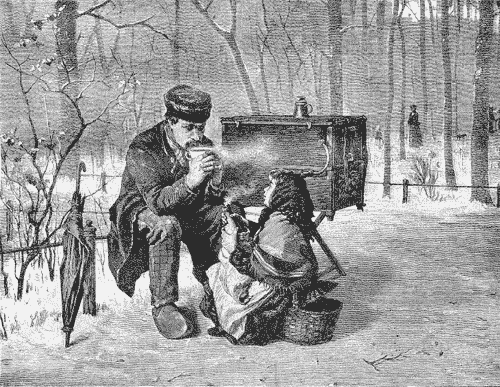Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 1, 2003
| Человек связан нуждой и заботой и тем не менее знает о празднике. Где-то в глубине души всегда хранится память о времени, совершенно свободном от повседневных дел. Ведь праздник есть не что иное, как свобода от нужды и заботы. В старославянском языке празднъ означало «пустой, незанятый». Эта «пустота», «незанятость» праздника указывает не только на прекращение обычного течения времени. Она налагает строгий запрет на заполнение священного места каким-либо внешним (нужным, полезным) содержанием. Пустое место праздника нужно лишь для того, чтобы впустить в себя Божественное. Пустоту праздника нужно беречь для прихода Бога. Дело сохранения праздника в человеческой суете едва ли было бы чем-то осуществимым, если бы им было занято одно только «колено левиино». Но праздник испокон века являлся общенародным делом. Своим праздным отношением к праздникам, облекавшимся в доступные для всех ритуалы и нарядные одежды, народ отмечал и почитал в календаре особые дни, которые придавали смысл будничной жизни. Оберегание границы между праздничным и будничным — важное и необходимое для человека дело. Ибо оно определяет меру свободы человека, лежащей вне мира работы с его законами и принуждением. Однако бытие современного человека как animal laborans (или даже «технического животного») характеризуется тем, что мы называем утратой праздничности. С ней же связано не только безразличное отношение к календарю, но и утрата существенных различий между работой и праздником, работой и досугом. Безудержное заполнение полезным содержанием пустого места праздника оборачивается все возрастающей абсурдностью традиционных выходных и праздничных дней, совершенным неумением различать нарядную и ненарядную одежду и глубокой подозрительностью в отношении ставшего столь редким праздного поведения. Наша статья посвящена теме праздника и утраты праздничности в русской религиозно-философской традиции. При всей своей незаметности эта тема — лейтмотив размышлений об отношении России и Запада, о Церкви, о подлинном и неподлинном бытии, о свободе и художественном творчестве. Начиная с Гоголя русские мыслители говорят о забвении праздничного начала жизни, остро ощущая не подлинность «мелочно-повседневного» существования. Вместе с тем критика западного интеллектуализма, традиционно являющаяся стержнем философско-исторической рефлексии в России, отступает здесь на второй план. На первый же выдвигаются два главных вопроса: новое обретение праздника Пасхи или Воскресения Христова («праздника праздников») и связанное с ним возвращение к праздничному состоянию «младенчества души». Применительно к теме праздника в русской философии мы смогли выделить четыре наиболее значительные фигуры — Гоголя, Федорова, Розанова и Флоренского. Все они в одинаковой мере исходят из чувства утраты праздничности, но, конечно же, зачастую разнятся в том, как видится им возможность восстановления праздника. Гоголь: праздник в русской земле В книге Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», вышедшей в Петербурге в 1847 году, празднику посвящено заключительное XXXII письмо «Светлое Воскресенье»[1], которое ретроспективно придает внутреннее движение всем предыдущим главам. Этот весьма знаменательный текст мы вправе даже назвать ключевым для русской мысли о празднике. Главную его черту можно было бы обозначить как аскетическое отношениек празднику. Праздник у Гоголя (как впоследствии у Н.Ф.Федорова) противополагается праздности (понятой в смысле лености, нерадения и бездействия) и оттого связывается с деятельной любовью к Богу. Свои размышления о восстановлении праздника и праздничности в русской земле Гоголь характерным образом начинает с утверждения: «В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресенья». Однако в действительности писатель наблюдает скорее то, что «самого праздника нет», а взамен имеется лишь «карикатура и посмеянье» над ним. Диагноз, который Гоголь ставит современной эпохе, таков: чистая праздничная радость становится невозможной именно тогда, когда «мысли о счастии всего человечества» сделались «любимыми мыслями всех». Хотя в этих мечтах и мыслях «человек нынешнего века» обнаруживает свои христианские стремления, желая «возвысить внутреннее достоинство человека» и «ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт», однако на деле он от «Христова закона» далек. «Страшное препятствие» для подлинного праздничного чувства — это «гордость чистотой своей». «Но все позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видеть гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обонянье его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты своей. Такому ли человеку воспраздновать праздник небесной Любви?» Забвение праздника связано также и с «гордостью ума», мешающей человеку исполниться «светлого простодушия и ангельского младенчества», что только и могло бы собрать всех людей «в одну семью», по-настоящему «воспраздновать праздник». Все разрастающаяся не подлинность существования таит в себе угрозу этому детскому восприятию мира, которое, согласно Гоголю, должно помочь человеку заново обрести праздничность, вспомнить настоящее счастье. «Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество, — то младенчество, от которого небесное лобзанье, как бы лобзанье вечной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек?» Безмерная жажда праздника, почувствованная и высказанная Гоголем, рождается из щемящего сознания мелкости и скуки. Смертный страх, страх могилы начинает распространяться повсюду, когда утрачен праздник как залог и обетование вечной жизни. «Но и одного дня, — продолжает Гоголь мысль о младенчестве, — не хочет провести так человек девятнадцатого века! И непонятной тоской уже загорелася земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в Твоем мире!»
Восстановление праздника мыслится в завершающей части письма как вынесение (или внесение) церковного праздника в жизнь — впоследствии эта интуиция будет присутствовать и у Федорова (учение о «внехрамовой всемирной Пасхе»), и у Розанова (сближение природы и храма), и, в скрытой форме, у Флоренского. Подобную задачу, которая перекликается с заветом «Будьте не мертвые, а живые души», русский народ способен осуществить раньше, чем другие народы. Утрата праздничности заключает в себе не только опасность отчаяния и гибели — с ней связывается и надежда на возвращение праздника в русской земле. «Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется, как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: “Христос Воскрес!“ — и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гулят и гудут по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно признаки, там недаром носятся; где будят, там разбудят. <…> Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник Светлого Воскресенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов». Надежда на возвращение праздника вырастает, впрочем, не из того, что русский народ «ближе жизнью ко Христу». Забвение праздника «другими народами» (Гоголь далее говорит о Европе) есть не что иное, как следствие их исторической устроенности и разделенности. Залог же возвращения праздника, осуществления «закона Христа», видится Гоголю, наоборот, в «неустройстве» русской жизни, не получившей еще свою «национальную форму». Вернуть праздник значит вспомнить то многое, что есть в «коренной природе нашей, нами позабытой», близкое закону Христа. В самой «славянской природе» есть «начала братства Христова», и соединению людей не мешает рознь сословий и партий, «какие водятся в Европе». Наконец, Гоголь указывает на свойственную русскому народу готовность пожертвовать частным ради целого: «Есть <…> у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли домы свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия — один человек». Опираясь на эти «данные, заключенные в сердце нашем», Гоголь в твердой уверенности повторяет снова и снова: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскресенье Христово!» Федоров: возрождение календаря Н. Ф. Федоров объединяет в себе аскетическое настроение Гоголя с педагогическим пафосом научения «общему делу». Мы остановимся на нескольких статьях из религиозного раздела второго тома «Философии общего дела»[2]. Как проницательно замечает Федоров, будни вносят в жизнь разделение, тогда как праздник объединяет в общем деле — в главном, родном. В первой же статье «Вера, дело и молитва» идет речь о том, что совершаемый в храме праздник Воскресения должен быть продолжен за пределами храма, где он впервые достигнет своей цели — преображения всего народа. «Воспитывающая и научающая общему делу служба Богу в храме, суточная и годовая, найдет свое завершение в службе внехрамовой, совокупными силами в целом мире совершаемой, в литургии внехрамовой и во внехрамовой Пасхе всемирной». Особенность федоровской теории праздника (позволим себе такое рискованное выражение) состоит, впрочем, не только в подчеркивании вселенской значимости праздничногодела и его воспитательной роли[3]. Не менее важным вкладом Федорова является обоснование праздничного отношения к смерти, из которого следует радикальное изменение взгляда на календарь. Смысл православного погребального обряда в статье XXII раскрывается как воспроизведение праздника «Пасхи Крестной и Пасхи Воскресной», выражающей всю суть христианства. Центральное же место в федоровской мысли о празднике занимает статья XXVI под названием «Для чего нужен календарь?», где разграничивается «языческий» (слово употребляется в широком смысле) и христианский календарь. «Утратив смысл и цель жизни, мы не отдаем себе отчета и в том, на что нужен календарь, — указатель употребления времени: суток, годов, веков. Судя по обычному пользованию им, календарь должен указывать нам прежде всего на дни бездействия, на те дни, когда мы от работы, от службы, от ученья свободны. Календарь будет указывать на часы бездействия, субботные, то есть часы, когда осуществляется заветная мечта города о 16-часовой праздности. Если цель жизни — свобода, то есть бесцельность, как уверил нас Запад, то дни, когда люди не знают, что им делать, когда они изнывают от скуки, ищут, подобно детям, всякого рода игр и забав, — в таком случае эти желанные дни суть праздники, к которым “прогрессивный“ Запад, отринувший церковный смысл праздников, присоединил еще один, свой праздник прославления бездействия, — 1 мая, противоречиво давши ему название “Праздника труда“». «Сынам века сего», утратившим праздничность и, соответственно, опустошившим свою жизнь, календарь служит для справок по разного рода будничным делам. За «праздником» (в несобственном смысле) сохраняется лишь значение игры и забавы, тогда как дни «непраздничные» превращаются в дни «бесцельного труда и вынужденной работы». У людей нет «общего, родного для всех дела», к которому призывал Христос, показавший своим примером, что день субботний (когда «Бог почил от дел своих», но «не перестал творить и доселе») должен стать днем исцеления и воскрешения. В противоположность этому сущность языческого календаря состоит, согласно Федорову, в «превращении всего строя и расчета времени <…> в сплошной культ языческой похоти жизни». Здесь следует отметить, что в таком толковании праздника понятия свободы и праздности неизбежно берутся в усеченном виде и оттого приобретают негативный характер. Христианский календарь Федоров определяет как «синодик, помянник, в коем каждый день указывает образцы для жизни, совершенно противоположной языческой». Правда, церковный праздник искупления, т. е. Пасхи Воскресения, еще не указывает на Пасху внехрамовую. «Развитие календаря в этом направлении еще впереди; только по мере осознания задачи общего дела и проникновения духом его, и календарь станет тем, чем он призван быть: синодиком-помянником, хранящим благоговейную память о прошлом, книгою юбилеев, почерпающею в прославлении прошлого любовь, воспитывающую настоящее и уясняющую задачи будущего, и наконец, — справочно-наставительною, образовательною книгою для храмов-школ, посвященных Троице Всепримиряющей и научающих сынов и дочерей человеческих долгу перед родителями и путям к его выполнению». Так философия общего дела, т. е. собственно общего праздничного дела, подводит к пониманию календарного праздника как связи между прошлым и будущим — как памяти, присутствующей в настоящем и деятельно преображающей жизнь в целом. Розанов: нарядность и сближение с природой В многообразном наследии В. В. Розанова можно найти лишь немного текстов, в которых прямо идет речь о празднике. К их числу относится статья 1903 года с весьма характерным для ее экстравагантного автора заглавием «О нарядности и нарядных днях календаря»[4]. Здесь устанавливается связь между праздником и нарядностью — и уже одно это вроде бы напрашивающееся само собой наблюдение придает тексту Розанова особое значение, позволяющее нам говорить об интересном опыте феноменологии праздника[5]. Размышления Розанова о празднике носят явный архаизирующий (если не иудаизирующий) характер. Отправной их точкой становится ветхозаветная заповедь о субботе. Наивному читателю, который считает, что «воскресенье» потому так много значит, что в него взрослые ходят к обедне, а гимназисты повторяют уроки за все шесть дней, автор спешит возразить: «Седьмой день выделен в особливый “Божий день“ в самом еще сотворении мира, и, таким образом, “пустой день“ входит, так сказать, в самую утробу мира». Изначально, — утверждается далее, — пустое место не было «застроено ничем праздничным». Праздник в «первоначальном и таинственнейшем» смысле — пустая область, или «незаполненное место времени», которое в пространственном измерении знаменует собой алтарь в храме или его прототип, Святая Святых. Собственно праздник описывается Розановым как «заполнение некоторым содержанием этого пустого промежутка». «Промежуток стал расти в наряд, в наряженность, в сверкание драгоценностями». Человек догадался, что жизнь в радости ближе к Богу, чем жизнь в печали. «Бог ближе к празднику, чем к работе» — в этой формуле Розанов, обладающий обостренным чутьем вообще на все архаическое, улавливает «первоначальную» мысль о «союзе между Богом и человеком, по коему угодное Богу есть отрадное для человека». «Для Бога человек должен наряжаться, веселиться, работать для себя. Отсюда веселье уже непременно сложится в изящные формы, потеряет грубость, станет нежным и религиозным. Народы должны ждать праздника не как “ничегонеделанья“, тупого спанья или разгула, а как величайшего осмысленного и сложного народного удовольствия, — наряда домов, квартир, улиц». Таким образом, у Розанова выстраивается смысловая связь «праздник — радость — близость к Богу – нарядность». То, что у Федорова аскетически мыслилось как общее праздничное дело поминания, превращается здесь во всенародное религиозное дело украшения и наряжания. Отсюда также следует известная неудовлетворенность реальностью церковной жизни. Розанов сетует: «Главное, у нас нет природы в празднике или, пожалуй, праздник не вынесен в природу; у нас природа не внесена в храмы, за исключением прелестнейших душистых березок в Троицын день». Так формулируется двойное требование внесения природы в храм и одновременно вынесения церковного праздника в природу. Правда, присутствию березы в церквах в день Св. Троицы Розанов способен дать лишь сентиментальные и археологические объяснения. «Это соединение цветка и храма, молитвы и зеленого листочка — как это прекрасно, вероятно, угодно Богу, потому что действует на душу». С другой стороны, здесь есть «некоторая отдаленная аналогия, некоторый поздний атавизм еще ветхозаветных “кущ“»[6]. Вместе с тем возвращение природы в религию, о котором мечтал еще Ж.-Ж. Руссо, принимает далее у Розанова форму апологии еврейского «каждения луне». «Луна — это уже огромный факт природы, больше воды, больше ветра и троицкой березки. Это — небесный огромный цветок, как бы лилия в синеве небесных вод». Свой пассаж о луне Розанов опять-таки заканчивает сентиментальным, психологическим обоснованием: «Я заметил, что луна располагает к нежности: поэтому думаю, что этот праздник (ветхозаветный праздник новомесячия. — А. М.) выходил особенно нежным, деликатным и как бы задумчивым. Ибо ведь праздники <…> имеют каждый свой психологический колорит…»
Несколько фантастический облик, который принимает розановская теория праздника, отнюдь не случаен. Глубокая и плодотворная мысль, согласно которой все «нарядные стороны древнего богослужения вытекли из основного представления, что Бог есть радость и что живет Он в радости, среди радующихся людей, в радостных местах, около нарядных одежд», внушена совершенно иной действительностью «праздничного» народного гулянья, утратившего праздничность. «Грустно теперешнее зрелище праздника. Вот “казенная лавка”; но еще нет двенадцати часов и двери ее заперты. Гуськом, почти как около кассы железной дороги, стоит длинная вереница лиц унылых, скучных, молчаливых. Редок тут говор. Головы опущены. Все дожидаются угрюмо, упорно. “Шесть дней трудились, на седьмой — выпьем”! И хочется им крикнуть: “Нет, други! Не здесь, не на мостовой, не в городе. Если и выпьем, то немного, и старинной не отравляющей бражки; а главное — заменим вино движением, весельем, песнею, игрою умною, и где были бы все участниками, а не только зрителями”» и т. д. Впрочем, не желая излишне предаваться унынию и печали и «думать, что дар творчества, например праздничного и обрядового, дан только первобытным мужикам», Розанов переформулирует свои требования: «воскресить в себе много-много наивности» и «сближаться с природою, с детьми». В конце статьи специально идет речь об упадке и необходимости возрождения детского праздника. Главная задача состоит в том, чтобы при содействии мыслящих людей, ученых, живописцев, музыкантов, поэтов «разработать праздник в счастливую и нарядную картину». Тогда у религиозного человека будет повод сказать даже хоть про себя: «Благословен, Ты, Господи, что дал нам не только будни, когда мы наказываемся трудом и потом за грех непослушания, но и дал праздники, как обетование прощения и воскресения в новую жизнь». Стремление к возрождению праздника вообще и детского праздника в частности может многое объяснить в творчестве Розанова: оттого он так часто ссылается на детскую литературу и фольклористику и с равным восторгом говорит даже о празднике весеннего древонасаждения. «Как сотворить себе нарядный год из обломков красивых древних обрядов» — именно так Розанов формулирует проблему утраты и восстановления праздника. Флоренский: рай и раек Мотив праздника едва ли присутствует в сочинениях о. П. Флоренского как особо выделенная тема. Тем не менее мы хотели бы рассмотреть один его важный текст — известное письмо 1925 года к Н. Я. Симонович-Ефимовой, посвященное кукольному театру[7]. Флоренский пишет не о церковном торжестве, а об уличном детском балаганчике. Однако здесь мы встречаемся не только с наиболее строгой (по сравнению со всеми рассмотренными авторами) теорией праздника, но и с наиболее глубокой тоской по утрате праздничности, близкой к отчаянию и одновременно ищущей спасения от него. Праздник, согласно Флоренскому, нужно мыслить как «оторванность» от привычных условий повседневности, как «вино неожиданной свободы», которое вводит качественно новое священное время и преобразует жизнь в художество. Он трактует праздник не в педагогическом или психологическом, а в онтологическом и эстетическом смысле: «Праздник — от праздный, т. е. пустой, незанятый; и весьма нередко достаточно снять грузы привычного и мелочно-повседневного, чтобы тут же вышли наружу задавленные ими: и вещее знание, и чувство коренной связи с миром, и близкая к экстатической радость бытия. Вопреки тому, как думают обычно, мучая себя, праздник нуждается не в попечениях, а в свободе от них. И эта свобода прежде всего и больше всего осуществляется строгою изоляцией от будней. Уже давно забыта всеми народами заповедь о субботе и сняты непроницаемые разделы между субботою и прочими шестью днями. Между тем, только рама, отграничение, неприкосновенная межа предоставляет раскрыться особому пространству художественного творчества, праздному по оценке пространства внешнего, но зато насыщенного радостью и важным смыслом, зато бьющего в будни ключами жизни. Из гуманности мы не побиваем камнями за разрыв священной ограды субботы и из дряблости предпочли заменить каменную стену ни к чему не обязывающею веревкою. Но зато мы перестали видеть солнце, жизнь потускнела и иссякла, и мир отравился скукой».
Этот диагноз почти совпадает с гоголевским, но уже относится к нигилистической ситуации наступившего и заявившего о себе в войнах и революциях XX столетия. И хотя утрата праздничности стала еще более угрожающей, она, как мы уже знаем, по-прежнему скрывает в себе ростки спасения, восстановления праздника. Наряду с революцией и разрухой начала 1920-х годов и помимо них, наряду со «скудостью и неверностью жизни во всех ее сторонах» и помимо них существует иное: на одной из сергиевопосадских улиц появляются кукольники с петрушками и окружившие балаганчик дети. «Куклы из тряпок, кусков дерева и бумажной массы совершенно явно оживают и действуют самостоятельно<…> Представление начинается игрою, но далее — врастает в глубь жизни и граничит то с магиею, то с мистериею». Вера в преображение жизни через праздник опирается на хрупкое свидетельство того, что кукольникам в это неверное время удалось «ввести театр в общенародную жизнь». Здесь Флоренского влечет тот же самый магнит — воспоминание о забытом младенчестве и мире как празднике. «Самое глубокое наше и самое заветное — это наше детство, в нас живущее, но от нас плотно занавешенное». Забвение младенчества тождественно забвению «изначальной близости со всем бытием». В последних строках письма кукла, возвращающая человека к детству и пробуждающая в нем духовную гармонию, неожиданно указывает на Царствие Небесное. Флоренский приводит слова Писания: «Если не обратитесь и не будете как дети, то не можете войти в Царствие Небесное» (Мф. 18, 3). Царствие же Небесное «есть мир и радость действием Святого Духа» (Рим. 14, 17). Подлинный театральный праздник в силах воссоединить людей там, где господствует разделение, позволяет «хотя бы и смутно» увидеть «утраченный эдем» там, где «скрылся из глаз самый рай». Ведь «через кукольный театр мы <…> вновь вступаем в общение друг с другом в самом заветном, что храним обычно, каждый про себя, как тайну — не только от других, но и от себя самого». И все же Флоренский пишет о празднике в 1925 году[8]. Из письма о кукольном театре сквозит тоска по празднику Воскресения. Но на месте вселенского церковного праздника, торжественно возвещающего о Царствии Небесном, — здесь кукольный театр за забором. Рай скрылся из глаз и спрятался… в райке. [1] Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями / Сост., вступ. ст. и коммент. В. А. Воропаева. М: Сов. Россия, 1990. С. 262–271. [2] Федоров Н. Ф. Философия общего дела. Статьи, мысли и письма: В 2 т. Т. 2 / Ред. В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона. М., 1913 (Репринт: L’Age d’Homme, 1985). [3] См. ст. III «Еврейская Суббота и христианское Воскресение» и ст. XXIV «К вопросу о праздновании дня Пресв. Троицы» («Всякий праздник имеет и должен иметь воспитательное значение»). [4] Розанов В. В. О нарядности и нарядных днях календаря // Розанов В. В. Собрание сочинений. Около церковных стен / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1995. С. 382–395. [5] Расширение феноменологического описания праздника, элементами которого изобилует статья Розанова, способно не только обнаружить значение нарядности как существенной части праздничности, но и в самой нарядности вычленить цвет как ее смыслообразующий элемент. В качестве наиболее наглядного примера можно привести народную одежду, которая четко различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная). Причем знаком отличия чаще всего служил не покрой и вид одежды (форма), а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных нитей и т. д. [6] Позволим себе продолжить розановское феноменологическое описание за самого Розанова. Береза выделяется среди всех деревьев в лесу именно своей праздничностью, которая, так сказать, не нуждается в заимствованиях «извне». О праздничной яркости и — повторяя вслед за Розановым — нарядности этого дерева средней полосы говорит и этимология слова береза, родственного нем. Birke, нидерланд. berk и англ. birch. Все эти слова восходят к общему индоевропейскому корню со значением «светиться, блестеть, сиять» (ср. гот. baihrts «светлый», англ. bright «яркий», швед. bjКrt «яркий, пронзительный»). [7] Флоренский Павел о. Предисловие к книге Н. Я. Симонович-Ефимовой «Записки петрушечника» (ГИЗ, 1925) // Флоренский П. А. Сочинения: В 4 т. Т. 2 / Сост. и общ. ред. игумена Андроника (А. С. Трубачева), П. В. Флоренского, М. С. Трубачева. М.: Мысль, 1996. С. 532–536. [8] Статья задумывалась как предисловие к книге Симонович-Ефимовой, но не была напечатана. |