Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 1, 2003
|
Ю. Хабермас. Будущее человеческой природы / Пер. с нем. М.: Издательство «Весь Мир», 2002. 144 с. | 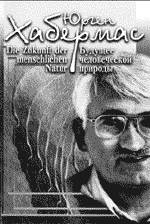 |
| В начале 2003 года информационные агентства заполонили известия о появлении на свет клонированных детей. В январе о двух родившихся крошках-клонах успела заявить компания «Клонейд», связанная с сектой «раэлитов»[1] Несмотря на скептицизм, высказываемый учеными по поводу достоверности этого и других подобных сообщений, уважаемые международные организации, включая ЮНЕСКО, стали наперебой высказываться о безнравственности и недопустимости клонирования людей. Такое развитие событий подчеркивает необходимость выработки внятной позиции по отношению к клонированию, занять которую — в силу новизны самой проблемы — сложно как для религиозного, так и светского сознания. Посмотрим, не поможет ли нам в этом недавно вышедшая на русском языке работа Юргена Хабермаса (одного из наиболее значительных современных философов и социальных мыслителей), посвященная теме границ применения новых генных технологий[2]. Хабермас исходит из ряда базовых предпосылок, задающих рамки его рассуждений о границах искусственного вмешательства в механизм возникновения новых человеческих существ. Эту проблему он рассматривает применительно к современному либеральному, мировоззренчески-нейтральному конституционному правовому порядку, в котором секуляризованное, профанное государство обеспечивает справедливое взаимодействие индивидов и общностей, имеющих различное представление о морали и этически-правильном образе жизни. Таким образом, это общество мировоззренчески-плюралистическое: «Оно гарантирует каждому равную свободу развивать этическое самопонимание для того, чтобы в соответствии с собственными возможностями и благими намерениями осуществить в действительности персональную концепцию “благой жизни”» (с. 12). Условием возможности существования такого либерального общества является консенсус, достигаемый путем рационального самоограничения отдельных мировоззренческих и религиозных систем. Применительно, например, к религиозным сообществам это означает, что они способны «исходя из собственных воззрений (здесь и далее в цитатах курсив автора. — В.К.) добиться запрета на принудительное внедрение истин своей веры, воинственное насилие над совестью своих приверженцев иманипуляцию с целью доведения до самоубийства» (с. 120). В то же время Хабермас исходит не только из пострелигиозной и постметафизической позиции (т.е. позиции, отказывающейся отстремленияопределитьэтическиенормы правильной жизни на основании целостного представления о человеке, обществе и природе), но и дистанцируется оттого способа постановки этических вопросов, который — главным образом под влиянием американца Джона Ролза— фокусируется исключительно на формальных проблемах социально-общезначимой справедливости. Сам же немецкий мыслитель полагает, что в контекст нормативных практических дискуссий может быть возвращена не только «мы-», но и «я»-перспектива, поскольку «моральные воззрения эффективно ограничивают волю лишь в том случае, если они укоренены в этическом самопонимании, сопрягающем заботу о собственном благоденствии с заинтересованностью в справедливости» (с. 14). Именно эта «я»-перспектива является базовой для аргументации Хабермаса, считающего, что исходя из нее могут получить обоснование также формальные теории справедливости, которые сами по себе не задаются вопросом о том, почему мы вообще должны быть моральными и нравственными существами. Кроме того, эта позиция позволяет понять проблему генных технологий как фундаментальный вопрос, затрагивающий этику человеческого вида как такового. В качестве основного оппонента для Хабермаса выступают сторонники либеральной евгеники[3]. Последние полагают, что возможности, которые могут быть предоставлены генными технологиями, расширяют игровое пространство свободы человека, получающего таким образом возможность самостоятельно определять не только свою «идеальную» составляющую как индивидуального и социального существа, но и свою естественно-природную составляющую, продолжая тем самым свое победное шествие покорителя природы. В таком ракурсе вмешательство на генетическом уровне может рассматриваться как аналогичное тем решениям, которые родители вправе принимать в отношении характера социализации своих детей. Указывая на специфический американский подход к этой проблеме, определяемый классической либеральной традицией, восходящей к Локку, Хабермас уточняет эту установку следующим образом: «Исходя из либеральной точки зрения, представляется само собой разумеющимся, что решения относительно строения генофонда детей не могут подвергаться никакому государственному регулированию, но отдаются целиком на усмотрение родителей. Для подобной позиции характерно рассматривать открытое генными технологиями игровое пространство решений как материальное продолжение свободы воспроизводства и права родителей, то есть как продолжение основных прав индивида, которые тот может сделать значимыми в своем противостоянии государству» (с. 90). С точки зрения либеральной евгеники, вопрос о применимости генных технологий решается, скорее, обычным либерально-рыночным путем, когда родители имеют возможность прийти в«генетический супермаркет», выбрать (или не выбрать) соответствующий пакет генных изменений для будущих детей, что, в свою очередь, лишь иным образом актуализирует старые вопросы дистрибутивной справедливости. Таким образом, перед Хабермасом стоит трудная задача: с одной стороны, он не может опираться ни на метафизически, ни на религиозно фундированные этические аргументы, которые всякий раз будут релевантны лишь по отношению к какой-то одной социальной группе, а не ко всему плюралистически-мировоззренческому обществу в целом, тогда как, с другой стороны, он занимает критическую позицию по отношению к либерально-ориентированной евгенике, опирающейся на господствующий в современных обществах рыночный тип урегулирования систем индивидуального выбора и стремящейся избежать нормативной этической позиции путем перевода социальных отношений в систему функционалистских понятий. Реконструкция аргументативной стратегии Хабермаса позволяет, однако, выделить следующий ход рассуждений. За отправную точку берется, как отмечалось выше, факт существования в плюралистическом обществе конституционного государства (с. 33). Само это общество рассматривается как результат длительного процесса секуляризации и модернизации. Оно предполагает эгалитарный тип взаимодействия между моральными субъектами, договаривающимися — несмотря на различие представлений о«благой жизни» — о справедливом и нормативно регулируемом совместном существовании (с.44–45). В определенной степени Хабермас следует далее неокантианской логике «трансцендентального обоснования». Само существование этого общества основывается на определенных предпосылках, нарушение которых может изменить условия морального суждения и поведения. Набор универсальных условий, лежащих в основании коммуникативного взаимодействия в социуме такого рода, Хабермас и называет этикой вида, т. е. этикой, находящейся по ту сторону множеств форм культурной жизни и позволяющей всем участникам социальных интеракций идентифицировать себя в качестве членов этого общества и, вообще говоря, людей (с. 52). Она включает в себя понимание партнера по коммуникации как автономное, свободноеиндивидуальное «Ты»[4], которое находится с равным ему «Я» во взаимно-симметричных отношениях воздействия и взаимного признания. Тем самым образуется социальная, коммуникативно-языковая связь, которая непереводима ни на натуралистический язык «расколдованного» наукой мира, которая объясняет этот процесс как естественный (с. 123) — где нет места второму лицу, «да» и «нет», — ни на язык рыночного взаимодействия, разложимого «на понятия договора, рационального выбора и максимизации полезности»[5] (с. 126). В свою очередь, формирование автономной свободной личности, которая может подчинять себя нормам, нести ответственность за свои поступки и выступать в качестве равноправного партнера в социальных взаимодействиях, предполагает постметафизически[6] понимаемую «возможность быть самим собой». Этаформула, которую Хабермас возводит к Кьеркегору (см. с. 15 и далее), означает, что человек имеет возможность взять на себя нравственное руководство своей жизнью, «собраться и освободить себя от зависимостей, навязываемых средой, подавляющей индивида. Человек должен решиться осознать свою индивидуальность и свою свободу. Вместе с эмансипацией из состояния овеществления, из-за которого человек испытывает чувство вины, он обретает дистанцию в отношении к самому себе». Человек у Кьеркегора выступает, правда, не безраздельным творцом своей жизни (как в экзистенциализме Сартра), но, скорее, как «редактор самого себя», который может трезво взглянуть на предосудительные аспекты своей жизни и«следовать такому типу поведения, в рамках которого он может, не испытывая стыда, вновь познать себя». В качестве дополнительного опорного аргумента Хабермас указывает на то, что «для возможности быть самим собой также необходимо, чтобы личность чувствовала себя в своем теле как дома». Вся совокупность смысловых различий (центр и периферия, свое и чужое и т. д.), которая связана с нашим телесным существованием, требует, однако, идентификации личности со своим телом (с. 71). Изложенный ряд подготовительных аргументов уже позволяет предугадать те основания, по которым Хабермас осуществляет критику генно-инженерного вмешательства в естественный процесс порождения человеческих организмов. Предпосылки этики человеческого вида сохраняются до тех пор, пока совокупность человеческих существ, участвующих в системе межличностных коммуникаций, имела одно происхождение, независимое в своей природно-генетической основе от чужого произвола. Сколь бы жестким ни был процесс социализации индивида, для него всегда (надо, пожалуй добавить — всегда в обществе современного, описываемого Хабермасом типа) существует возможность «стать самим собой», заняв свободную позицию по отношению к своему прошлому, своему определенному родителями воспитанию, манифестировав себя тем самым как автономную личность. Однако личность, будучи также и телесным существом, не может ревизовать таким же образом и свое природно-биологическое прошлое, подвергнувшееся генетическому вмешательству. В отличие от гипотетически мыслимой генной терапии, когда, принимая эмбрион в качестве потенциального собеседника, может быть осуществлена коррекция биологического строения будущего человека с целью избавления его от страданий, целенаправленная, позитивно-селективная манипуляция природой человека устанавливает необратимо-асимметричное отношение между участниками этически-видовым образом структурированной системы коммуникации. Для пояснения этой мысли Хабермас привлекает введенное Ханой Арендт понятие «натальность», означающее, что рождение любого нового человеческого существа полагает в мире возможность некоторого абсолютно нового начала: «Только ссылка на это различие между природой и культурой, между никому не подвластным началом и пластичностью исторических практик позволят действующей личности осуществлять перформативные самоприписывания, без которых она не могла бы понимать саму себя как инициатора своих действий и притязаний. Потому что бытие личности самой собой требует наличия некоторого исходного пункта, находящегося по ту сторону традиций и интеракционных взаимосвязей образовательного процесса, в котором личная идентичность прежде всего и формируется жизненно-исторически» (с. 72–73). В отсутствие этого безусловного начала ставятся под сомнение «две сущностные этико-видовые предпосылки нашего морального существования»: понимание самих себя как личностей, воспринимающих себя как творцов своей жизни, и отношение ко всем другим людям без исключения как к равным по рождению (с. 87). С другой стороны, человек, принимающий решение о генно-инженерном вмешательстве, неизбежно соотносится с телесно-воплощенным будущим индивидом как со средством, подчиняя его определенному жизненному плану как цели. И этот план он принципиально не может согласовать с будущим индивидом как со вторым лицом, способным сказать ему «да» или «нет»: «Улучшающие евгенические вмешательства ущемляют этическую свободу постольку, поскольку они фиксируют затрагиваемую личность на намерениях третьего лица, мешая ей тем самым непредвзято воспринимать себя как единственного автора собственной жизни» (с. 76). В этой связи у Хабермаса возникают опасения, что такого рода инструментализированные индивиды «смогут… привлекаться к ответственности за совершаемые поступки» (с. 81). Дело даже может обернуться предъявлением детьми родителям тотальных исков: «Распространение принуждения на генетические структуры будущей личности означает, что любая личность, независимо от того, является ли она генетически запрограммированной или нет, может отныне рассматривать строение своего генома как следствие некоего с ее точки зрения предосудительного действия либо бездействия» (с. 97). Итак, можно видеть, что в своей основе аргументация Хабермаса против практики «либеральной евгеники» по своей структуре воспроизводит основные установления этики Канта, сохраняя две главные особенности категорического императива: универсальность нравственного закона и рассмотрение другого человека только как цели, но никогда — как средства. В то же время в позиции Хабермаса обнаруживается также и преемственность с определенными элементами христианской теологии. Речь идет о проблеме теодицеи, т.е.об «оправдании Бога», которое необходимо ввиду очевидного несоответствия представления о всемогущем и всеблагом существе наблюдаемому состоянию мира, а также ввиду довольно досадного вывода, который вытекает из наблюдения над некоторыми человеческими существами и следующего отсюда заключения к тому творцу, по образу и подобию которого они созданы. Наиболее весомым аргументом теодицеи (отвлекаясь от разного рода версий фатального предопределения) является указание на то, что хотя Бог и является творцом человека, однако наделил его свободой, позволяющей автономно принимать решения относительно выбора своего жизненного пути. Очевидно, представление о таком акте выходит за пределы нашего понимания, в котором — как указывал тот же Кант — понятие о свободе никак не может быть совмещено с понятием отворении, всегда вынужденно мыслимом нами каузально. В силу этой свободы человек неизбежно несет ответственность перед Божьим судом, поскольку его намерения и деяния всегда могут быть вменены ему как свободно поступавшему существу. В этом смысле «естественное» рождение человека не мешает — в том числе и Хабермасу — рассматривать человека как принципиально свободную личность. Ситуация, однако, радикально меняется, если в качестве такого «творца» выступает сам человек, который, не обладая непостижимой технологией Бога, способен порождать лишь каузально-детерминирующую взаимосвязь, блокирующую возможность свободного выбора и, соответственно, возможность полностью отвечать за свои поступки. Для постигшего старинный аргумент теодицеи мыслителя (к каковым относится, например, постоянно размышлявший по этому поводу Достоевский) неприемлемым будет, в частности, вариант потенциально необратимой позитивной оптимизации индивидуального и социального существования. Если человек лишен возможности выбора зла, то его выбор добра полностью девальвируется. Таким образом, нас не может удивить приводимый в качестве довода пассаж, без отсылки к источнику приводимый Хабермасом: «Жизнь в моральном вакууме той формы жизни, которая бы не ведала, что такое моральный цинизм, была бы лишена какой-либо жизненной ценности» (с. 108). Для того чтобы окончательно закрепить эти предположения о преемственности между религиозной этикой христианской теодицеи и пострелигиозной и постметафизической позицией Хабермаса, следует ознакомиться также с включенным в книгу докладом «Вера и знание»[7]. В основном доклад посвящен опровержению тезиса о секуляризации как взаимоотрицающей борьбе модернового, «просвещенного» здравого смысла и религиозного мышления. Напротив, общество победившего модерна («постсекулярное» общество, с. 120), согласно Хабермасу, равноудалено от «крепких» религиозных традиций и прочих мировоззренческих систем[8], при условии, что они соблюдают некоторые рациональные правила плюралистического мировоззренческого общежития, считаются с основами профанной морали конституционного государства и не конфликтуют с научной монополией на мирское знание. (Следует отметить, что современное российское общество претерпевает, скорее, регрессивный процесс десекуляризации и возврата в домодерновое состояние, поскольку единственным носителем нормативных этических и моральных ценностей — на самых ответственных уровнях — считаются именно традиционные конфессиональные нормативные системы.) Не поступаясь своей самостоятельностью, постсекуляризованный разум обязан отдавать себе отчет в своей собственной перспективной ограниченности, помня об открытой «незавершенной диалектике» западного процесса секуляризации. Понимая этический пафос мировых религий, секуляризованный разум стремится сформулировать общезначимую замену прежним ценностным различиям, которые он все еще не способен перевести на свой профанный язык; таково, например, различие между просто «морально неправильным» и «глубинным злом» (с. 126). В завершение позволим себе привести высказывание Хабермаса, обнаруживающее предположенный нами выше момент единства его пострелигиозного и постметафизического дискурса и определенного религиозного взгляда на мир: «И если постгуманизм должен получить свое завершение в обращении к архаическим началам до Христа и до Сократа, то тогда пробьет час религиозного китча. Торгующие искусством супермаркеты распахнут свои двери для алтарей всего мира, для жрецов и шаманов, слетевшихся со всех концов света, словно на некий вернисаж. В противоположность этому профанный, но не дефаитический разум испытывает большое уважение к тому угольку, который воспламеняется всякий раз, как поднимается вопрос о теодицее, как бы приближая нас к религии. Он знает, что профанирование сакрального начинается с мировых религий, лишивших магию ее колдовской силы, преодолевших миф, возвысивших жертву и раскрывших магию. И поэтому он может соблюдать по отношению к этим религиям дистанцию, не замыкаясь рамками их перспектив» (с. 129). [1] Компания организована в 1997 году неким Раэлем — таково «жреческое» имя французского спортивного журналиста, автогонщика и рок-музыканта Клода Ворийона. Он же является и главой секты «раэлитов», образованной в начале 70-х годов. Адепты этого учения (сообщается, что их около 50 тысяч) уверены, что жизнь на Земле появилась благодаря инопланетянам, прилетевшим на нашу планету 25 тысяч лет назад, а человечество — продукт клонирования пришельцев. В истории с появлением клонов при участии «Клонейд» (все указанные сведения, в том числе о рождении клонов, следует воспринимать, разумеется, cum grano salis) примечательна гремучая смесь архаичной религиозности и новейшей технологии. При этом в каком-то смысле «раэлитам» трудно отказать в последовательности: коль скоро эти люди сами себя рассматривают как продукт технологии, давшей им существование (т. е. считают самих себя и других клонами), то переоткрытие этой технологии есть лишь возвращение к собственным экзистенциальным истокам, восстановление подлинной техногенной процедуры воспроизводства, поврежденной «естественно-природной» технологией. [2] В работе так или иначе затрагивается весь комплекс тем, связанных с «неестественными» манипуляциями формирующимися человеческими организмами (искусственное прерывание беременности, преимплантационная диагностика, «негативная евгеника» как практика «отбраковки» зародышей и т. д.). Однако в центре внимания автора находится главным образом «улучшающая евгеника». В отличие от генных технологий, которые (при достижении определенного гипотетического уровня развития) могут быть направлены, например, на избавление от тяжелых наследственных заболеваний путем вмешательства в генетический код организма на ранних стадиях развития (терапевтическая евгеника), в случае улучшающей евгеники речь идет о манипуляциях, направленных на позитивную селекцию определенных качеств данного организма. Клонирование, на наш взгляд, можно определить как частный случай улучшающей евгеники, когда за масштаб евгенического вмешательства берется существующий образец, считающийся «лучшим» по каким-то определенным основаниям. [3] См. изложение этой позиции на с. 61 рецензируемой книги и далее, а также в «Постскриптуме». «Либеральная евгеника» противопоставляется «авторитарной евгенике», которая «стремилась производить граждан по единому централизованно спроектированному шаблону» (Н. Агар, цит. на с. 61). Трудно, впрочем, не заметить за этой полемикой Хабермаса с «либеральное евгеникой» тени стародавней дискуссии немецкой «культуры» с британской «цивилизацией»: «Взрывная смесь дарвинизма и фритредерской идеологии, широко распространявшаяся на рубеже XIX и XX веков под вывеской Pax Britannica, кажется, обновляется теперь под знаком сделавшегося глобальным неолиберализма. Конечно, речь больше не идет о базирующихся на биологических идеях социал-дарвинистских обобщениях, но всего лишь о медицински и экономически обоснованном ослаблении “социально-моральных” пут, наложенных на прогресс биотехнологий» (с. 33). [4] Экспликация языковой коммуникативной структуры «я — ты — мы» взаимодействия составляет важную часть творчества Хабермаса и играет значительную роль в его аргументации в данной работе. В частности, именно включение еще не родившегося человека в систему этого взаимодействия как потенциального партнера определяет позитивную оценку Хабермасом возможности терапевтической евгеники (см. с. 64–65). [5] В русском переводе здесь, впрочем, ошибка: «Nutzenmaximierung» передано бессмысленным «максимизация потребностей». [6] Это означает, что данная возможность не дарована нам, например, свыше вместе с индивидуальной душой, или, как еще у Канта, не гарантирована ноуменальной потусторонностью «царства целей» (ср. с. 50). [7] Название отсылает к энциклике Иоанна Павла II «Fides et Ratio» (1998). Этот документ полностью посвящен отношениям католического вероучения и философии (чего не бывало со времен энциклики 1879 года «Aeterni Patris», положившей начало неотомизму). Кстати, упоминанием ряда русских религиозных философов энциклика «Вера и разум» возбудила в католическом мире нешуточный интерес к отечественной мысли. [8] «В противоположность религии, демократически просвещенный здравый смысл опирается на основания, которые приемлемы не только для членов религиозного сообщества. Поэтому со стороны верующих либеральное государство также вызывает подозрение в том, что западная секуляризация — это дорога с односторонним движением, оставляющая религию на обочине». Цитату стоило привести уже для того, чтобы ее исправить (в переводе на с. 124–125 оба предложения переданы с точностью до наоборот). Так что пытливому читателю не обойтись без оригинала (правда, не вполне совпадающего с расширенным для данной публикации текстом), который, по счастью, доступен по адресу [http://www.glasnost.de/docs01/011014habermas.html]. |