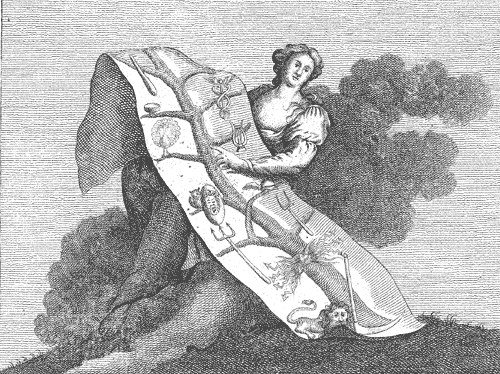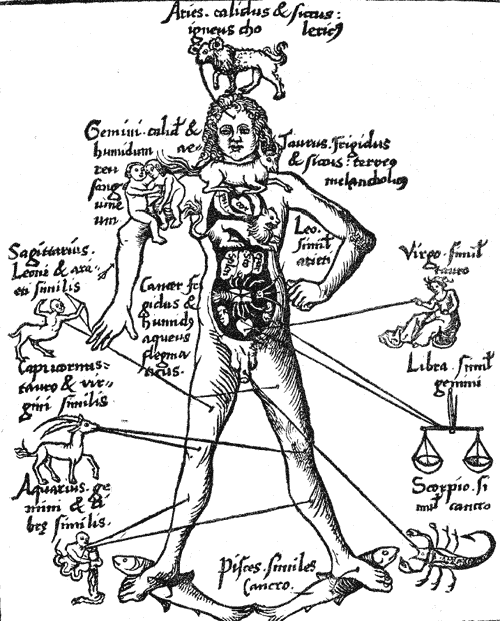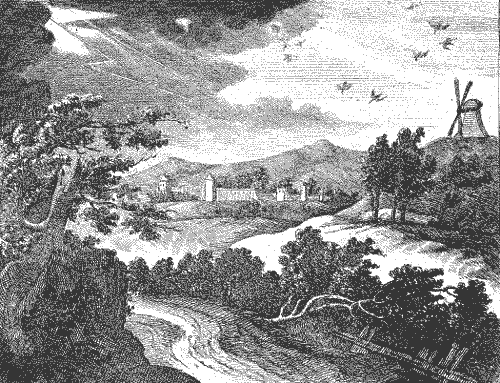*
Возьмите хоть эктогенез.
Ведь всю технологию внетелесного размножения
придумали уже Пфицнер и Кавагучи.
Но разве правительства этим заинтересовались?
Как бы не так. Была тогда такая штука,
христианство. Женщин принуждали оставаться живородящими.
Олдос Хаксли. Прекрасный новый мир
…Следует поставить вопрос: почему мы должны беспокоиться из-за биотехнологии? Некоторые ее критики — такие как активист-эколог Джереми Рифкин[1] и многие европейские защитники окружающей среды — отметают любые новации в биотехнологии практически с порога. Однако столь категорическое неприятие трудно обосновать, так как биотехнология человека обещает принести вполне реальный выигрыш для медицины, а сельскохозяйственная биотехнология — повысить производительность и сократить применение пестицидов. Какие бы опасения относительно будущего биотехнологии мы ни питали, мы обязаны признать ее бесспорную перспективность, поэтому биотехнология ставит нас перед конкретной моральной дилеммой.
Над всей генетикой до сих пор тяготеет призрак евгеники — т. е. сознательного изменения человеческой породы ради приобретения определенных наследуемых свойств.
<…>
Против ранней евгенической политики выдвигались два существенных возражения, которые, скорее всего, окажутся неприменимы к любой евгенике будущего— по крайней мере, на Западе[2]. Первое заключалось в том, что уровень современной технологии не позволяет евгеническим программам достичь поставленных целей. Многие патологии и отклонения, которые евгенисты хотели устранить с помощью принудительной стерилизации, были следствием рецессивных генов — т. е. таких, которые проявляются лишь тогда, когда унаследованы от обоих родителей. Пришлось бы каким-то образом выявлять и стерилизовать и многих внешне нормальных людей, которые иначе оставались бы носителями таких генов и распространяли бы соответствующие свойства в генетическом фонде. Многие другие «патологии» либо вообще не были патологиями (например, некоторые формы низкого интеллектуального развития), либо были следствием негенетических факторов, которые следует устранять, улучшая систему здравоохранения. Например, большое число детей с низким IQ в некоторых китайских деревнях — следствие не дурной наследственности, а недостатка йода в детском рационе[3].
Второе возражение против исторических форм евгеники было основано на том, что эта политика проводилась, во-первых, государством и, во-вторых, в принудительном порядке. Нацисты, разумеется, довели эти черты до ужасающих крайностей, убивая «нежелательные» категории или проводя на них эксперименты. Но даже в США суды имели право постановлять, что данное лицо является умственно отсталым или слабоумным (причем сами эти понятия, подобно многим ментальным состояниям, определялись весьма расплывчато), и выносить решение о его или ее принудительной стерилизации. Поскольку тогда многие виды поведения — например, алкоголизм или преступность — считались наследственными, государство получало потенциальную власть над репродуктивным выбором значительной части населения. Для таких исследователей, как научно-популярный писатель Мэтт Ридли, государственное руководство — это основной недостаток евгенических законов прошлого; по его мнению, евгеника, которой бы свободно занимались отдельные индивиды, была бы лишена этого изъяна[4].
<…> Теперь оба указанных возражения, скорее всего, окажутся неприменимы… Первое возражение (что евгеника технически неосуществима) применимо лишь к технологиям начала XX века — таким как принудительная стерилизация. Прогресс генной диагностики уже сейчас позволяет врачам выявлять носителей рецессивных генов до того, как они решат завести ребенка, а в будущем позволит выявлять эмбрионы, унаследовавшие два рецессивных гена с высоким риском патологий. Информация такого рода уже сейчас доступна индивидам, например, принадлежащим к группе евреев ашкенази, которые с высокой вероятностью могут оказаться носителями рецессивного гена Тэй-Закса (Tay-Sachs gene); два таких носителя могут решить не вступать в брак или не заводить детей. В будущем, благодаря технологии зародышевых клеток, станет возможно устранять такие рецессивные гены у всех потомков данного носителя. Если процедура станет дешевой и достаточно простой, можно будет думать о широкомасштабном устранении конкретных генов у целых человеческих популяций.
Едва ли сохранит свое прежнее значение в будущем и второе возражение против евгеники (ее государственный характер), поскольку маловероятно, чтобы какое-то современное общество захотело снова ввязаться в евгенические игры. Фактически все западные страны после Второй мировой войны резко переориентировались в сторону более строгой защиты прав индивида, а право на автономию в репродуктивных решениях занимает среди этих прав важное место. Идея, будто государство имеет законное право заботиться о таких коллективных благах, как национальный генофонд, уже никем не принимается всерьез и ассоциируется скорее с устаревшими взглядами расистского и элитистского толка.
Таким образом, более мягкая евгеника, которая как раз сейчас превращается в реальную перспективу, будет предметом индивидуального выбора со стороны родителей, а не принудительной мерой, которую государство навязывает своим гражданам. Говоря словами одного обозревателя, «прежняя евгеника предполагала постоянный отбор приспособленных и выбраковку неприспособленных. Новая евгеника в принципе способна перевести всех неприспособленных на более высокий генетический уровень»[5].
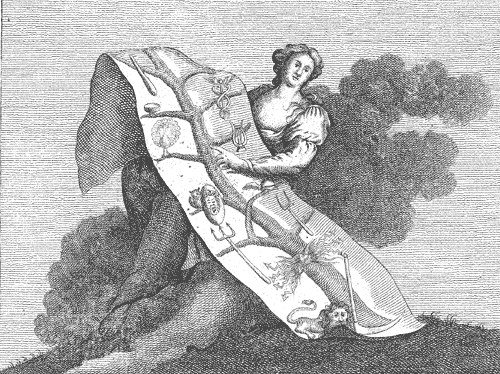
Мифология
Весьма удивительно, что ни у единого древнего народа, выключая Иудеев
и Христиан, не находится важного онаго учения о едином истинном
Боге, и все они прилепились наипаче к вымышленным божествам,
которых по большой части почитали под образом человеческим.
Большая часть древнейших народов воздавали божескую честь не токмо
солнцу, луне и звездам, но так же людям и зверям, и другим бездушным
тварям. Знание сих вымышленных божеств, их истории, таинственных
обрядов, и воздаваемого им богопочитания, называется Мифологиею.
Родители уже принимают подобные решения, когда с помощью пренатальной диагностики узнают, что их ребенок с большой вероятностью родится с синдромом Дауна, и решают сделать аборт. В ближайшем будущем новая евгеника, скорее всего, приведет к росту числа абортов и отбракованных эмбрионов, так что против этой технологии будут резко возражать противники абортов. Зато она не будет связана ни с принуждением совершеннолетних граждан, ни с ограничениями их репродуктивных прав. Напротив, диапазон их репродуктивного выбора резко расширится, поскольку они перестанут беспокоиться из-за бесплодия, врожденных патологий и ряда других проблем. Более того, можно предположить, что со временем репродуктивные технологии станут настолько безопасными и эффективными, что можно будет обойтись без отбраковки эмбрионов или нанесения им вреда.
Лично я предложил бы отказаться от запятнавшего себя термина «евгеника» по отношению к генным технологиям будущего и пользоваться выражением «breeding» («селекция»), аналогом немецкого Zuechtung — так сначала на немецкий язык переводили дарвиновский термин «selection» («отбор»). В будущем мы, вероятно, сможем выращивать людей, как сейчас выращиваем животных — только намного более научными и эффективными способами, — отбирая гены, которые мы хотели бы передать нашим потомкам. Слово «breeding» лишено ассоциаций с государственным вмешательством, но уместным образом напоминает о риске дегуманизации, заложенном в генной инженерии.
Соответственно, противники генной инженерии человека не должны отвлекаться на ветряные мельницы государственного вмешательства. <…> Конечно, евгеника прежнего образца остается проблемой в авторитарных государствах вроде Китая и может стать внешнеполитической проблемой для западных стран, имеющих с Китаем дело[6]. Но противникам выращивания новых человеческих особей придется сосредоточиться на другом вопросе — на вреде, который могут причинить свободные решения индивидов по поводу генного набора их собственных детей.
Имеется три главных категории возможных возражений, основанные: 1) на религиозных верованиях, 2) на утилитарных соображениях и 3) за неимением лучшего термина — на философских принципах. В данной главе будут рассмотрены первые две категории возражений, а вторая часть книги будет посвящена философским вопросам.
Религиозные аргументы
Религия дает самые ясные основания для возражения против генной инженерии человека, поэтому неудивительно, что оппозицию новым репродуктивным технологиям по большей части составляют люди религиозных убеждений.
Согласно общей для евреев, христиан и мусульман традиции, человек создан по образу и подобию Божию. Для христиан, в частности, отсюда вытекают важные следствия о достоинстве человека. Между человеком и другими созданиями пролегает четкая граница; лишь люди обладают способностью к моральному выбору, свободной воле и вере — способностью, дающей им более высокий моральный статус, чем остальным живым существам. Чтобы сделать человека именно таким, Бог пользуется природой как своим орудием, и потому нарушение природных норм — таких как обязательность совокупления и семейной жизни для появления детей — это одновременно и нарушение воли Бога. Христианское учение решительно утверждает, что все люди обладают равным достоинством независимо от их внешнего социального статуса и потому имеют равное право на уважение (хотя исторические христианские институты не всегда руководствовались этим принципом).
При таких предпосылках неудивительно, что католическая церковь и консервативные протестантские группы решительно выступили против целого ряда биомедицинских технологий, включая регулирование рождаемости, искусственное оплодотворение, аборты, исследования стволовых клеток, клонирование и развивающиеся формы генной инженерии. С данной точки зрения, эти репродуктивные технологии, пусть даже свободно выбранные родителями из любви к детям, дурны, поскольку при создании человеческой жизни (или, в случае аборта, при ее разрушении) они ставят человека на место Бога. Из-за них зачатие и рождение становятся возможны вне рамок естественных процессов — совокупления и семейной жизни. Более того, с точки зрения генной инженерии создание человека — это не чудесный акт божественного творения, а результат цепочки материальных причин, которые люди могут понять и которыми могут управлять. Все это означает неуважение к достоинству человека, а следовательно — нарушение воли Бога.
Поскольку группы консервативных христиан составляют самое заметное и страстное лобби, выступающее против многих репродуктивных технологий, нередко высказывается мнение, будто религиозная позиция — единственная, с которой можно выступать против биотехнологий, и будто центральным вопросом является проблема абортов. Хотя некоторые ученые — например, Фрэнсис Коллинз, выдающийся молекулярный биолог, с 1993 года возглавляющий проект «Геном человека», — практикующие христиане, большинство ученых не религиозны, и среди этого большинства широко распространен взгляд, будто религиозные убеждения равнозначны иррациональным предрассудкам, стоящим на пути научного прогресса. Одни считают, что религиозная вера и научные поиски несовместимы, а другие надеются, что рост образованности и научной грамотности приведет в конечном счете к вымиранию религиозной оппозиции биомедицинским исследованиям.
Последняя точка зрения представляется несостоятельной по нескольким причинам. Во-первых, многие причины скептического отношения как к практическим, так и к этическим выгодам биотехнологии совершенно не связаны с религией, как я рассчитываю показать во второй части книги. Религия предоставляет лишь самый очевидный мотив для возражений против некоторых новых технологий.
Во-вторых, моральные истины религии нередко совпадают с убеждениями неверующих, которые не понимают, что их собственные, нерелигиозные, взгляды на проблемы этики — вопрос веры в той же степени, что и взгляды верующих. Многие трезвые естественники, например, исповедуют рационально-материалистическое мировоззрение, однако в своих политических и этических убеждениях твердо отстаивают вариант либерального равенства, который не так уж отличается от христианского представления об универсальном человеческом достоинстве. Как будет показано ниже, далеко не очевидно, что равное уважение ко всем людям, какого требует либеральный эгалитаризм, логически вытекает из научного мировоззрения и является скорее объектом веры.
В-третьих, мнение, будто благодаря прогрессу образования и модернизации вообще религия неизбежно уступит место научному рационализму, само по себе чрезвычайно наивно и оторвано от эмпирической реальности. Несколько поколений назад многие социологи полагали, что модернизация непременно предполагает секуляризацию. Но эта схема подтвердилась только в Западной Европе; ни в Северной Америке, ни в Азии рост образованности и научной грамотности не приводил к упадку религиозности. В одних случаях веру в традиционную религию заменила вера в секулярные идеологии — такие как «научный» социализм, — не более рациональные, чем религия; в других — произошло мощное возрождение самой традиционной религии. Способность современных обществ «освобождаться» от представлений, основанных на авторитете, о том, что они такое и куда идут, не так очевидна, как полагают многие ученые. Неочевидно также, что, избавившись от подобных представлений, данные общества обязательно выиграют. Поскольку в современных демократиях люди с прочными религиозными убеждениями не исчезнут с политической сцены в обозримом будущем, неверующим следует подчиниться требованиям демократического плюрализма и выказывать большую терпимость к религиозным убеждениям.
С другой стороны, многие религиозные консерваторы вредят собственному делу, позволяя проблеме абортов заслонять все остальные аспекты биомедицинских исследований.
<…>
Хотя религия предоставляет самые ясные основания для несогласия с определенными типами биотехнологии, религиозные аргументы окажутся неубедительны для многих, кто не разделяет исходных религиозных предпосылок. Поэтому нам следует рассмотреть иные, светские типы аргументации.
Утилитарные опасения
Под «утилитарными» я имею в виду в первую очередь экономические соображения— т. е. опасения, что прогресс в биотехнологии может привести к непредвиденным издержкам или долгосрочным негативным последствиям, которые перевесят предполагаемые выгоды. «Вред» от биотехнологии, как его понимает религия, часто неосязаем (как, например, угроза человеческому достоинству, связанная с генетическими манипуляциями). Напротив, утилитарный вред обычно более доступен пониманию, поскольку он связан либо с экономическими потерями, либо с ясно определимым ущербом физическому здоровью.
Современная экономическая наука дает нам ясную схему для анализа, будет ли некая новая технология хороша или плоха с утилитарной точки зрения. Мы предполагаем, что все индивиды в рыночной экономике преследуют свои интересы рациональным образом, исходя из набора собственных предпочтений, содержание которых экономисты выводят из сферы рассмотрения. Индивиды свободны так поступать постольку, поскольку при реализации своих предпочтений они не препятствует другим индивидам реализовывать свои; правительство существует для того, чтобы примирять индивидуальные интересы с помощью беспристрастных процедур, воплощенных в законе. Далее, мы можем предположить, что родители будут стремиться не причинить умышленный вред своим детям, а максимизировать их счастье. Как написала Вирджиния Пострел, сторонница либертарианских взглядов, «люди хотят, чтобы генетическая технология развивалась, так как надеются использовать ее для себя, помочь самим себе и своим детям работать и сохранить собственную человечность… В динамичной, децентрализованной системе индивидуального выбора и ответственности люди могут не полагаться ни на чей авторитет, кроме своего собственного»[7].
Допустив, что использование новых биотехнологий, в том числе и генной инженерии, будет следствием индивидуального выбора, а не принудительного государственного вмешательства, можем ли мы, тем не менее, считать, что и здесь возможен вред для индивида или для всего общества?
Самый очевидный тип вреда — тот, какой мы хорошо знаем по традиционной медицине: побочные эффекты или долгосрочные негативные последствия для пациента. <…>
Есть основания полагать, что будущая генная терапия — и особенно связанная с воздействием на зародышевые клетки — будет регулярно создавать проблемы значительно более сложные, нежели те, с какими мы сталкиваемся в традиционной фармацевтике. Дело в том, что как только мы переходим от сравнительно простых нарушений, связанных с одиночным геном, к феноменам, зависящим от нескольких генов сразу, генное взаимодействие становится очень сложным и труднопредсказуемым (см. главу 5). Вспомните мышь, которой нейробиолог Джо Цзин генетически повысил уровень интеллекта, — в результате она стала более восприимчива к боли. Многие гены проявляются на разных этапах жизни, и поэтому пройдут годы, прежде чем во всей полноте станут ясны последствия конкретной генетической манипуляции.

Согласно экономической теории, совокупный социальный вред имеет место лишь тогда, когда индивидуальные выборы приводят к так называемым негативным внешним эффектам — т. е. затратам третьей стороны, не участвующей в трансакциях. Например, компания, сбрасывая токсичные отходы в местную реку, сама получает выгоду, но причиняет вред другим членам сообщества. Подобные аргументы выдвигались против генетически модифицированной кукурузы «Bt»[8] — она производит токсин, убивающий вредителя, кукурузного мотылька, но может якобы убивать и бабочек-данаид (это обвинение, видимо, оказалось неосновательным[9]). Проблема в следующем: имеются ли условия, при которых индивидуальные выборы относительно биотехнологии могут повлечь за собой негативные внешние эффекты и тем самым ухудшить положение общества в целом?[10]
Дети, которые становятся объектами генетических модификаций, не давая на то согласия, составляют самый очевидный класс потенциально терпящей ущерб третьей стороны. Современное семейное законодательство предполагает общность интересов между родителями и детьми и потому предоставляет родителям значительную свободу рук в детском воспитании и образовании. Либертарианцы утверждают, что имеется как бы молчаливое согласие со стороны детей, которые выигрывают от более высокого интеллекта, хорошей внешности и прочих желательных генетических характеристик, поскольку подавляющее большинство родителей хочет для своих детей лишь самого наилучшего. Однако можно вообразить множество случаев, когда определенные репродуктивные выборы будут родителям казаться выигрышными, но самим детям причинят вред.
Политическая корректность
Многие характеристики, которыми родитель захотел бы снабдить своего ребенка, связаны с такими чертами личности, выгоды от которых совсем не так очевидны, как от обладания высоким интеллектом или приятной внешностью. Родители могут поддаться влиянию моды, культурных предрассудков или простой политической корректности: в каком-нибудь поколении будут предпочитать очень худых девочек, гибких мальчиков или рыжих детей — но в следующем поколении эти предпочтения уже выйдут из моды. Могут возразить, что родители и так располагают свободой совершать подобные ошибки относительно детей — неверно их воспитывая или прививая им эксцентрические ценности. Но воспитанный таким образом ребенок в будущем сможет и взбунтоваться. А генетическая модификация больше похожа не на воспитание, а на татуировку, которую вы сделали своему ребенку и которую он мало того что не сможет потом удалить, так еще и передаст своим детям и всем последующим потомкам[11].
Как отмечалось в главе 3, мы уже андрогинизируем наших детей, давая им психотропные средства — прозак депрессивным девочкам и риталин гиперактивным мальчикам. А ведь вполне вероятно, что следующее поколение по какой-нибудь причине будет предпочитать сверхмужественных мальчиков и сверхженственных девочек. Но лекарства ребенку вы всегда можете перестать давать, если вам не нравится их действие. Генная же инженерия будет жестко фиксировать социальные предпочтения данного поколения в поколении следующем.
Принимать ошибочные решения относительно интересов своих детей родители могут еще и потому, что полагаются на советы ученых и врачей, у которых свои собственные задачи. Стремление управлять человеческой природой, основанное просто на тщеславии или на идеологических представлениях о том, каким должен быть человек, — вещь слишком распространенная.

История
История есть достоверное повествование и связь достопамятных
происшествий в свете. Она различествует как от простых сказок и слухов,
так и от летописей, басен и выдуманных повестей, и разделяется на шесть
различных родов, кои суть: 1) История политическая, содержащая в себе все
происшедшее в государствах от сотворения мира. 2) История церковная,
повествующая состояние Божией церкви, и о всех в оной случившихся
достопамятных переменах. 3) История ученая, описывающая приращение и
упадок наук. 4) История естественная, изъясняющая достопамятныя явления
природы. 5) История художеств, подающая сведение о художествах и
художниках. 6) История смешанная, описывающая достопамятныя
произшествия в обыкновенной жизни человеческой.
В своей книге «Как он создан природой» журналист Джон Колапинто рассказывает душераздирающую историю мальчика по имени Дэвид Реймер, которому выпало двойное несчастье — в младенчестве при неудачном обрезании ему случайно прижгли пенис, а затем он попал в руки к Джону Мани, известному сексологу из Университета Джона Хопкинса. Мани занимал крайнюю позицию в извечном споре сторонников природы и воспитания, утверждая, что половая идентичность не дана от природы, а конструируется уже после рождения. Дэвид Реймер предоставил Мани возможность проверить свою теорию, поскольку он был одним из пары монозиготных близнецов и, следовательно, его можно было сравнивать с генетически идентичным братом. После неудачного обрезания Мани кастрировал мальчика и воспитывал его как девочку по имени Бренда.
Жизнь Бренды превратилась в кошмар: что бы ни говорили ей родители и Мани, она знала, что она не девочка, а мальчик. С раннего возраста она хотела мочиться не сидя, а стоя. Позже, когда ее записали в отряд девочек-скаутов, Бренда впала в отчаяние. «Я плел гирлянды из цветов и думал — если ничего интереснее у девочек-скаутов нет, то дело плохо, — вспоминает Дэвид. — Я постоянно думал о том, как весело моему брату в отряде мальчиков». Получая кукол вподарок на Рождество и дни рождения, Бренда попросту отказывалась с ними играть. «Что можно сделать с куклой?» — говорит Дэвид теперь, и в его голосе слышна тогдашняя тоска. «Смотришь на нее. Одеваешь. Раздеваешь. Причесываешь. Какая скука! А на машине можно куда-нибудь поехать, во всякие новые места. Мне хотелось машин»[12].
Попытка создать новую половую идентичность привела к таким эмоциональным разрушениям, что Бренда, едва достигнув половой зрелости, немедленно порвала с Мани и сменила пол с помощью операции по восстановлению пениса. Сегодня Дэвид Реймер, насколько известно, счастливо женат.
Теперь мы гораздо лучше знаем, что сексуальная дифференциация начинается задолго до рождения и что мозги мужской особи (и у человека, и у других животных) претерпевают еще в материнском чреве процесс «маскулинизации», получая пренатальный тестостерон. Но примечательнее всего в этой истории следующее: в течение почти пятнадцати лет Мани утверждал в научных статьях, что он успешно привил Бренде половую идентичность девочки, хотя в действительности ситуация была прямо противоположной. Эти исследования принесли Мани широкую известность. Его подтасованные результаты воспевались в книге феминистки Кейт Миллет «Сексуальная политика», в журнале «Тайм», в газете «Нью-Йорк таймс» и попали во множество учебников. В одном учебнике они приводились как доказательство того, что «ребенка легко воспитать представителем противоположного пола» и если и есть у людей какие-то врожденные половые различия, то они «лишены определенности и преодолеваются культурной индоктринацией»[13].
Случай Дэвида Реймера служит предостережением против возможного использования биотехнологии в будущем. Родителями руководили любовь к ребенку и отчаяние из-за случившегося с ним несчастья, и они согласились на ужасное лечение, за что впоследствии заплатили угрызениями совести. Джоном Мани руководили научное тщеславие, честолюбие и стремление доказать истинность своей идеи — в результате он не обращал внимания на опровергавшие ее факты и действовал вопреки интересам своего пациента.
Родители могут сделать выбор, причиняющий вред ребенку, и под действием культурных норм. Один пример уже упоминался — в Азии ультразвук и аборты используют, чтобы выбрать пол будущего ребенка. Во многих азиатских странах наличие сына дает родителям вполне определенные преимущества в отношении и социального престижа, и обеспеченной старости. Но это, очевидно, наносит вред девочкам, которым не дают родиться. Искаженное соотношение полов вредит и мужчинам как социальной группе — им труднее найти себе пару, и их позиции на брачном рынке ухудшаются по сравнению с женщинами. А если холостые мужчины повышают уровень насилия и преступности, то страдает и общество в целом.
Переходя от репродуктивных технологий к другим аспектам биотехнологии, можно указать дополнительные виды негативных внешних эффектов, к которым могут привести рациональные индивидуальные решения. Один из них касается старения и перспектив продления жизни. Перед выбором между смертью и продлением жизни с помощью терапевтического вмешательства большинство индивидов выберут второе, даже если такое вмешательство уменьшит в той или иной степени их удовольствие от жизни. Если большое число людей решит, например, продлить свою жизнь еще на десять лет ценой понижения функциональности, скажем, на 30 процентов, то сопутствующие расходы лягут на общество в целом. В сущности, именно это уже происходит в тех странах, где — как в Японии, Италии, Германии — быстро растет средний возраст населения. Можно вообразить и намного более зловещие сценарии, при которых процент несамостоятельных членов общества возрастет настолько, что значительно снизится средний уровень жизни.
Анализ продления жизни в главе 4 свидетельствует и о возможности иных негативных последствий, помимо чисто экономических. Если выбывание старших групп замедляется, то в проигрыше оказываются младшие группы, которые стараются подняться по лестнице обусловленной возрастом социальной иерархии. В то время как каждый отдельный индивид захочет отложить свою смерть насколько возможно, люди в совокупности, вероятно, не будут получать большого удовольствия от жизни в обществе, где средний возраст составляет 80–90 лет, где совокупление и размножение стали занятиями ничтожного меньшинства и где прерван естественный цикл рождения, взросления, зрелости и смерти. Согласно одному из экстремальных сценариев, неопределенно долгое продление жизни принудит общество жестко ограничить число разрешенных рождений. Забота о пожилых родителях уже сейчас начинает вытеснять заботу о детях в качестве главного занятия ныне живущих людей. А в будущем человечество может столкнуться с необходимостью заботиться сразу о двух, трех и т. д. поколениях предков.
Другой важный вид негативных последствий связан с тем, что многие человеческие занятия и свойства относятся к соревновательному типу, к типу игр с нулевой суммой. Индивиды с ростом выше среднего получают много преимуществ— с точки зрения сексуальной привлекательности, социального статуса, спортивных возможностей и т. п. Но это преимущества относительные: если многие родители захотят, чтобы их дети имели рост игрока НБА, это приведет к«гонке вооружений» и к отсутствию чистого выигрыша для всех участников.
То же верно даже и для таких свойств, как интеллект, повышение которого часто упоминается в качестве одной из первоочередных и самых очевидных целей будущей генетики. Общество с более высоким средним уровнем интеллекта, возможно, будет богаче, поскольку от интеллекта зависит производительность труда. Но преимущества, на которые родители надеются для своих детей, могут оказаться мнимыми в других отношениях, так как преимущества высокого интеллекта не абсолютны, а относительны[14]. Люди хотят, чтобы их ребенок был умнее и, например, смог поступить в Гарвард, но соревнование за места в Гарварде — это игра с нулевой суммой: если мой ребенок стал умнее благодаря генной терапии и поступает в Гарвард, то он просто вытесняет оттуда вашего ребенка. Мое решение завести «шикарного» ребенка оборачивается издержками для вас (точнее, для вашего ребенка), а в целом остается неясным, есть ли тут выигрыш для кого-либо. Такой тип генетической гонки вооружений в особо трудное положение поставит тех, кто по религиозным или иным причинам не захочет вмешиваться в детские гены; они окажутся перед тяжелым выбором между своими принципами и риском сделать своего ребенка заведомо отстающим, если все вокруг будут прибегать к генной терапии.
Уважение к природе
Имеются вполне разумные основания уважать природный порядок вещей и не считать, что люди легко могут его улучшать с помощью точечного вмешательства. Истинность этого проверена по отношению к природной среде: экосистемы— это взаимосвязанные целостности, сложность которых мы часто не понимаем; постройка плотины или внедрение растительной монокультуры разрывает невидимые взаимосвязи и разрушает равновесие системы совершенно непредвиденным образом.
Так же обстоит дело и с человеческой природой. Есть много аспектов человеческой природы, которые, как нам кажется, мы очень хорошо понимаем и хотели бы, будь у нас такая возможность, изменить. Но улучшить природу — не такое простое дело; даже если эволюция и ненаправленный процесс, она следует беспощадной адаптивной логике, которая приспосабливает организмы к среде обитания.
Например, в наши дни политическая корректность требует возмущаться склонностью человека к насилию и агрессии и обличать кровожадность, которая в прежние эпохи приводила к завоеваниям, дуэлям и т. п. занятиям. Но для существования таких склонностей есть вполне здравые эволюционные основания. Понять хорошую и дурную стороны человеческой природы намного сложнее, чем нам хотелось бы думать, так как эти стороны тесно взаимосвязаны. В ходе эволюции люди учились, по выражению биолога Ричарда Александера, сотрудничать ради соревнования[15]. Иными словами, широкий диапазон когнитивных и эмоциональных свойств человека, на основе которого стало возможно достичь высокого уровня социальной организованности, возник не в результате борьбы человека с природной средой, а в межгрупповой борьбе. По прошествии длительного периода эволюции это привело к ситуации «гонки вооружений»: рост кооперации внутри одной группы заставлял другие группы точно так же наращивать кооперацию в бесконечной борьбе. Человеческая состязательность и сотрудничество образуют симбиотическое равновесие не только в ходе эволюции, но и в современных обществах и индивидах. Разумеется, мы надеемся, что когда-нибудь люди научатся мирно жить во многих ситуациях, в каких сегодня у них это не получается, но если баланс от агрессивного и насильственного поведения сместится слишком резко, то ослабеет и эволюционное давление в пользу кооперативных стратегий. В обществах, избавленных от состязательности и агрессии, начинается стагнация и прекращаются инновации; слишком доверчивые и кооперативные индивиды становятся уязвимы для более кровожадных.
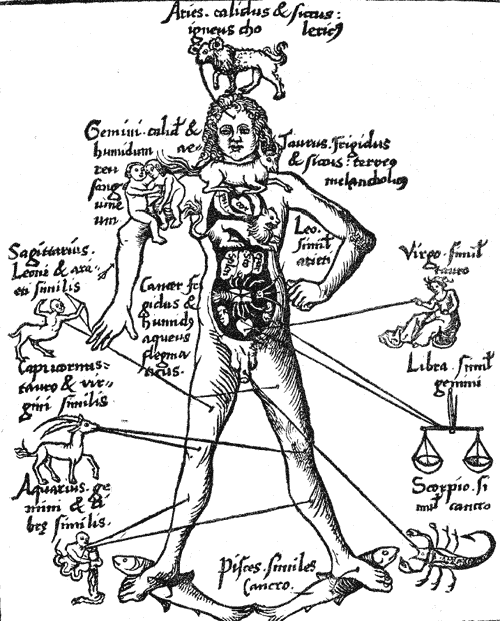
Так же обстоит дело и с семьей. Начиная с Платона, в философии считалось, что семья — главная преграда на пути к социальной справедливости. Люди — как предполагает теория родственного отбора — любят своих родственников независимо от их объективных достоинств. Когда возникает конфликт между обязательствами перед членом семьи и обязательствами перед безличной общественной инстанцией, семья оказывается на первом месте. Именно поэтому Сократ впятой книге «Государства» утверждает, что для идеально справедливого города нужна общность женщин и детей: тогда родители не будут знать своего биологического потомства и, следовательно, не смогут быть к нему пристрастны[16]. Поэтому же все современные правовые общества вынуждены вводить бесконечные нормы, запрещающие непотизм и фаворитизм на государственной службе.
И тем не менее, естественная предрасположенность к иррациональной родительской любви обладает сильной адаптивной логикой: если мать не будет любить своих детей именно так, кто же еще станет тратить те материальные и эмоциональные ресурсы, которые требуются, чтобы воспитать ребенка до зрелости? Другие институции — коммунальные и государственные службы — работают намного хуже, так как они не основаны на природных чувствах. Более того, в этом природном процессе заложена и глубокая справедливость, поскольку даже несимпатичным и неодаренным детям он гарантирует, несмотря на их недостатки, родительскую любовь.
По мнению некоторых авторов, мы, даже получив технологическую возможность фундаментально менять человеческую личность, никогда бы не захотели этой возможностью воспользоваться, так как человеческая природа в определенном смысле обеспечивает собственное воспроизводство. Мне кажется, что такие рассуждения сильно недооценивают человеческие амбиции и упускают из виду радикальность, с какой люди в прошлом пытались превзойти собственную природу. Именно из-за иррациональности семейной жизни все реальные коммунистические режимы видели в семье потенциального врага государства. Стремясь разрушить семейные связи, в Советском Союзе воспевали юного монстра по имени Павлик Морозов, который в тридцатые годы донес на своих родителей сталинской полиции. Маоистский Китай вел постоянную борьбу против конфуцианства, ставившего на первое место сыновний долг, и во время культурной революции в шестидесятые годы натравливал детей на родителей.
В данный момент нельзя сказать, какую роль сыграют те или иные из утилитарных аргументов против определенных направлений биотехнологии. Многое будет зависеть от конкретного развития этих технологий — от того, столкнемся ли мы с продлением жизни, несовместимым с поддержанием высокого уровня жизни, или же с генными технологиями, приводящими к страшным последствиям, которые проявляются только через двадцать лет после вмешательства.
Важно одно: мы должны скептически относиться к либертарианской аргументации, согласно которой нет причин беспокоиться о потенциально дурных последствиях, если евгенический выбор находится в руках не государства, а индивида. Обычно свободные рынки работают хорошо, но на рынках случаются и сбои, требующие государственного вмешательства. Негативные последствия сами собой не устраняются. Сейчас мы не знаем, будут ли такие последствия крупными или нет, но мы не должны отрицать их возможность из непоколебимого преклонения перед рынками и индивидуальным выбором.
Ограниченность утилитаризма
Хотя рассуждать за и против какого-то пункта, исходя из утилитарных принципов, очень удобно, у всех утилитарных доводов в конечном счете есть одно крупное ограничение, нередко в корне подрывающее их силу. Благо и ущерб, которые утилитаристы суммируют в своих приходно-расходных книгах, всегда сравнительно наглядны и незатейливы и обычно сводимы к деньгам или к какому-то явному физическому вреду для здоровья. Утилитаристы редко учитывают более тонкие пользу и вред, которые не так просто измерить или которые касаются не тела, а души. Легко сформулировать аргументы против никотина, имеющего отчетливые долгосрочные последствия для здоровья — такие как рак или эмфизема; труднее выступать против прозака или риталина, которые способны воздействовать на личность или характер.
В утилитарную схему особенно трудно включить моральные императивы, которые в ее рамках обычно рассматриваются как всего лишь еще одна разновидность предпочтений. Гэри Бекер, экономист из Чикагского университета, например, утверждает, что преступление — итог рационального утилитарного подсчета: индивид совершает преступление, когда выгоды от преступления перевешивают издержки[17]. Хотя такого рода подсчет, очевидно, объясняет поведение многих преступников, в пределе он, однако, предполагает, что люди захотят, например, убивать собственных детей, если предложить им соответствующую цену и гарантии безнаказанности. Из того, что подавляющее большинство людей даже не станет обдумывать подобное предложение, следует, что они фактически приписывают своим детям бесконечную ценность или что для них моральный долг принципиально несоизмерим с другими видами экономических ценностей. Иными словами, есть поступки, которые люди считают злом независимо от того, какие утилитарные выгоды можно от них получить.
Так же обстоит дело и с биотехнологией. Хотя вполне оправданно беспокойство о непреднамеренных последствиях и непредвиденных издержках, самый глубокий страх относительно данной технологии вообще не утилитарен. Это страх перед тем, что в конечном счете биотехнология приведет нас к утрате нашей человечности — т. е. какого-то фундаментального свойства, на котором всегда строилось наше понимание того, кто мы такие и куда мы идем, вопреки всем очевидным переменам, случившимися с человеком в ходе его истории. Хуже того, мы способны совершить этот переход, даже не осознавая, что теряем что-то крайне ценное. Мы можем просто оказаться на другой стороне великого водораздела между человеческой и постчеловеческой историей и даже не заметить, что перешли на другую сторону, потому что к тому времени уже перестанем понимать, что такое эта сущность.
А что же такое эта человеческая сущность, которую мы, возможно, рискуем утратить? Для религиозного человека она, видимо, связана с божественным даром или искрой, какими от рождения наделен каждый. С точки зрения светской, она связана с человеческой природой — т. е. с типичными видовыми свойствами, общими для всех людей, поскольку они люди. В конечном счете именно это поставлено на карту в биотехнической революции.
Существует тесная связь между человеческой природой и человеческими представлениями о правах, справедливости и морали. Так считали в числе прочих и авторы Декларации независимости. Они верили в существование естественных прав, т. е. прав, которые присущи нам как обладателям человеческой природы.
Однако связь между правами человека и природой человека не вполне очевидна, и ее энергично отрицают многие современные философы, утверждающие, что человеческой природы вообще не существует, а если она и существует, то этические нормы не имеют с ней ничего общего. Со времени подписания Декларации независимости термин «естественные права» вышел из моды и был заменен более общим термином «права человека», который уже не связан с представлением об общечеловеческой природе.
Я полагаю, что этот отказ от понятия прав, основанных на человеческой природе, глубоко ошибочен как по философским причинам, так и с точки зрения обыденной морали. Именно человеческая природа дает нам моральное чувство, снабжает навыками, необходимыми для жизни в обществе, и служит основой для более сложных философских дискуссий о правах, справедливости и морали. В конечном счете в связи с биотехнологией на карту поставлен не просто какой-то утилитарный подсчет издержек и выгод от будущих медицинских технологий, но сама основа человеческого морального чувства, которая оставалась неизменной с тех пор, как появились люди. Возможно, нам суждено, как предсказывал Ницше, выйти за границы этого морального чувства. Но если так, мы должны честно принять последствия отказа от естественных этических критериев и признать, как это признал Ницше, что такой отказ может привести нас в ту область, куда многие из нас вовсе не хотят попасть…
* Перевод с английского Григория Дашевского под редакцией Никиты Соколова.
[1] Из многих сочинений Рифкина о биотехнологии назову: Jeremy Rifkin. Algeny: A New Word, a New World (New York: Viking, 1983) и, совместно с Тэдом Говардом: Jeremy Rifkin and Ted Howard. Who Should Play God? (New York: Dell, 1977).
[2] Diane B. Paul, “Is Human Genetics Disguised Eugenics?” in David L. Hull and Michael Ruse, eds., The Philosophy of Biology (New York: Oxford University Press, 1998), pp. 536ff.
[3] Veronica Pearson, “Population Policy and Eugenics in China,” British Journal of Psychiatry 167 (1995): 2.
[4] Matt Ridley. Genome: The Autobiography of a Species in 23 Chapters (New York: HarperCollins, 2000), pp. 297–299.
[5] Robert L. Sinsheimer, The Prospect of Designed Genetic Change in Ruth F. Chadwick, ed., Ethics, Reproduction, and Genetic Control, rev. ed. (London and New York: Routledge, 1992), p. 145.
[6] Китайская политика «одна семья — один ребенок» и связанные с нею принудительные аборты стали предметом дискуссий в консервативных кругах США — см.: Steven Mosher, AMother’s Ordeal: One Woman’s Fight against China’s One-Child Policy (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1993).
[7] Virginia I. Postrel, The Future and Its Enemies: The Growing Conflict over Creativity, Enterprise, and Progress (New York: Touchstone Books, 1999), p. 168.
[8] Bacillus thuringiensis. — Примеч. перев.
[9] Mark K. Sears et al., “Impact of Bt Corn Pollen on Monarch Buterflies: A Risk Assessment,” Proceedings of the National Academy of Sciences 98 (October 9, 200l): 11937–11942.
[10] Проницательный анализ потенциальных негативных последствий биотехнологии см. в: Gregory S. Kavka, “Upside Risks” in Carl F. Cranor, ed., Are Genes Us?: Social Consequences of the New Genetics (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1994).
[11] Выдвигалось предположение, что мы сможем избавиться от проблемы согласия детей в генной инженерии, используя искусственные хромосомы, которые добавлялись бы к обычной генной структуре ребенка, но «включались» бы лишь тогда, когда ребенок будет достаточно взрослым, чтобы дать свое согласие. См.: Gregory Stock and John Campbell, eds. Engineering the Human Germline: An Exploration of the Science and Ethics of Altering the Genes We Pass to Our Children (New York: Oxford University Press, 2000), p. 11.
[12] John Colapinto, As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised As a Girl (New York: HarperCollins, 2000), p. 58.
[13] Colapinto (2000), pp. 69–70.
[14] Kavka, in Cranor, ed. (1994), pp. 164–165.
[15] Richard D. Alexander, How Did Humans Evolve? Reflections on the Uniquely Unique Species (Ann Arbor, Mich.: Museum of Zoology, University of Michigan, 1990), p. 6.
[16] Платон, Государство, книга V, 457 c.
[17] Gary S. Becker, “Crime and Punishment: An Economic Approach,” Journal of Political Economy 76 (1968): 169–217.