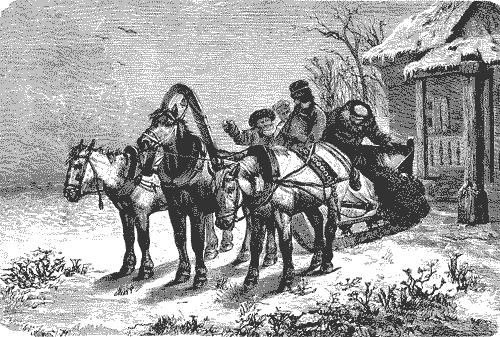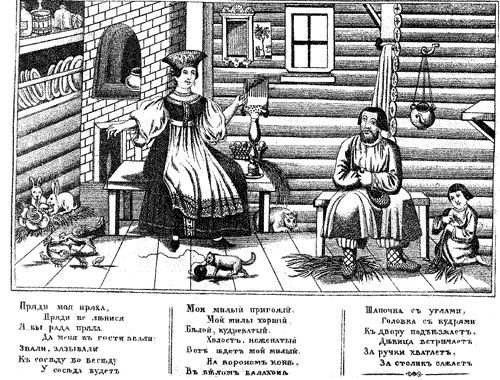Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 7, 2002
| Часть I. ПАТРИАРХАЛЬНОСТЬ И КАРНАВАЛЬНОСТЬ Житель кубанской станицы Привольная Михаил Голуб — обладатель таланта художественной речи и оригинального мышления. Пять лет назад я записал на диктофон пространнейшее интервью с ним. Полный текст, уместившийся на нескольких кассетах, представляет собой своеобразный поток голубовского сознания— народный сказ-роман, с перебивами тем, перескоками мыслей. Во время создания интервью рассказчику шел 50-й год, но выглядел он старше своих лет. Тут, возможно, сыграла роль его болезнь: уже несколько лет, как он находился на пенсии по инвалидности, связанной с его профессиональным заболеванием рабочего — газовика и нефтяника. Впрочем, своеобразное старшинство проявлялось и в его повседневной манере общения — экспансивного, эмоционального казака-кубанца. Мировоззрение Голуба отличается чрезвычайно высокой степенью импровизации и эмоциональности, оно наполнено легендами и гиперболами, вселенская открытость сочетается в нем с местной ксенофобией, жажда новизны с желанием сберечь прошлое. Михаил Голуб во многом является типичным носителем фундаментальных народных представлений, которые и озвучивает в своей индивидуальной артистической манере. Структурируя и сокращая голубовский текст при подготовке данной публикации, я обнаружил, что яркое множество его образов и идей все же поддается систематизации. Вот основные темы азартных голубовских рассуждений: 1) значение отца-патриарха — патриархальность, 2) многообразие социальной жизни — карнавальность, 3) особая роль хозяйских качеств — домовитость, 4) отстраненность трудящихся классов России от власти — маргинальность. В первой части этой публикации[1] представлены две первые доминанты голубовского мировоззрения: патриархальность и карнавальность. Что касается патриархальности, то, общаясь с Голубом, было невозможно не заметить, с каким волнением и трепетом Михаил Григорьевич рассказывал о своем отце. Неуклонное уменьшение значения власти отца в России последних десятилетий переживается рассказчиком как фатальное трагическое явление — главная причина деградации традиционного уклада жизни. Карнавальность — яркое, азартное, театрализованное поведение в социальной жизни — также непременная черта голубовского отношения к действительности. Будь то танцы, армия, работа — во всем рассказчик ценит красочность и, главное, сам принимает участие в лицедействе народного торжества. Патриархальность Род и ЧОН. Род мой казачий. Весь род казачий. Так вот и батька рассказывал. И фамилия моя то подтверждает — Голуб, а не Голубь. Голуб-б – это фамилия из запорожских казаков, а если возьми голубь — то это, похоже, под воронежцев. Апервоначально Кубань запорожцами заселялась, а потом воронежцами и другими. Откуда мой род по батьке произошел, я точно не могу сказать. А фактически, вся эта катавасия-закругление Батка-Маты — вся вот эта яишня, вся началась со станицы Полтавской Славянского района. Там это все заверталося. Батька там нашел мою матерь. А почему я деда и бабу и по батьке не помню, потому что батька этого не любил касаться, и всегда это его обижало. Батька мой воспитывался в детдоме. А его старшая сестра вышла замуж за богатого, но не могла батьку взять до себе, потому что у богатых лишнему едоку счет ведется, как говорится, чем богаче, тем грамотнивше. И исполнилось батьке четырнадцать лет, а он уже вставал на свои ноги. В четырнадцать лет его отправили учиться в школу. По своим годам и развитию он не подчинялся ни учителям, ни чему. И в шестнадцать лет его исключили из школы. И пошел он на собственные харчи. Он батраковал, то есть нанимался в батраки. Учился бондарному делу, плотницкому делу. Со скотиной был также, с коньми. Сама жизнь заставляла. Помню, бывало, кто едет на коне верхом. А батька на всадника глянет, и судороги бьют его лицо, желваки по лицу ходят. Видит же он, что неправильно конь заседлан, зауздан, что неправильно сидят на коне. Или, бывало, глянет на копыта, а конь не подкован. Батька уходит от огорчения в огород и ругается: «Тудыт твою мать! Ведь так же равносильно зимой босого человека выпустить на улицу, как не подковать коня». Батька не мог быть спокойным, он помнил, как в свое время выживал при лошадях. Жили мать, отец вместе с семьей дедушки и братом. Бабушка заболела первой. Она умерла. Потом дед начал хворать. Это все было с тридцать второго на тридцать третий год. Уже был голод, голод, голод. Ага. Болезни. Где голод, там и болезни. Таки дедушку забрало, унесло. Остались отец с матерью жить одни, а брата забрали во время голода… Да! Ведь в свое время к матери сватался Кондра, знаменитый казак. Про него книги написаны. Был он командиром полка кубанской конной дивизии. И он сватался за мою мать. Но ведь и Гришка Голуб тоже ухаживал за нею. А в то время выходца из детдома называли не детдомовец, а безбатьковщина. А раз безбатьковщина, то он может ножик вытянуть, саблюку или обрез. С такими хлопцами балакали на вы, потому что безбатьковщине море по колено. И такой мой отец стал ухаживать за Елькой. То есть звали мою мать Елена Павловна, фактически. Но по-нашему, по-станичному, ее звали Елькой. Так батька как-то сказал: «Я сотню таких, как Кондра, свалил бы, если бы кто-то стоял между мною и ею». И вот все они были друзья: Кондра, Ковтюг, Гладких, Загубибатько и мой батька. А Загубибатько был личным адьютантом у Рябоконя. В свое время они все были друзьями и служили в ЧОНах. ЧОН — часть особого назначения, а по нашему — объезщики. Ездили они солому да амбары охраняли, и водку пили прежде всего. Вот так без всяких военных академий рождались такие замечательные полководцы. Кондра — командир полка. Ковтюг — это командир дивизии, про которого написано в «Железном потоке». Все это рождалось туточки. Вот если ты знаешь книгу «Пути, дороги, плавни» — это как раз про гражданскую войну в наших краях хорошая книга. Бывало, читаешь ее, а потом у батьки спрашиваешь о прочитанном. А он: «Вот це неправда, то вот так было, а в основном правильно». Там описывается история атамана Рябоконя, как он в жиже навозной ховался, когда окружили его, и батька мой был в том деле. А банда Рябоконя творила страшное дело. То есть не одна тогда банда была, но Рябоконь был гроза. Он был за самостийную Кубань. Он всех не признавал, а только чтоб Кубань была отдельным государством. А ведь в наше время тоже доходим до этого. А таких, как мой батька, собирали по борьбе с бандами, потому что знали они плавни от а до я. Эти чоновцы все ж плавни в свое время исколесили, ведь плавнями они добирались из хутора в хутор, из станицы в станицу. Непросто было Рябоконя взять, и много людей полегло, прежде чем его взяли. Но Загубибатько — лучший друг Рябоконя, его адьютант и начальник штаба, его же, Рябоконя, и предал. Провел Загубибатько мимо дозорных секретов отряд по плавням к базе Рябоконя.
Берлин и Берзарин. На войне дошел мой батька до самого Берлина. В Берлине был контужен. А знаешь, что получилось со взятием Берлина? Был такой после войны фильм «Взятие Берлина», там на Эльбе американцы с русскими целуются. Ой,радости — на Эльбе встретилися! А мой батька непосредственно был участником тех событий. Он заплакал, когда эту картину увидел, встал и начал матюкаться в клубе. И все те бои вспомнил и сказал: «Где ж правда? Што ж вы правду не показываете?» Ведь начали нас американцы бомбить артиллерией, когда мы первыми к Эльбе подошли. Ведь у американцев приказ был отогнать русских от Эльбы, чтобы не дать Берлин окружить и чтобы в Берлин первыми американцы вошли с англичанами. Сколько же полегло тогда нашего брата! Нам дали команду не стрелять — там наши союзники. А те молотят по нас артиллерией! Не один полк, не одна там дивизия от американского огня легла, перед тем как лезть целоваться. Это безобразие продолжалось до те пор, пока не дошло дело до самого Жукова. Жуков дал команду: «А ну, братва, покажите союзникам, на что вы способны!» Як наши далы, так союзники побросали трофеи, тысячи винтовок, сотни машин и тикали с криком: «Братцы, братцы, русиш-братцы, це ж мы американьцы!» А потом тильки начали брататься, да фотографироваться, як они братаются. Вот это все батька рассказывал. Только до сих по ни хрена об этом не говорят, нигде это не показывают, нигде о том не пишут. А не только батька, но и покойный Свидерский там был, на той Эльбе. И Свидерский рассказывал, как по нам американцы из гаубиц шмаляли. Вот что творилось! А батю за тот рассказ опять арестовали прямо в клубе. Семнадцать суток он голодный просидел. Никто и не знал, куда он делся. Сказали: «Поносит власть». А ведь это, представь себе, было сразу после войны. Дивлюсь, как его за такой рассказ по тем временам не обезглавили. Выпустили его все же потому, что вся грудь у него была в орденах и медалях. Такой был мой старик (говорит с гордостью). В сорок пятом демобилизовался он в звании старшины. А вот еще был такой знаменитый генерал Берзарин — комендант Берлина. Писали, что он погиб, но не пишут, как он погиб, а погиб он на глазах моего отца. Отец лично был с ним знаком. Берзарин разбился на мотоцикле. Этот генерал был самым храбрым в армии, и о нем ходили легенды. Вот нигде в книге об этом не написано, а отец рассказывал так: «Приезжает Берзарин на “Вюлюсе” (“Виллисе”. — А. Н.) и спрашивает: — Почему не наступаете и то-то то-то не преодолели?! — Минное поле впереди. Ждем саперов, чтоб они нам дороги проделали, — ему отвечают. — Вам дороги нужны?! — газанул Берзарин на “Вюлюсе” и по минному полю помчался. Сзади него грохот и дым разрывающихся мин, и уж не видно ничего. А потом обратно слышен шум машины. Возвращается Берзарин — весь его “Вюлюс” осколками иссечен и все четыре ската его спущены, но дорога по минному полю проложена!» И вот Берзарин разбился на мотоцикле на глазах отца, а об этом нигде не пишут. А отец был лично с Берзариным знаком. А познакомились они вот как. Когда Жуков отдал команду о разграблении в три дня Берлина… Была такая команда, о которой тоже нигде не пишут, была такая команда. Тогда отец, помня, что у него три сына, добыл три ценных ружья: бельгийские и «Зауэр». Иготовился эти трофеи вести домой. А его «продали» — дошло это дело до Берзарина. А Берзарин отцу: — Поделись ружьями-то, мне ружье хорошее в подарок нужно. А отец ружья не отдавал. Тогда отца стали придавливать. И до того довели моего отца, что вынес он те ружья на улицу и стал их молотить об фонарный столб. Побил их в щепы, кинул их под ноги тем, кто за ними приехал, и сказал: «Теперь ими владейте!» За это его на следующий день повезли к Берзарину, чтобы посмотреть, что мой отец есть за такой вояка, что генеральским приказам не подчиняется. Привезли его до Берзарина и привели в берзаринскую приемную. Так Берзарин отцу сказал: «Я понимаю тебя и твой характер. Понимаю, что ты протопал до Берлина и тебе тоже что-то надо и твоим детям, но помоги и ты мне, найди ценное ружье!» И отец согласился, но… Но уже приказ был: прекратить мародерство! Понимаешь. Кончились те три дня, что Жуков отпустил на разграбление. Но отец все равно два ценных ружья привез домой, где-то он на хате у немца через друзей те ружья позычил. А уж подробности этого дела я не знаю. Но за эти ружья отца и дома стали давить — сначала милиция, а потом и райкомовские работники. Ценились после войны ружья. Азарт и грех. Вернулся он с войны. Здесь его хорошо встретили, но в колхоз он не пошел, потому что, понимаешь, война — она отбила всякую охоту от колхозной работы. И отец пошел на шабашки — дома ложить и гулять. Как мать рассказывала — гулял отец после войны страшно. Был он мужик смазливый — складет дом, что-то с того в дом принесет, чтобы семью поддерживать, а остальное прогуляет. Вот такая жизнь и пошла, и пошла, и пошла. И пошло все наперекосяк. То есть сразу после его возвращения они жили неплохо. Он когда ружья с войны привез, пошел в артель по отстрелу волков. Волков в плавнях развелось за время войны — страсть. Артель охраняла кошары, овец, коровники. Все было в почете. Но ведь, с другой стороны, где-то там по ночам скитается, а мужиков мало с фронта верталося, а богато вдовушек оставалося. И пошло… Вот был в Каневской шабашник Долына. Завзятый мужик, который тоже ложил дома, как мой отец. Конкуренция есть конкуренция. Завелись они друг против друга на одной пьянке. И Долына вместе со своими друзьми каневчанами побил моего батьку, мол, сделаем тебе так, что ты в районе никому ни одной хаты не сложишь. А батька той же ночью пошел и спалил хату, в которой был Долына, а двери дома проволокой закрутил, так что те из дома еле в окна повыскакивали. И пришел утром к Долыне и сказал: «Еще раз, что против меня, то я тогда и ставни дома проволокой позакручиваю — точно тебя спалю». Вот ведь Долына верховодил среди каневских шабашников, а отец его не побоялся и хату ему спалил. Начали отца по милициям тягать. А он уже в Привольной с одной вдовой познакомился и сошелся. А ее сын с войны тоже пришел. То есть не с войны, он с двадцать седьмого года. Но участвовал он в поимке всяких банд по Украине. Он у нее коммунист был, не дай бог. И он в Каневской был начальником паспортного стола. Он-то трошки и помог батьке уйти от той тюрьмы. А может, тюрьмы и совсем бы не было, потому что Долына батьке этот грех поджога простил. Вождь — телевизор. Да, плюс, в пятьдесят третьем, батька сложил новую хату, да поехал до друга своего фронтовика в Мариуполь. И оттуда привез «Родина–47» — батарейный приемник. Я до сих пор в памяти помню «смерть Вождя», которую мы по приемнику слухали, а также «суд над Берией». Помню я все это, досконально помню, как сидели мы пацанятами, то есть только в хату войдешь, а батька как цыкнет: «Сядь! Тудыт вашу мать. Цыц!» А слово же батьки тогда было закон. От такого приказа батьки — «где встав — там и упав». И была тогда зала полная в плотницкой. Набито полно людей — соседи, мужики, — все радио слушают. А еще батарейки седают, их негде было взять. Приемник еле шовкотит. Так там такая тишина стояла, что если муха летит, то и там ее рады съесть, чтобы слухать не мешала эту «смерть Берии», то есть «суд над Берией», а «смерть Вождя»… А сейчас телевидение всех разлагает. Этот долбаный телеящик. Запиши, что я один из тех патриотов, который если б ему в руки попался тот конструктор, который придумал телевизор, я ему б отрубал то, что у него меж ногами телепается. А так и у меня в хате стоит два телевизора. Ну, так если поздно, то я телевизор выключаю, чтобы все шли спать. А если сексу показывают и хочется подывиться, то я опять телевизор выключаю, чтоб не стыдно. Я ж не могу, ведь дети сидять роты пораззевляли и рядом — батка, маты. Ведь кто-то должен быть умнивше, покрайней мере. Уж если у нас иерархия кончилась казацка и если дите от телевизора не уходит, то уж мне ему надо показывать пример: «Ты дывись, ведь батька уж от телевизора уходит! Ему стыдно с тобой перед телевизором. Так другой раз ты уйди и не дывись на то кино». Хотя я и за то, чтобы вволю высказаться, поговорить на любые темы по телевизору, чтобы правительство покритиковать и вовремя его сменить-выгнать. Но с другой стороны, надо давить всяких гадов с телевидения, из-за которых неизвестно куда деваются все наши обычаи, наши нравы, это уходит в небытие ине ворачивается, оно же не ворачивается (произносит это с тоскливым надрывом). Кто б из народа ни пытался вернуть себе старое — никогда его не вернешь. Карнавальность Детство и школа. После войны мы: Сережка, Ванька, Петька, я — у матери на плечах. Она с ранья уходит — за трудодни робить, а мы… Вот ходил я во второй или третий класс и у деда старенького… А может, мне казалось, что он старенький, может, он был, как я сейчас. И у деда старенького пас свиней. Дед просил меня — я вроде росленький такой был — и еще кой-кого, чтобы мы были как подпаски. И вот дед сидит под лопухом в холодке и командует: «А ну беги, беги, заверни ее… а теперь туды беги заверни…» И вот за день так выбегаешься, что и ноги полопаются, потрескаются. У нас от грязи, от солнца — от всего, на ногах возникали, как у нас называется, курчата. Они потрескаются, полопаются — нельзя спать. Все пятки в колючках. И вот маты приходит с дойки— а мы спим. Не покупаться нам, не помыться — нигде ничего. А жили мы на скотной ферме в таком бараке саманном, нет там ни газа, ни еще чего… Вот и представь себе семья… Тот (отец. — А. Н.) бросил нас… И вот так мы жили — старшие братья приглядывали за меньшими. А на ферме-то мы жили на «беспривязном содержании» — бегали, в войну играли холодные да голодные. Ну, кино раз, два раза в месяц привозили. Свет до десяти — потом потух. Мать с фермы придет — в хате бардак, кругом бардак. Перепорет она нас тамочки, понаказывает. Выходим, представляешь, четыре пацана — выпроваживают в школу нас. Яиду в первый класс, Гришка — в третий, Ванька — в пятый, а Сережка в седьмой. Такой кодлой идем. Никаких у нас портфелей, а идем с пошитыми сумками, в них чернильницы неналивайки-непрокидайки, перья, карандаши. А когда я пошел в школу, то зимой пятьдесят третьего закидало дома снегом. Так пока мы дойдем до школы — нашкодничаем. Бабкам снегу в трубу накидаем. Тут случилось, что встречался старший брат Ванька там с девчонкой на ферме— она забеременела. Женился наш Ванька до армии, представь. Представь теперь, что нас кодла в комнате на ферме и к нам Ванькина семья прибавилась. Итак, Ванька женился, и нас: Ванька, его жена Валя, Сережка, Петька, Мишка, мать и все вот в такой комнатушке, как эта. Представляешь себе, какое у нас было общежитие. И еще так получилось, что и Ванька сироту за себя взял. А школа на ферме была только до четырех классов. И в пятый класс мне пришлось пойти в Каневскую. А от фермы до Каневской три с половиной километра. И по Каневской до школы четыре километра. И вот ты не поверишь, что пятый и шестой класс я проходил этот путь пешком. Ходил я с фермы, посадками, зимой в дождь, снег, мороз. Прихожу в школу, снимаю с себя сапоги. Были они какие-то парусовые. Учительница садила меня до печки. Я вот так клал ноги до печки. Учительницу звали Нина Матвеевна Сидоренко. Никогда в жизни не забуду эту женщину. Она мне выше чем мать была. И сижу я так за первой партой, грею босые ноги, касаясь ступнями печки (портянки мои тоже греются возле печки). А тогда же в школе и везде не было парового отопления, а в каждом классе стояла печка. Ее углем топили. Вот так грею я до печки ноги и рассказываю предмет. Нина Матвеевна была у нас завуч и вела русский и литературу. Это была женщина с высокой буквы. Ну, вот так я в школу ходил: снег, наплачусь от того, что в сумке наберется снегу, руки замерзают. Вот так ходил я в школу. А из школы выйду в час, когда кончаются занятия, пока дойду до дому — уже темно.
Горит на ферме лампа. Попробуй написать уроки вот в такой кагали. Потому что не выучу урока, приношу до дому опять двойку. А оставаться делать уроки в школе — не успеваю до ночи вернуться домой — страшно идти посадками да лесополосами. Страшно — чего с ребенка взять. И вот так я ходил в школу. Закончил я так шестой класс, а ни черта не получается у меня со школой, с занятиями. Оставили меня на осень в шестом классе. Вызвали меня тогда в школу, и мне тогда Валентина Матвеевна говорит: «Если дашь слово, что ты не пойдешь в седьмой класс, я тебе дам документы об окончании шести классов, а если нет — то я тебя оставляю на второй год». Я пришел домой и рассказал это все дело. А нас братьев кагала бегала. Все про нас говорили, что из нас растут бандиты. Кирилл Иванович Лапшин как-то говорил (а был он заводила-казак, и работал, кажется, зоотехником на нашей ферме): «Если бы мне кто-то сказал, что ни один из Голубiв в дальнейшем не будет сидеть не то что в тюрьме, а даже никто из них пятнадцати суток не получит, то я бы в то время такого пророка или вилами заколол, или его морду заплевал». Пойми, ведь мы были беспривязные. Мы могли залезть на коровник — сычей драть — и скирду запалить. То ночью на ферме свиней мы выпустили, и свиньи поразбегалися по плавням да камышам. Вот такое мы творили. Но ведь некому было за нами смотреть, некому. Но таких глупостей, чтобы к кому в дом залезть, то от этого боже избавь, не было того. А вот сычей драли на ферме. Залезем на крышу камышовую. Спички запалишь, а сыч сидит. Старики сами виноваты, что нам объяснили, как сыч ночью бачит, а днем нет. Так сычу надо под глаза засветить спичкой, чтобы он не бачив, когтями не вцепился, а тогда и хватать его, сыча. Но крыша-то из камыша, а под крышей паутина. Только спичкой пых — паутина пых — крыша пых. О! — корпус горит коровный. Ну, понимаешь, как у ребенка: хочешь сделать одно, а получается другое. Вот такие были у нас шалости. Но мы же кодлой полезли не специально, не специально подпалили. Мы только хотели сычiв наловить, потому что вечерами-ночами они орут, а это жутко. Вот такое у меня детство было. И на нашем консилиуме обсуждали слова учительницы Нины Степановны, которая мне сказала: «Дай слово, что не пойдешь в седьмой класс, — я дам тебе свидетельство об окончании шести классов. Всеравно из тебя профессора не получится. А лопату-вилы в руках держать — хватит тебе и шести классов». Ведь по мне специально комиссию в школе создавали, которая на нашу ферму приезжала. А как глянут члены комиссии на условия жизни, то и скажут: «Куды там ему, бедному, учиться». Веришь, не ругали даже меня в школе, не наказывали. Понимали в школе, что не было у меня никакой возможности учиться. Придешь из школы, а старшие, которые уже роблят, поели. Значит, мне от них осталось два-три кусочка хлеба. Старшим же надо робить, им же надо хоть трошки чего-то поесть. А я приперся голодный, бросил сумку (что вместо портфеля) на настил, помчался га-ца-ца по улице. Доярки приходят в десятом часу. Маты нас загоняет в одиннадцать или пол-одиннадцатого. Электричества нема, одна керосиновая лампа горит. Упав я — переспав. Утром матери на дойку идти, она меня будит в школу. Встав я, глаза протер, взявся за ту сумочку и попер в школу. Снег, мороз, ветер, — а я, как Филиппок, потопал по посадкам… (тяжко вздыхает). Эх, блин. Если б жрать было где, спать было где, было бы за кем учиться(а никто вокруг меня не хотел учиться)… а у меня не было тогда никакой возможности учиться, ну никак… Кажут, что до войны был голод, так я его после войны бачив, усе это я на себе испытал. И судьба: в Привольной в школу ходил — до учителей, до школы привык. Раз, сорвали меня в школу на ферму. На ферме учился, учился — сорвали в каневскую школу. С Каневской опять же в Привольную. В Привольной в школу пошел, а тут мой отец Григорий Пантелеевич кажет: «Слухай, тебе уже пора девчат осеменять ходить, а не рассказывать мне по физике: шуба греет иль не греет». По возрасту развития всех я превосходил, но нигде меня не понимали. Тогда я брался за кулаки и… Я, бывало, приду в клуб, кто мне не понравился, того я измолотил, нагнал, напшандав, поразгонял весь клуб, к чертовой матери! Сам я король: хочу люблю — хочу наказываю! Вот такая жизнь была. А позже, срежешься с начальством по работе, где молодежь, окончившая институты, мозги мне пудрила и говорила: «А кто тебе не давал учиться?!» Думаю: «Е… Ах ты козел! Если б ты хоть частицу, хоть сотую часть глотнул того, что я в жизни глотнул, что на мою судьбу пришлось, тогда что бы ты пел?! Ты в достатке рос. И то, думаю, твой папа не одного кабана вырастил да отвез в институт, чтобы ты диплом получил. А я без диплома тебя, б…, запну за пояс и вытяну сухим в штанах. Ты мне расчеты подскажи, а дальше я лучше тебя соображу, потому что я со своей колокольни все увижу и почувствую, а ты будешь этими голыми формулами срать. Формулы — оно хорошо, но без практики и формулы — не формулы. Просто у нас в стране политика така… Ну почему, если человек с детства вундеркиндер, но из рабочих и колхозников и не имеет диплома, то ему все — хода нету, только вилы и лопата. И сколько мне таких талантливых ребят встречалось. И это меня бесит. Вот и коснулись мы образования. Танцы и драки. Когда я рос и подымался, то ходил в художественную самодеятельность, что мне очень нравилось. Танцевальный кружок появился в клубе. Вот где сейчас стоит хозмаг, там стояла аллея деревьев. А за деревьями стоял клуб, который потом сгорел. Потом новый клуб построили, там, где он и стоит сейчас. А где сейчас плошадь, там стадион и частично парк были. Там был столб, а к столбу была подведена такая маленькая лампочка. Выносили из клуба стол, ставили на него усилитель, динамик с кинопередвижки. И был специальный ответственный по пластинкам рентгеновским или какие кто ему достанет. И крутили там те пластинки. А тут круг танцующих возле столба: пыль столбом — лампочки не видно. А мы танцуем прямо на стадионе. Тогда модная песня была: «Ка-а-а-рамба, синьоры!» Это, понимаешь, такая заграничная песня: «Ка-а-а-рамба, синьоры!» Ай,давали мы, не дай бог, по этой пыли. Ага. И приходили мы на танцы независимо: дождь на улице — не дождь. В парке была танцплощадка. Но в парке не так танцы клеились, потому что в парке часто заводились драки. Парк есть парк, там деревья туда-сюда. А вот на площади, которая была-то всего в пятидесяти метрах от парка, было не так. Здесь, на площади, было все на виду. Кто-то на мотоцикле га-ца-ца подъехал. Кто-то на велосипеде. Стоят ребята постарше — курят, выбирают, кто до какой девчонки пойдет, кому морду набить, это их проблемы. А мы, шавки, здесь траву вытаптываем — учимся вальсировать. Вот где вольно было. Дружно жили. А край на край дрались. Но не то что там какая-то там вражда была, злоба — нет! Нет. Тут надо понять тонко. Как-то об этом глубоко не задумываются, а говорят: «Да там же цепками дрались, ой, не дай бог». Но говорю, что тут надо понять тонко. И я сейчас с своего возраста, со своего понятия говорю, что не было вражды. Например, мы с ним можем в Каневской встретиться выпить. А потом у переезда стоим ждем попутной — автобусы не ходили, асфальта не было. Асфальт провели только где-то в пятьдесят восьмом году на Каневскую. Было бездорожье— лошадьми, быками ездили. И вот встретимся мы с ним… Ну не нами это было заведено, это в крови было. Ну вот были же по истории кулачные бои. Ведь до этого праздника кулачных боев жили нормально — мирились, дружили, пили. А вот как праздник, то рукава закручивают, и пошло мордобитье. И здесь у нас было то же самое. Вот днем мы встретились нормально, а вечером пошел он на наш край до девчонки, но ведь не имеет права без нашего разрешения. Он даже, может, мой товарищ, но я не имею права за него заступиться, потому что он не с нашего края. Наши краянцы станут перед ним, а потом его и отпорют. Да, драки были. И коллективно били, так, что одного человек пять-шесть молотили. Но ведь он после этого приходит на танцы, ну синяк у него под глазом и где-то шишка какая. Но ведь не так это было, как сейчас, когда люди-звери до смерти убивают. Мы человека носоками (ногами. — А. Н.) не били. Если человек упал, то в жизни его но соками не били. Мы о том понятия не имели. Это ж дико было. Кулаками орудовали, зубами за ухи грызлись и за что попало, но поножовщины не было. И вот тебе говорю: побили человека, а он после этого на танцы приходит. И не злоба это была, а не нами писаный закон. Вот когда я в Каневской жил, когда мы в Каневской хатку купили как раз на берегу речки, то тут как раз проходила граница между станицей Стародеревянковской и Каневской. Через речку была кладка из досточек от пенькозавода сделана. Ходили по ней люди туда-сюда. Вот люди и ходят летом, в Стародеревянковскую ходят учиться, оттуда в Каневскую ребята приходят — все нормально. Как только лед стал, что держит человека, — все! Каневская и Стародеревянковская — враги! Это не передать тебе! Рогатки, чугунки, маленькие булыжнички, чтоб точнее бить. А глаз там повыбивали, не дай бог!
Вооружатся цепками металлическими, палками — и вперед! Это бойня!! (Говорит об этом с восхищением и ужасом.) Это не передать!! Ах, если б тебе то время на кинокамеру заснять, это не дай бог! Это страшное дело! Догоняют, цепком тебя по голове бах! Коньки с тебя срежут, а их, коньки, нигде не найдешь, потом поджопника дадут. А, попался?! Тут им навстречу кодла прет. Были такие случаи, что соберутся стародеревянковцы и гонят каневчан до самого вокзала, по пути все на своем пути вычищая. Ах, так. Дрались между собой в Каневской края: Мерлинка, Бакай, базаряне, вокзаляне, северяне, но в таком случае все края у пенькозавода собирались-объединялись — в руках цепки, каменья, и вперед на Старую деревню! Як захватим мы Стародеревянковскую, аж до сахарного завода гоним их по полям, по снегу! Тут их старики вылетают из домов с вилами, с косами; ружья идут в ход. Это они свою молодежь защищают. Милиция приехала. Милиционеру голову разрубали, пистолет у него отняли. Начали тренироваться этим пистолетом — один другому в ногу попал. Эдик Плохой после этого выстрела так по жизни всю дорогу хромал — раздробили ему коленную чашечку. Калына первый раз в жизни пистолет этот увидал — клац из пистолета и в ногу Эдику. Страсть творилась! Участковый ехал на линейке, так его чуть вместе с лошадью под воду не скинули — не подходи никто! Лето наступает — все! Труба. Каневская и Стародеревянковская опять братья. Люди ходят туда-сюда по магазинам и за молоком по кладке через речку — мир. Но только лед встал — опять война. А вот дядя Андрюша Птах рассказывал, которому сейчас 85 лет, что он еще пацаненком своему деду, не батьке, а деду, камни носил на лед. Уже в то время сражалися! Мало того, что батьки сражалися, еще и батьки этих батьков дралися! Но в наше время дралась только молодежь. Старики выходили и чертей давали только, когда одни других совсем припрут. А на лед старики не выходили, так стояли на берегу и покуривали: — А шо это, тудыт твою мать, этот выехал на лед?! — Тихо. Да то Черный выехал на лед! Было событие, когда Черный на коньках выезжал на лед. Он лет пять-семь в тюрьме сидел. У него были гоночные коньки, которые назывались «ножи», это не обычные «дутыши», а «ножи». На «ножах» особый шаг. И ехал Черный с цепком. Ты шо? Это же Черный, который пять лет в тюрьме сидел! Сейчас ну шо такое пять лет в тюрьме? Ну дал такому шалбана, если обстановка позволяет. А тогда одно слово «втюрьмесидел» страх какой нагоняло. И только Черный за камыши уедет, как опять понеслось «а-ля-ля-ля»! Опять кодла по берегу несется, и коньки не успеваешь снимать, чтоб бежать от этого. Ну, я-то сразу успевал, потому что тiлько от берега и третья хата моя. Я успевал забежать в огород, в хату. И отсиживался в хате. И только чуешь, как мимо тебя «га-ца-га-ца-га-ца» толпа побигла туда по улице. Обратно их погнали — и я из хаты выскакиваю. Были такие жизненные моменты. А сейчас такого нэма ни в Привольной, ни в Каневской. Сейчас если соберутся, то анашу покурить, будь эта анаша триста лет проклята и проклят тот, кто ее придумал. Я бы его четвертовал, как в свое время четвертовали Емельяна Пугачева. Кино. Телевизор — как же он людей разобщил. Вот говорят, что хорошо лечь перед телевизором, после того как в колхозе намушакаешься-намудыкаешься. Но ведь и раньше мушакались, но раньше и тяжельше было, потому что было меньше техники — комбайнов, тракторов; на фермах вручную тележки с навозом вывозили и чистили все вручную. И чистили коров, и мыли, и постилали им, и убирали за ними— да что там говорить! — это не пересказать. Очень тяжело было. Но! Но всегда, когда хорошее кино… Расскажу по порядку, как было. У нас в Привольной два раза шел сеанс: в шесть и в восемь, а зимой в четыре и в шесть. А если хорошее кино, то его оставляли на второй день и во второй день крутили, потому что массы людей все на кино забивались. Ты не поверишь, до чего у нас в Привольной доходило. Были такие бобины-кинопередвижки узкопленочные «Украина», и арендовали люди у старушек дворы, чтобы не нужно было ходить далеко в центр. Вот арендовали какой-нибудь двор на моем краю, а там – за городком нефтяников, и на том краю, и на том. Экран вешали прямо во дворе у хозяина-частника. Каждый приходил со своей табуреткой. Киномеханик стоит у калитки билетами торгует по двадцать копеек; наторговал — т-р-р-р — киноаппарат запустил. Комарiв вокруг, коровы мычат, свиньи хрюкают — сидят два десятка человек, дивятся, как крутят кино. Вот, представь, какая была жизнь! И в центральном клубе кино — и тут такое кино. А какие, помню, фильмы привозили! — «Мамелюки», «Крестоносцы». Это были первые широкоэкранные цветные фильмы. Такие фильмы и во дворе школы крутили, где экран был не как на крестьянском дворе — три на четыре, а шесть на восемь — огромнейший экран. Вся станица на такое кино прет. Это уж с района привозили, чтобы только раз крутнуть, а больше — нет. И этот «раз» вся станица должна посмотреть — а больше нельзя. И дивилась вся станица на «Мамелюков», «Крестоносцев», и был еще тогда такой фильм, как щас помню,— «Великий воин Албании Стендебек». Какие же это были прекрасные фильмы — какие там были герои! И вот толпами люди шли фильмы смотреть — и это была жизнь вообще… (Михаил Григорьевич погружается внутренним взором в воспоминания — пауза.) …Ипыляка вокруг, и комары, а люди про это забывали, когда там рубака саблей-мечом ворочал. А нынешнего, чтобы ногой «кия!» — этого не было.
Вот возьми «Александра Невского», когда там, помнишь, этот оглоблей по шлему рыцаря, то все люди вздыхали: «Это по-нашему, по-кубаньски! О, це дае! О, це дае!» Это ж разговору на неделю хватит: «А как там мужик дуже дэбэлый оглоблей по голове рiзал?!» — и вот это было общение, вот это была красота. Армия. А как же я рвался служить… Вот щас я удивляюсь: не хотят идти служить. Боже мой, в наше время слово «дымарь», которое означало, что человек не служил, это было не дай бог. И как так, представляешь, нас пять братьев, трое уже отслужило моих родных, и сводный брат отслужил. И как же так я не пойду служить?! Не дай бог! Из Краснодара везли нас поездом семь суток. Едем поездом и письма пишем. И ведь доходили все наши письма. И Дуся, и отец мне эти письма показывали — все доходили письма. Представь, шел наш эшелон, а в нем тысячу двести человек призывников. Все эти пассажирские вагоны закрыты на ключи. В каждом вагоне по пять человек сержантов и офицер. Окна и двери категорически нам не разрешают открывать. Как где только останавливается наш эшелон, так его — и откуда они берутся? — оцепляют солдаты в два ряда. Словно зэков нас охраняли. Ночью мы ехали, а днем стояли. И вот доедем до какого-нибудь города-станции — тайно выглянешь в окошко и выбрасываешь письма. Так ведь как снег летели-улетали наши конверты. А люди шли и подбирали, подбирали, подбирали наши конверты. Вот сейчас, блин, гарантирую, что пройдет всяк мимо того конверта и затопчет его и не поднимет. А в то время все три мои письма таким образом дошли. Помню, стояли мы в каком-то тупике и проверяли у нашего состава колеса. Подошел к нашему вагону мужик, а мы его просим: «Батя, водки принеси». Он руку протянул, забрал наши деньги, пошел. Час прошел, два — его все нету. Мы: «А, все ясно, запей ту водку водой. А ведь жменю ему целую денег дали». Вдруг прет! Вот такую сумку нам прет! Тихонько ту водку в окно подает, чтоб никто не видел. Да щас разве кто тебе так отоварит кучу грошей? — Нет, с этими деньгами и убигнет. И ехали мы Орел — Минск — Вильнюс. Из Вильнюса в Каунас, а оттуда нас автобусами развезли по воинским частям. И попал я служить в войска ПКО (ПротивоКосмическая Оборона). Это были сверхсекретные войска, и писал я домой такой свой адрес: «В/ч 19561. Комбинат Скрунда». Якобы строили мы охладительный комбинат. А фактически строилась новейшая воинская часть. И на разводе дежурный по объекту, то есть по этому самому «комбинату», объявлял: «Приступить к боевому дежурству по охране воздушных и космических рубежей Союза Советских Социалистических Республик». Был у меня там один плюс, ведь я на гражданке сильно в художественной самодеятельности участвовал. Наша воинская часть была новая, еще недоукомплектованная. В нашем клубе имелись рояль и три баяна. Но организовать вокруг них самодеятельность некому было. И вот мне повезло, что я организовал танцевальный коллектив. Ваня Щипанов организовал баянистов. Вот только не было у нас костюмов. А я поставил гуцульский танец, который мы танцевали еще в Стародеревянковской. Для этого танца на наши армейские кальсоны жены офицеров понашивали такие разноцветные канты, обвязали все это вот такими тесемками, на нательных белых рубашках понашивали косоворотки, и получились из нас гуцулы. Так мы так удачно выступали в этих костюмах, что чуть не послали нас с этим танцем в Ригу. Но кто-то ляпнул командиру части, что мы танцуем в кальсонах, и он такой разнос всем закатил, что заведующий клубом бегал от него со слезами на глазах. Но к тому времени мы уже успели дать концерты в кальсонах и в Лиепае, и в Балтийске. Хорошая у нас была художественная самодеятельность, потому что часть была новая и много в ней было молодежи. Дедовщины никакой у нас не было. Я так и не успел понять, что есть дедовщина. Эх, спортили нашу армию. Грачев ее уничтожил. Это я при нем самом скажу и под любой пыткой с секирбашкой. Тогда ж при тех министрах обороны, при Малиновском, при Гречко, тогда, знаешь, какая ответственность была. Знаешь, как тогда на боевое дежурство заступали? Эх… Комиссия. Когда у нас на работе создалась комиссия при Горбачеве по борьбе с трезвостью, то есть с пьянством, то… Я не говорю, что я какой-то эталон, ведь выпивать я выпивал и организовать это дело всегда мог. Недаром же мне в армейской характеристике написали, что я мог работать массовиком. Выпивка всегда лежала на Голубе. Так оно и было. Десять дней нет меня. Приеду на день, на два, а потом опять в командировку. А в день приезда в командировку обязательно пьянка, обязательно. И в дороге пьянка. Вот пошло, почалось и поехало. И вот такой я был организатор. Так вот когда создавалась комиссия по борьбе с пьянством — за трезвость, замначальника АТП выступил и сказал: «Я предлагаю выбрать председателем этой комиссии Голуба Михаила Григорьевича. Я с ним проработал двадцать пять лет вместе. Я за эти двадцать пять лет, даю вам слово, ни разу не видел и не слышал от Голуба запаха алкоголя». Хлопцы так и заревели: «О, Голуб пойдет! Это свой кадр! Голосуем!» И все лебедчики, агрегатчики, машинисты ведь знают, что в командировках кто разбирается лучше всех в том, где какая шинкарка живет; у кого самогон хороший, а у кого плохой; где та продавщица, у которой водки можно купить в двенадцать часов ночи. И есть такие продавщицы, что и ночью тебе магазин откроют, а потом попросят: « Достаньте цементику, ребята, или кусочек трубы на стройку дома». У нас же и цемент и трубы. Все всё знали и потому голосовали за меня. А начальство ни разу не видело меня поддатым. Вот сидит врач — проверяет давление, когда вменили в обязанность врачам проверять. Ни разу у меня спотыкуна не было. Я в субботу позволял себе выпить. В воскресенье я позволял себе похмелиться. Все. В понедельник встал утром, борща покушал, зубы почистил. На медицинской проверке даваление в норме! И свежая у меня голова. И никогда в жизни я не нарушал эту трезвую обязанность. Я сам себе навязал это. Ну, если была такая гулянка или свадьба, где я сорвался, допустим, то я в понедельник звоню по телефону диспетчеру: «Равиль (был у нас такой татарин), дорогой, слушай, я не могу сегодня выехать на работу, а причина — не по телефону. Скажи начальнику, что я в порядке, здоров, но такие сложилось обстоятельства, что хоть волком вой. Завтра я буду на работе». А сам быстро на попутную, ловлю свою бригаду, едем в автобусе, продолжаем похмеляться, приезжаем и работаем. Аво вторник я звоню обязательно на работу: «Равиль Акаевич, не беспокойтесь. Я ночным поездом, но добрался до работы. Все в порядке. Подмену мне присылать не надо». Они от радости, что я на работу вышел, на жопе волоса рвут — они рады, что мне теперь подмену посылать не надо. И думают обо мне: какой дисциплинированный, видно, что-то дома было, а он все равно на работу вышел. И мастер на меня не жалуется, потому что в понедельник я все-таки вышел на работу. [1] Вторая часть публикации — в следующем номере «ОЗ». |